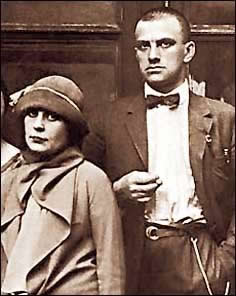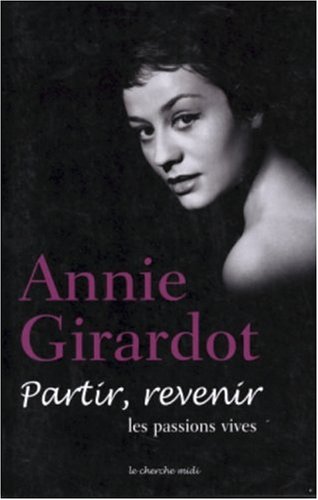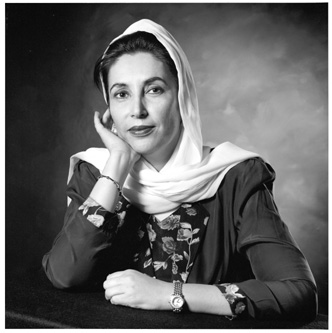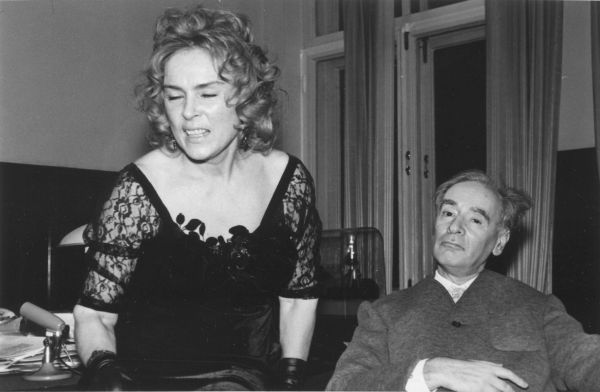-
ЖЕНЩИНА И МУЖЧИНА ГЛАЗАМИ РАЗНЫХ ЭПОХ
-
-
В детстве у моей сестры было два совершенно «железных» аргумента, благодаря которым она всегда выходила сухой из воды наших ребячьих разборок: ее возраст и ее пол. Она была довольно непоседливой и боевой девчонкой и частенько меня «доставала». За что, естественно, получала по полной программе. Родители, заслышав ее плач и, как правило, особо не разбираясь, призывали к ответу меня. На все возражения («она же первая начала», «я ее вообще не трогал бы, если бы она сама бы не» и т. д.) я всегда слышал одно и то же: «Она же младше, она же девочка». В глазах родителей это извиняло любую провинность. Вскоре так или примерно так стал считать и я, тем более что бережное отношение к женщине прививала нам не только семья, но и школа – что бы сейчас ни говорили о недостатках советской педагогики.
-
Впервые с другим отношением к женщине я встретился, открывая для себя Америку. Будучи в Сан-Франциско, я отправился на пикник с моими американскими друзьями. Одна из женщин несла тяжелую сумку с продуктами. Практически машинально (советская школа!) я предложил ей свою помощь. Она охотно согласилась, но минут через двадцать спросила у меня, не устал ли я. На что я – опять же не раздумывая – веско заявил: «Ну что Вы! К тому же, в этом смысле между мужчиной и женщиной недаром существует разница!» Дальше случилось то, чего я никак не мог ожидать. Моя спутница практически вырвала у меня свою сумку и жестко отпарировала: «Никогда никому в Америке больше этого не говорите!». Так я впервые пережил то, что американцы называют культурным шоком – встречу с неожиданным.
Наверное тогда я впервые задумался, что тот ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ, который сложился в моей голове, отнюдь не единственный, что он меняется с разными странами и разными эпохами. И поскольку стран мне пришлось пока объездить меньше, чем перечитать книг об эпохах, предлагаю небольшой экскурс в историю культуры.
-
А БЫЛ ЛИ МАТРИАРХАТ-ТО?
Большинство известных нам древних культур – культуры патриархальные, т.е. такие, в которых мужчина занимал господствующее положение в семье, роде, государстве.
Что же касается матриархата – общественного устройства, в котором главенствующее положение занимает женщина, то на сегодняшний день представления о существовавшем когда-то «царстве женщин» являются научным анахронизмом.
-
Хотя, по мнению некоторых специалистов, существование матриархата подтверждается некоторыми древнейшими мифологическими сказаниями. Прежде всего речь идет о встречающемся во многих древних культурах почитании женского божества – великой богини-матери, какой была, например, древнеегипетская Исида. Согласно мнению современного православного богослова диакона Андрея Кураева, свидетельство о матриархате встречается даже в Библии! Именно так, считает профессор Кураев, следует интерпретировать знакомую всем фразу ветхозаветной книги Бытие: «Оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей; будут два одна плоть» (глава 2, стих 24). В словах о том, что именно мужчина оставляет семью и приходит в дом к женщине – а не наоборот, как было в большинстве последующих культур, – православный богослов видит указание на матриархальный порядок устройства общества.
-
Действительно, рассказ о творении не дает никаких оснований для устоявшихся на бытовом уровне представлений об изначально бесправном положении женщины. Некоторые мужчины любят шутить, что женщина сотворена из ребра – единственной кости, в которой нет мозга. Однако эта шутка не имеет никакого отношения к библейскому повествованию, да и остроумием особым не отличается. Остроумие – это ведь острота ума, а умному человеку пристало бы знать, что древнееврейское слово «цела», которое в русской Библии переведено как «ребро», означает не только ребро, но и часть, грань. В данном конкретном случае – эмоционально-чувственную грань, более тонкую душевную организацию, которая отличает прежде всего женщину. Поэтому с помощью этого примера можно доказывать не столько превосходство мужчины, сколько обратное.
-
Потом с первыми людьми, согласно библейскому повествованию, происходит трагедия. Не будем сейчас вдаваться в подробности библейского рассказа о первородном грехе. Отметим лишь то, что результатом грехопадения стал не только разрыв человека с Богом, но и изменение во взаимоотношениях мужчины и женщины. Эмоционально-чувственная женщина первой поддалась на призыв соблазнителя и, искусившись, повлекла за собой и мужчину. Равновесие было нарушено, мужчина получил над женщиной власть, которая ему ранее не принадлежала. Можно соглашаться или не соглашаться с библейской интерпретацией человеческой истории, но факт остается фактом: известное нам общество – это общество патриархальное, в котором царит, если уместно употребить здесь это слово, женское бесправие.
-
ЦАРСТВО МУЖЧИН
В древние времена женское начало в большинстве культур считалось началом темным, губительным, искушающим. Напомню, что слово «искушение» звучит усладительно лишь для современного человека, задавленного тяжестью рекламных роликов на темы «искушение вкусом», «секрет обольщения» и т. д. Для большинства традиционных культур искушение – это когда плохо, это то, что сбивает с истинного пути.
Поэтому в Древнем мире женщина – всегда источник соблазнов. Японская пословица гласит: «Красавица – это меч, разрубающий жизнь». Этой мысли вторит древнееврейский мудрец Екклесиаст: «И нашел я, что горче смерти женщина, потому что она – сеть, и сердце ее – силки, руки ее – оковы» (Екклесиаст, глава 7, стих 26).
Естественно, такое отношение к женщине не могло не сказаться на ее социальном, как сказали бы мы сейчас, положении. И сказывалось, да еще как… -
На Древнем Востоке от женщины требовалось абсолютное послушание мужу во всем. Семейные законы были суровы: непокорную жену супруг мог наказать, и наказать довольно жестоко. Согласно одному древнеассирийскому закону, муж имел право за непослушание, лень или отказ от исполнения супружеских обязанностей избить жену, остричь ее, отрезать ей уши, нос, выжечь на лбу рабское клеймо или выгнать ее из дома. При этом, что бы ни совершил мужчина, никто не мог привлечь его к ответственности, тогда как он мог все. Например, имел право вернуть бежавшую от его жестокости в родительский дом жену, если она пробыла там более четырех дней. При этом мог еще и подвергнуть ее унизительному испытанию: заставить доказывать, что за время своего отсутствия она не спала ни с одним мужчиной. Способ для этого избирался весьма оригинальный: «Такую жену надлежит связать и бросить в воду; если она выберется благополучно, значит, она невиновна, и муж должен оплатить судебные издержки». Ну, а если нет… Любое подобное «доказательство» измены означало для женщины неминуемую смерть.
-
О каких-то иных правах женщины говорить вовсе не приходится. Согласно законам Хаммурапи, женщина была бесправной во всех отношениях: даже овдовев, она не могла заключать договоров, вести денежные дела, ставить свою подпись – все делалось только через опекуна. Кому-то может показаться странным, однако исключением в плане отношения к женщине не были ни Древняя Греция, ни Древний Рим. В Греции женщина практически не участвовала в общественной жизни. В греческих полисах (городах-государствах) женщины никогда не имели гражданства (т. е. фактически приравнивались к рабам), не обладали властью распоряжаться имуществом (исключением была Спарта), целиком находясь под опекой мужчин. Опекуном до замужества являлся отец либо ближайший родственник-мужчина, после замужества вся власть переходила к законному супругу.
-
Конечно, образ женщины в эпоху античности будет неполным, если ограничиться описанием женского социального бесправия и мужского произвола. Древние памятники искусства и литературы свидетельствуют о том, что античный идеал красоты нашел свое отображение в том числе и в женских скульптурах, изображавших красоту и совершенство женского тела. Греки считали, что женщины способны вдохновлять мужчин, влиять на мужское поведение. Правда, большей частью это относилось к гетерам, «спутницам», которые специально привозились из других краев для увеселительных приемов греческих мужчин, чьи жены не имели возможности разделить мужское веселье. Кстати сказать, супружеская измена и в Древнем Риме каралась смертью. Естественно, если изменяла женщина. (Понятие мужской измены возникает довольно поздно и, как представляется, не без влияния христианства.)
-
Такое отношение к женщине, а также постоянное пребывание мужчин в исключительно мужском обществе породило еще одну особенность греческой культуры – широко распространившийся гомосексуализм, высокая степень развития которого несколько непривычна даже в наше время, отличающееся терпимостью и либерализмом. Многие греки даже считали, что любить может лишь мужчина мужчину, женщина же предназначена лишь для рождения детей и ухода за мужчиной, но никак не для любви. Поэтической, высокой, красивой может быть лишь мужская любовь. Чтобы убедиться в том, что греки действительно так считали, достаточно прочесть диалог Платона «Пир».
-
«А ЖЕНА ДА УБОИТСЯ МУЖА!»
Христианство, явившись вызовом всей римской культуре, не могло не затронуть и взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Конечно, евангельская проповедь не была направлена на подрыв социально-политического порядка и не задавалась целью изменить отношения между полами, и все же христианство радикально утверждало новые принципы взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Конечно, пройдут века, прежде чем человечество сможет всерьез заговорить о равноправии полов, но только благодаря произошедшей две тысячи лет назад «христианской революции» вышеописанные картины бесправия женщины в Древнем мире кажутся нам сегодня ужасными.
-
Именно в христианской культуре утвердился моногамный брак. Именно христианство впервые в человеческой истории провозгласило, что супружеская измена мужчины настолько же недопустима, насколько недопустима измена женщины. Вспомним евангельский рассказ о женщине, которую застали в прелюбодеянии (т. е. супружеской измене) и которую, по ветхозаветному закону, следовало побить камнями. Фарисеи-законники, строго соблюдавшие все древние предписания и искавшие возможности обвинить Христа в нарушении принятых правил, привели ее к Иисусу, спрашивая его, что с ней делать. Ответ прозвучал для них неожиданно-ошеломляюще: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень» (Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 7). По одному из древних толкований этого евангельского места, Христос имел в виду тех, кто без такого же греха, то есть кто не изменял своим женам. И толпа разгоряченных законников разошлась, не смея осудить женщину, так как они были «обличаемы совестью».
-
Пафос этого эпизода не в том, что Иисус оправдывал измену. Напротив, Он расстается с грешницей со словами: «Иди и впредь не греши». Но главное в том, что Христос впервые заявил о необходимости сохранения верности не только женщинами, но и мужчинами. Дохристианское общество не знает такого уровня нравственности.
Вообще христианство возносит брак на недосягаемую дотоле высоту: венчание именуется таинством, а любовь супругов сравнивается с любовью Бога и человека. Кстати сказать, понимание любви в христианстве очень сильно отличается от понимания любви в язычестве. В античной греческой литературе понятие любовь чаще всего выражается словом «эрос». Эрос – это всегда страстная любовь; любовь, приносящая одновременно наслаждение и страдание. Эрос – это желание заполучить другого, это любовь для себя. Интересно, что в евангельских текстах слово «эрос» не встречается. Вместо него евангелисты используют слово «агапе». Агапе, в отличие о эроса, есть любовь дарующая, а не вожделеющая. Любовь для другого, а не для себя.
-
В средние века, когда на смену языческой культуре приходит культура христианская, семья становится не просто «ячейкой общества», но таинством, в которое вступают два христианина, заявляя о совместном решении перед своей общиной. По христианскому учению, семья есть малая церковь. А церковь не может созидаться «на время» – она создается навсегда, скрепляемая любовью, которая не ищет лишь своей выгоды и удобств. Кстати сказать, венцы, которые во время венчания в Православной Церкви надевают на жениха и невесту, это не царские, как думают многие, а мученические венцы. Конечно, не в том смысле, что брак – это сплошное мучение, нет. Имеется в виду другое: по толкованию одного христианского святого, муж не должен останавливаться ни перед какими страданиями, даже смертью, если они нужны для блага жены. Венчающиеся здесь уподобляются раннехристианским мученикам, которые страдали за Христа…
-
Что же касается пресловутой фразы «жена да боится своего мужа» (послание апостола Павла к Ефесянам 5, 33), то, по мнению большинства православных богословов, эта фраза не означает, что жена должна испытывать страх и трепет перед грозным супругом, а лишь то, что она должна бояться оскорбить мужа, бояться стать поруганием его чести. Это не животный страх от ненависти и ужаса, а страх охранительный, проистекающий из любви. Так дети боятся обидеть родителей, боятся причинить им боль…
-
TEMPORA MUTANTUR… (Времена меняются)
Несмотря на серьезность изменений, привнесенных в культуру христианством, наивно было бы утверждать, что в христианском обществе сразу покончили с женским бесправием. Еще долгие столетия женщина не принимала никакого участия в общественно-политической и интеллектуальной жизни. Справедливости ради надо отметить и то, что это положение все же не было результатом «украденных женских прав», а, напротив, медленно готовило почву для будущей эмансипации.
-
Согласно мнению большинства ученых, первые ростки эмансипации проявились еще в эпоху эллинизма, однако тогда им не дано было развиться. Всерьез же против положения женщины «босой, беременной и на кухне» восстает лишь сознание европейца конца XVIII – начала XIX века. В России борьба женщин за свои права в XIX веке является важной составной частью борьбы за всеобщую социальную справедливость. Мужчины с трудом расстаются с привычной картиной женщины-супруги, жены-хранительницы семейного очага. В этой мужской горечи есть своя правда: процесс женской эмансипации пошел таким образом, что социально-экономическое освобождение женщины нередко приводило к появлению «новых женщин», лишенных привычного женского обаяния. Именно на это жаловался русский мыслитель Николай Бердяев в своей работе «Метафизика пола и любви». Соглашаясь с тем, что женщина должна быть экономически независима от мужчины, должна иметь свободный доступ ко всем благам культуры, а также иметь право восставать против «рабства семьи», философ замечал, что все это само по себе не решает проблемы. Более того, женской эмансипации, согласно Бердяеву, помимо позитива, присуща и ложная тенденция, которая разрушает прекрасные мечты, «мистические грезы о божественном Эросе, об Афродите небесной».
-
ЖЕНЩИНА И ФЕМИНИЗМ
Справедливость мыслей Бердяева я очень ясно ощутил в США. Еще не успел забыться вышеописанный случай с нервной дамой-феминисткой, обидевшейся на меня за то, что я посмел сказать о разнице между мужчиной и женщиной, как меня ждал новый культурный шок. Одна моя знакомая американка наотрез отказалась от того, чтобы я заплатил за нее в кафе, хотя я сам ее туда пригласил. Причем для нее это было настолько принципиально, что если бы я продолжал настаивать, то мы бы всерьез поругались. Сначала я пытался относиться ко всему философски: это ведь даже хорошо, рассуждал я, и платить за них не надо, и дорогу тебе уступают (действительно, уступают!). Наверное, как слабому полу. Но вскоре американский феминизм начал вызывать по меньшей мере недоумение.
-
С одной стороны, получив абсолютно равные с мужчинами права и возможности (за что, собственно, и боролись первые эмансипе), феминистки не остановились на достигнутом. Сегодня они выдвигают требования, повергающие в шок даже видавших виды борцов (т.е. «борчих» – пардон за новояз – еще один результат патриархальности культуры: многие слова, в том числе слово "человек", мужского рода) за женские права, а в бесправном положении часто оказываются уже мужчины, каждый неосторожный взгляд которых может быть истолкован как посягательство на женскую честь. Да и вообще, по мнению таких феминисток, современные мужчины должны постоянно испытывать комплекс вины за разгильдяйство своих предков. Может, это где-то и справедливо, но равенства опять не получается. С другой стороны, в борьбе за равенство женщина зачастую не только приобретает новые права, но и теряет прежнее обаяние – то, о чем писал Бердяев, – и превращается в нелепое подобие мужчины.
Для современного общества, слава Богу, тяжелое и унизительно прошлое женщины – не более чем древняя и не самая приятная страница истории человечества. Вместе с женским бесправием из нашей жизни ушло и отношение к женщине как к существу второго сорта и источнику бед. При этом, одновременно с появлением женских прав, из жизни стало понемногу исчезать обаяние женственности. Виноваты же в этом, естественно, мужчины.Автор: Владимир ЛЕГОЙДА
Сайт http://umniki.ru
"- Друг мой, ты журналист, охальник и циник. К тому же с сомнительной шкалой ценностей. Тебе ли писать о любви? Что ты о ней знаешь, кроме бульварных расценок?
Устало отмахиваюсь. Он, то есть я, абсолютно прав. А все-таки...
О ком?
Он - музыкант. Она - меценат. Он - еще беден. Она - уже богата. Он еще вне женщин, она уже вне мужчин. Главное - чтоб получилось современно, потому что история страшно несовременная. И все-таки нужен романтик. Копаюсь в себе - ищу романтика. Незадача - последний романтик во мне умер лет десять назад. Придется обходиться тем, что осталось.
Она
Рано вышла замуж. Рано познала нужду. Рано разочаровалась в любви...
Выходит сухо, неловко. Написать легко. Представить сложно.
И все-таки давайте попытаемся представить себе молодую женщину, имеющую пятерых детей и мужа - государственного служащего с окладом 1500 рублей в год. А год на дворе 1855-й. Смелый ли шаг предложить мужу оставить службу при таких стесненных обстоятельствах? Пожалуй, не смелый, а безумный. Но она это делает. В результате семья в нищете. Муж - инженер по строительству железных дорог. Инженер прекрасный, но предприниматель скверный. Предпринимать приходится ей. Подряды, конкуренция, прочая жизненная чушь, без которой никак.
Словом, в итоге - очередная семья мультимиллионеров. В семье уже одиннадцать детей, но теперь проще, денег хоть отбавляй, и все же...
И все же мы говорим о женщине. Зачем женщине деньги, если в сердце пустота? А в сорок лет старость страшна как никогда. Это в семьдесят жизнь уже видится в ретроспективе. Привычка. А в сорок еще хочется смотреть вперед. И вот впереди появляется Он. Не тот, который герой истории, но тоже вроде герой - молодой, все время рядом, так как служит у мужа секретарем. Словом, адюльтер почти неотвратим. Как неотвратим и итог - тайное становится явным, муж, не выдержав стыда и разочарования, умирает от сердечного приступа. Остается море денег и она - птица над этим морем, которая так устала лететь. И все-таки летит, и не просто, а со смыслом, так что окружающие никакой птицы и не замечают, видят лишь властную, уравновешенную женщину с железной волей.
-
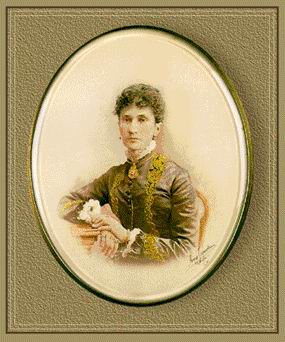
Надежда Филаретовна
фон Мекк
Кто-то скажет, что эта история редкая, а по мне - так вполне тривиальная. Оглянитесь вокруг - таких птиц у нас под солнцем великое множество.
Но рано или поздно наступает возраст, когда улыбка одиночества все больше похожа на оскал. Вот тут и вспоминается юношеское увлечение музыкой. В музыку так сладко прятаться. В ней тепло и уютно. А если к тому же нет недостатка в деньгах, то что мешает музыкантов, простите, покупать? И не просто музыкантов, а лучших. А иногда и лучших из лучших. Так вот, однажды один из этих музыкантов расскажет ей о своем учителе, известном композиторе, который, по его словам...
...который, по его словам, чрезвычайно стеснен в средствах. Она и ранее была увлечена музыкой этого композитора. Познакомившись же с его человеческими качествами... Словом, странно ли, что любовь к творениям переросла в любовь к творцу? Если с вами этого не случалось, значит, вы об искусстве ничего не знаете.
Через этого самого ученика она делает композитору заказ. Разумеется, работу оплачивает, и оплачивает щедро. Музыкант, и вправду пребывающий в немалой нужде, счастлив и польщен. Далее - новые заказы и, наконец, короткое письмо с благодарностью от нее и в ответ, подобный же учтивый жест. Вот, собственно, начало. Но здесь тех, кто ждет бурного развития событий, я вынужден разочаровать. Герои этой истории так и не встретились. Необычно, не правда ли?
Переписка становитсЯ все менее официальной, и, наконец, он осмеливается просить у нее денег. Странно? Возможно, но не более странно, чем то, что он делает чуть позже. Он ошеломляет ее известием о своей женитьбе и вновь обращается с просьбой о материальной помощи. Денег она, конечно, дает, но ревностью терзается мучительной. "Когда вы женились, мне было ужасно тяжело, у меня как будто оторвалось что-то от сердца", - напишет она своему герою два года спустя.
Да, приходится констатировать, что в музыкальном ключе
наш герой читал лучше, чем в женских сердцах. Он не сумел разглядеть,
какое пламя разжег в сердце этой немолодой уже женщины. Она полюбила
его так, как может любить лишь одинокая женщина на склоне лет.
К сожалению, ни ей, никакой другой женщине (в том числе и жене) не суждено
было познать ответной любви великого композитора. Это стало, как обычно
говорят седовласые биографы, "трагедией всей его жизни". Композитора
влекли лица собственного пола. Он оттого и в брак вступил, что хотел
победить природу. Но, как водится, проиграл. Ничего удивительного. Спорить
с природой так же нелепо, как играть в прятки с самим собой. Надо сказать,
что последствия у этого брака были поистине ужасающие. "Я искал
смерти, - пишет он в этот период своей жизни, - мне казалось, что она
единственный выход". И он бежит. Бежит от ненавистного ему брака,
от ненавистной женщины, которую сам избрал себе в спутницы жизни. Именно
в этот период жизни, по мнению биографов, его творчество разделилось
на две части - объективную и субъективную. Одной половиной своего гения
он творит чужие судьбы по чужим сценариям, а другой - собственную судьбу
по сценарию, известному одному Создателю.
Законная супруга еще не раз будет оказываться на его пути. Однако не
эта интрига находится в центре нашего внимания. Как же развиваются дальше
странные отношения наших героев?
Развитие
Находясь в добровольном изгнании, музыкант вновь обращается
к своей покровительнице за финансовой помощью. Последняя в ответ назначает
ему субсидию в размере 6000 рублей в год. Она давно собиралась это сделать.
Удерживал лишь страх того, что композитора оскорбит подобное предложение.
Вышло так, что музыкант ничуть не оскорбился. Совсем наоборот - он был
искренне благодарен своему ангелу-хранителю. "Каждая нота, которая
отныне выльется из-под моего пера, будет посвящена Вам, - пишет он в
письме и дает обет, что, - никогда, никогда, ни на одну секунду, работая,
я не позабуду, что Вы даете мне возможность продолжать мое артистическое
призвание".
Герой получал субсидию от своей покровительницы в течение тринадцати
лет. "Я ей обязан не только жизнью, но и тем, что могу продолжать
работать, а это для меня дороже жизни", - пишет он одному из своих
друзей. Все эти тринадцать лет переписка не прекращается, и это, конечно,
не просто переписка, а именно история любви музыканта и мецената. Драма,
наполненная рассказами о жизни, откровениями, признаниями в любви. Драма
двух, в сущности, очень одиноких душ. Благодаря деньгам своей покровительницы
герой обрел независимость, возможность вершить добрые дела, оказывая
материальную помощь то родным, то близким, а то и вовсе случайным людям,
попавшим в беду. Она же обрела возможность значительно облегчить и вправду
нелегкую жизнь любимого человека.
Финал
Эта история закончилась так же, как и начиналась, -
письмом. Тринадцать лет спустя музыкант получил письмо, в котором его
покровительница сообщала о том, что она разорилась и вынуждена прекратить
выплачивать субсидии. Заканчивалось письмо фразой "Вспоминайте
меня иногда".
Вот такая история любви Надежды Филаретовны фон Мекк и композитора Петра
Ильича Чайковского."
Автор: Алан Хурумов
Сайт: Алфавит (газета)
21 ноября 2007 года Тамаре Макаровне Носовой исполнилось бы 80 лет...
Детские годы
Тамара родилась в семье высокопоставленного ответственного работника,
и не было никаких предпосылок, что эта стройная, худенькая девочка станет
одной из самых ярких комедийных актрис советского кино. В школу маленькая
Тамара пошла с пяти лет. Отец обладал принципиальным и упорным характером.
Он приложил все усилия, чтобы уговорить директора школы принять малышку
в первый класс. На первое занятие в класс она пришла вместе с куклой
и все задания учительницы повторяла ей. Учителя пытались уговорить родителей
повременить с учебой Тамары, но они были несговорчивы. И только болезнь
девочки позволила отложить учебный процесс на два года.
В то время не было никаких элитных школ, и Тамара обучалась
в обычной районной. В школе она была прилежной девочкой-отличницей,
гордостью класса и даже председателем совета отряда. Активно участвовала
в общественной жизни, в чем ей помогали унаследованные от отца принципиальность
и решительность. Эти же качества поставили точку в истории с балетом.
Опоздав, однажды на репетицию, Тамара больше там не появилась никогда.
Впервые оказавшись в театре, Тамара Носова «влюбилась» в него раз и
навсегда. Более того, в своем классе она организовала драмкружок и сама
ставила там спектакли. Тамару с друзьями даже приводили в старшие классы
– показывать их постановки. Учительница гордилась ими и хотела похвастаться
перед коллегами и другими учениками.
ВГИК. Первые роли
Школу Тамара Носова окончила в 45-м году в деревне, где провела всю
войну. В Москву вернулась с твердым намерением «поступать в артистки».
И легко поступила во ВГИК на курс Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой, хотя
конкурс был - восемьдесят человек на одно место. Вместе с Тамарой Носовой
учились будущие лауреаты Сталинской премии за фильм «Молодая гвардия»:
Нонна Мордюкова, Сергей Гурзо, Владимир Иванов, а также Вячеслав Тихонов
и Екатерина Савинова.
Вот что вспоминает Тамара Носова о своей учебе во ВГИКе: «Когда я пришла
в институт, мне очень хотелось играть такую драму, где поплакать можно.
Но Бибикова не одуришь. Он понял, что эту девку надо помещать на другую
платформу. «Мало ли, чего она хочет! У нее врожденный юмор, и это надо
использовать». Для чего тогда педагоги, если они не направят на правильный
путь? И он делал из меня комика. На первом семестре разрешали все, что
хочешь. На втором мы выбирали отрывки, а Бибиков разбирался, кто есть
кто. Он увидел во мне такую драматическую артистку, какую надо было
в корне переделывать. Великий педагог! Я должна быть справедливой, несмотря
на то, что он хотел меня выгнать».
В студенческие годы начался путь
Тамары Носовой в кино. У Сергея Герасимова в «Молодой гвардии»
она сыграла роль Вали Филатовой - задушевной подруги Ульяны Громовой.
Кроме того, будучи студенткой, Тамара снялась еще в двух фильмах.
Причем, у таких режиссеров, как Борис Барнет и Михаил Чиаурели.
У Барнета в картине «Страницы жизни» Носова сыграла роль медсестры
Клавы, а в «Падении Берлина» ей досталась роль Кати. В 1950 году Тамара окончила ВГИК, и тогда же
режиссер Юлий Райзман пригласил ее на одну из главных ролей –
Анфису - в картину «Кавалер Золотой Звезды». Роль Анфисы в этом
фильме показала, что молодая привлекательная актриса скоро станет
звездой, играющей положительных героинь. Однако Носова уже со
следующего фильма стала играть отрицательные, сатирические роли. За роль Анфисы в картине «Кавалер Золотой Звезды»
Тамару Носову представили к Сталинской премии, но найти ее в Москве
не смогли. В это время она находилась в Австрии. В нее влюбился
молодой и красивый дипломат, который сделал ей предложение. Они
расписались и сразу же уехали в Вену, куда муж Тамары получил
направление. Но семейная жизнь не сложилась и после шести совместных
лет они разошлись. Тамара Носова вернулась в Москву. |
Тамара Носова |
Амплуа – дура
Образ Марьи Антоновны из фильма «Ревизор», созданный актрисой, - классический
образ пустой и глупой провинциальной барышни. Носова - первая актриса
советского кино, создавшая на экране образ дуры. Этот характерный взгляд
огромных голубых, ничего не выражающих глаз, слегка приоткрытый рот,
вздернутый нос, красное лицо - такова актриса в нескольких фильмах.
Как бы она ни разговаривала на экране - медленно или торопливо, - это
всегда было смешно .Актриса умеет произносить самые обычные фразы так,
что они в ее устах приобретают гиперболизированный смысл. Как настоящий
художник, актриса великолепно владеет элементом повтора. Так, в фильме
«Шведская спичка», где она играла «местную Нану», Тамара Носова на протяжении
целого эпизода, повторяет одну только фразу: «Жила я только с вами,
больше ни с кем».
В фильмах Тамара Носова чаще всего играет в эпизодах.
Ее образы - это не мелкая россыпь, а волшебные камни ,которые, возникнув
перед нашими глазами, наполняют веселым озорным сиянием экран и сверкают
столько, сколько мы их видим. Кто не помнит роль Тоси, секретарши бюрократа
Огурцова в «Карнавальной ночи»? Это был первый фильм Эльдара Рязанова,
и он предложил Игорю Ильинскому, который играл роль Огурцова, самому
выбрать актрису на роль секретарши. Ильинский выбрал Тамару Носову.
Ее Тося хитра - она подхалимничает перед Огурцовым и важничает перед
своими сверстниками. С Игорем Ильинским она составляет прекрасный дуэт.
Как и с Сергеем Филипповым («Особый подход»), и с Михаилом Пуговкиным
(«Свадьба в Малиновке»). Конечно, все видели фильм «Мертвые души» Михаила
Швейцера, где Носова сыграла гоголевскую Коробочку - символ непроходимой
тупости. Дуэт Носовой с Калягиным (Чичиковым) был бесподобен.
Настоящим актерским шедевром Тамары Макаровны стала
манерная бразильская миллионерша донна Роза Альвадорец - работа, которой
Носова доказала свою гениальность. В ленте «Здравствуйте, я ваша тетя!»
много актерских удач, но Тамара Носова превзошла многих. Особое место
в творчестве Тамары Макаровны занимают киносказки. Там её героини, в
большинстве своём, милые и добрые тётушки, помогающие мальчикам и девочкам:
«Королевство кривых зеркал», «Огонь, вода и… медные трубы», «В тридевятом
царстве». Лишь в «Новых похождениях Кота в сапогах» она играет отрицательную
роль придворной дамы Двуличе. В восьмидесятые Т. Носова снялась в трех
картинах: «Спокойствие отменяется», «Тайна черных дроздов» и «Мертвые
души». А потом случилась перестройка, и карьера многих мастеров кино,
кумиров прошлых лет прервалась. Судьба Тамары Макаровны напоминает горный
серпантин. Ее путь и в кино, и в жизни был так же извилист и непредсказуем.
Но как киноактриса Носова была востребована всегда, поэтому было неожиданным
и необъяснимым то, что она в 90-е годы исчезла с экрана.
Личная жизнь
После брака с дипломатом, судьба сводит Тамару Носову с актером Юрием
Боголюбовым из знаменитой актерской династии. Они познакомились в Ялте
на съемках. Это был гражданский брак.
В третий раз Тамара Носова вышла замуж, за писателя Виталия Георгиевича
Губарева. Он писал сказки, рассказы, сценарии. Актриса снималась в его
фильмах «Королевство кривых зеркал» (тетушка Ласка) и «В тридевятом
царстве», где играла главную роль. Это было самое счастливое время для
Тамары Макаровны. Через шесть лет они расстались...
Был в ее жизни и четвертый муж (вновь гражданский) - это актер и режиссер
Николай Засеев. Они прожили вместе четыре года, но он состоял в браке
с другой. Жена не давала развода, грозилась, что уморит газом и себя,
и дочку. Тамара Носова умоляла его вернуться к жене, он не хотел. Даже
после того как они расстались, Николай Засеев приглашал ее во все свои
фильмы. Но Тамара Носова отказывалась сниматься...
Несмотря на столь бурную личную жизнь, детей Тамаре Макаровне судьба
так и не подарила.
Последние годы
Все последние годы Тамара Носова очень бедствовала, с трудом выживая
на мизерную пенсию, отказывая себе во многом. Она избегала выходить
в свет, стыдясь своей бедности. Выступать в концертах она уже не могла.
Однажды вышла на сцену в старом вечернем платье и в... калошах. Ей не
на что было купить вечернее платье, косметику и многое другое. Был период,
когда народная артистка голодала, но помощи не просила ни у кого. Тамара
Макаровна была очень закрытым человеком: она редко общалась с людьми,
не любила пустых разговоров, телефонную трубку брала лишь в определенные
часы. Она очень много читала. В ее квартире была огромная библиотека,
которая занимала целую комнату. В совершенстве зная английский язык,
актриса читала Диккенса и Шекспира на языке оригинала.
Перед Новым 2007 годом у Тамары Носовой случился инсульт.
На телефонные звонки и стук в дверь Тамара Макаровна не отвечала, пришлось
квартиру вскрывать с милицией. Актриса лежала на полу, едва живая, по
ней бегали крысы и тараканы. В силу возраста и ее болезни в больницу
по месту жительства ее брать отказались. Родственник Анатолий Васин
определил Тамару Носову в коммерческое отделение 15-й горбольницы, где
лечение, содержание в отдельной палате и оплата круглосуточного дежурства
стоили десять тысяч рублей в сутки (в месяц - 300 тысяч).
Тамара Макаровна Носова умерла, не дожив совсем немного до своего 80-летия.Но
в сердцах кинозрителей останутся ее искрометные роли в фильмах «Карнавальная
ночь», «Свадьба в Малиновке», «Здравствуйте, я ваша тетя».
Однажды на улице Тамаре Макаровне сказали: «Когда везде повышают цены,
вы повышаете настроение». Когда она слышала комплименты, то воспринимала
их не как должное, а с благодарностью и радостью и отвечала: «Это больше,
чем я заслуживаю, но не больше, чем может вместить мое сердце».
Сайт: Актеры советского кино
|
Настасья Кински (Kinski, Nastassia). Настоящая фамилия: Наксцинска. Родилась 24.1.1961 в Берлине в семье известного немецкого актера Клауса Кински. Сестра Настасьи Кински Пола — тоже актриса. 14-летней девочкой была «открыта» в Мюнхенской дискотеке режиссером Вимом Вендерсом, который искал исполнительницу на роль Миньоны в фильме «Ложное движение». Угловатая, большеротая, с горящими черными глазами, Настасья Кински прошла через фильм, не произнеся ни слова. Но именно это придало образу Миньоны загадочность и экзотичность. С тех пор от предложений сниматься не было отбоя. «Невеста сатаны» (1976), «Страстные цветочки» (1977), «Оставайся сама собой» (1978) — все эти картины, эксплуатируя полудетское очарование Настасьи Кински, имели в своей основе весьма скользкие сюжеты и балансировали на грани между двусмысленностью и откровенной непристойностью. Трудно сказать, как бы сложилась дальнейшая судьба Кински, если бы режиссер Роман Полянский не увидел в «Воге» серию ее фотографий. Он собирался экранизировать роман Т. Харди «Тэсс
из рода д'Эрбервиллей» и искал исполнительницу роли героини. Настасья
Кински была срочно вызвана в Америку. Она начала усиленно штудировать
английский, посещала знаменитую Актерскую студию. Потом группа
перебралась в нормандскую деревню, и Настасья занялась изучением
деревенского быта. Это помогло убедительно показать на экране
драму молодой служанки, преданной бесчестью за рождение незаконного
ребенка, насильно выданной замуж за противного ей крестьянина
и все же в финале ленты взявшей реванш за свои многолетние страдания. |
Настасья Кински |
«Тэсс» (1978) была выдвинута на соискание шести «Оскаров».
Никому не известная немецкая актриса оказалась в центре общественного
внимания. Американская пресса писала о ней в те годы с восторженным
придыханием, не забывая упоминать знаменитую Ингрид Бергман. И хотя
явного портретного сходства не существовало, считалось, что в облике
юной немки воплотились черты, некогда присущие шведской звезде, — естественность
непосредственность, свежесть, невинность, незащищенность, словом, очарование
девушки, еще не в полную меру осознавшей себя женщиной. После «Тэсс»
Настасья Кински снялась еще в трех голливудских лентах — «От всего сердца»
(1982), «Люди-кошки» (1982), «Брошенная на произвол» (1983). Особенно
большой популярностью в Америке пользовался эротический фильм ужасов
«Люди-кошки» П. Шредера, рассказывающий историю семьи, члены которой
во время соития превращались в пантер. Технически этот процесс превращения
был самым сложным в фильме, но Настя отказалась от дублера и проделывала
все сама.
В 1983 году она поразила своих соотечественников возросшим
актерским мастерством, сыграв роль жены Р. Шумана — пианистки Клары
Вик в фильме «Весенняя симфония». Однако в Германии она не задержалась
и поспешила вернуться в Америку. Особенно удачным оказался для нее 1984
год, когда на экраны вышли три фильма с ее участием: «Отель Нью-Гемпшир»,
«Париж, Техас», «Любовники Марии». Любопытно, что все три фильма были
поставлены европейцами, работавшими в то время в Голливуде. Особенно
запоминающимися оказались «Любовники Марии» А. Кончаловского (по мотивам
повести А. Платонова «Река Потудань»). История женщины, остающейся девственницей
при молодом муже, была сыграна актрисой с необыкновенной пронзительностью
и трепетностью. Большая, застенчивая девочка с длинными руками и большим
ртом, она тщетно дожидается, когда муж проявит к ней благосклонность,
а он вообще исчезает из города. И Мария отдает себя первому встречному,
подкупившему ее игрой на гитаре...
Сложным отношениям внутри семейной пары посвятил свой
фильм «Париж, Техас» и Вим Вендерс, но дал им совсем иную трактовку.
В отличие от нежной, безответной Марии Джейн, героиня «Парижа, Техаса»,
олицетворяет тот дикий порыв к свободе от уз семьи и брака, который
был свойствен многим американцам в начале 80-х годов. Джейн не намерена
плакать и тосковать. Она просто сбегает из дома, бросив на произвол
судьбы малолетнего сына. Впервые в творческой манере Кински проявились
черты жестокости и непримиримости, показывающие, что она может играть
разные роли.
Два режиссера оказали определяющее влияние на формирование
Насти Кински как творческой личности — Роман Полянский, представивший
ее миру как серьезную актрису, и Андрей Кончалов-ский, напомнивший о
ее славянских корнях. В 1990 году Настя снялась в русском фильме «Униженные
и оскорбленные» А. Эшпая. Она исполнила роль Наташи с таким проникновением
в суть этого трагического образа, что было бы трудно вообразить на ее
месте другую актрису. А чуть раньше, в 1989 году в Италии была осуществлена
экранизация повести Тургенева «Вешние воды». Кински выступила здесь
в несколько необычном для нее амплуа — фатальной женщины, создав образ
вольнолюбивой, искрящейся юмором красавицы Марии, покоряющей мужчин
с ловкостью опытного дрессировщика.
В последние годы творческая деятельность Насти стала
все больше сдвигаться в сторону Европы. Возможно, одна из причин — появление
в американском кино актрисы, удивительно похожей на Кински своей непосредственностью
и живым очарованием — Джулии Робертс, оставляющей все меньше ролей своей
предшественнице. С тех пор как в 1981 году все журналы обошла фотография
Ричарда Аведона, изображавшая голую Настю со змеей, внимание зрителей
продолжает занимать эта очаровательная и обольстительная женщина. Особенно
много небылиц рассказывалось о ней, когда она носила сына Алешу. В журналах
даже был опубликован список из восьми человек — претендентов на роль
отца. Однако в конце 1984 года Настя вышла замуж за человека, имя которого
раньше не упоминалось, — египетского продюсера Ибрагима Мусу. Сплетни
прекратились. В 1986 году родилась их дочь Соня. Брак завершился скандалом
в 1992 году, когда Муса обвинил жену в супружеской измене со знаменитым
рок-музыкантом.
Сайт: Актеры Голливуда
Дата публикации на сайте: 26.10.2005
|
Cара Винтер (по некоторым источникам
– Ауинтер) родилась 15 февраля 1973 года в Нью-Кастле, Австралия.
Когда ей исполнилось 17 лет, она отправилась в Нью-Йорк учиться
драматическому искусству. После нескольких эпизодов в бродвейских
постановках, она, наконец, удачно дебютировала в 1995 году в романтической
драме «Пусть это буду я». Если вспомнить о знаменитой голливудской
звезде Николь Кидман, то можно смело предположить, что Австралия
ещё не раз будет источником пополнения американских актёрских
кадров. Но сегодня я о другом. Саре Винтер (Sarah Wynter)
довелось воплотить на экране образ одной из самых очаровательных
женщин 19-20 столетий Альмы Шиндлер-Малер в поставленном режиссёром
Брюсом Бересфордом (Bruce Beresford) фильме «Невеста ветра» («Bride
of the Wind»). В далеко неполном списке покорённых Альмой известных
не только в её стране, но и в мире мужчин значатся чешский еврей
и впоследствии прославленный композитор Густав Малер, архитектор
Вальтер Гропиус, писатель Франц Верфель, художники Густав Климт
и Оскар Кокошка. Кстати, название одной из картин последнего и
дало имя фильму. Альма Шиндлер ещё до своего замужества зарекомендовала себя как талантливый композитор и замечательный мелодист. После того, как она стала женой Густава Малера, она перестала сочинять музыку. Это было условием и требованием мужа, сравниться с которым по значимости и мастерству композиции она не могла. Решение стать безмолвным придатком, всего лишь женой и домашней хозяйкой в доме знаменитого композитора далось ей нелегко. Но она подавила в себе апломб и подчинилась. Результат виден всем нам сегодня: произведения Густава Малера исполняются лучшими симфоническими оркестрами мира наряду с музыкой Бетховена и Моцарта. Несомненно, именно Малер был самым значимым и любимым из всех мужчин Альмы Шиндлер-Малер, хотя и остальные были далеко не ординарными личностями. Именно она являлась музой всех этих людей, вдохновляла их на создание замечательной музыки, архитектурных проектов, стихов и прозы, известных сейчас всему миру полотен. |
Сара Винтер (Sarah Wynter) |
Но одновременно она являла собой образец преданной
жены и хорошей матери. Потеря одной из дочерей нанесла сильнейший удар
по обоим родителям и, возможно, привела к скорой смерти Густава Малера.
Всю оставшуюся жизнь Альма продолжала любить Густава и, куда бы она
ни направлялась, всюду возила за собой скульптурный портрет бывшего
мужа. Но она была очаровательной женщиной и продолжала жить по законам
независимой женской логики. Несмотря ни на что. Сара Винтер придала
образу Альмы особый шарм, и очарованный ею зритель не может не оправдывать
даже самых нелогичных поступков её героини. Такова сила женского обаяния,
которым Сара Винтер владеет в совершенстве.
Художник Оскар Кокошка. Невеста ветра |
В 1895 году в семье одного из самых богатых людей города
Гирши Фельдмана (свое миллионное состояние он сделал на операциях с
недвижимостью, ювелирном промысле и нефти) родилась дочь, Фаина Фельдман,
ставшая известной миру под псевдонимом Раневская.
Отец ее владел двухэтажным кирпичным домом (считается, что в нем и родилась
будущая актриса) по ул. Николаевской, 12 (ныне ул. Фрунзе, 14), а также
другими зданиями, амбарами, оптовым магазином и пароходом «Св. Николай».
С 1899 года отец считался купцом, приписанным сначала к Екатеринославу
(1900), затем к Екатеринодару (1905). Отец Ф. Г. Раневской был богатым
предпринимателем, поэтому имел возможность возить семью на отдых в Крым,
Австрию, Швейцарию и другие страны. В 1909–1911 годах Гирш Фельдман
избирался членом правления Таганрогской синагоги, а с 1912-го по 1917
год был ее старостой. Мать Фаины была страстной любительницей музыки.
Уже будучи ученицей Мариинской гимназии, Фаина часто ездила в Ростов-на-Дону
на спектакли труппы Н. И. Собольщикова-Самарина, а затем начала участвовать
в ее массовках.
Окончив в 1915 году гимназию, она порвала с родителями,
осуждавшими ее желание стать актрисой, и уехала в Москву, чтобы поступить
в театральную школу. Однако все экзамены во всех театральных учебных
заведениях провалила «по неспособности». Поступила в частную школу,
но денег ни на учебу, ни на жизнь не было.
Балерина Екатерина Гельцер, с которой она познакомилась, устроила девушку
на роли без слов в летний театр в Малаховке, под Москвой. Так началась
ее театральная карьера. Наблюдения за игрой прославленных мастеров –
О. Садовской, И. Певцева, Н. Радина, М. Петипа, позже П. Л. Вульф –
заменили ей театральную школу.
В том же 1915 году Фаина Раневская уехала в Крым, участвовала
в спектаклях в Керчи (здешний театр скоро прогорел) и Феодосии, влача
жалкое существование. Весной 1917 года ее родители уехали на собственном
пароходе в Турцию (она приехала попрощаться с ними, и это оказалась
последняя встреча с родными). Больше в Таганроге она не бывала. Перед
революцией она перебралась в Ростов-на-Дону, познакомилась с ученицей
Комиссаржевской П. Л. Вульф, помогавшей ей и ставшей ее другом на всю
жизнь. В дни революции играла в красноармейских и рабочих клубах, читала
стихи. После революции, в трудный момент, она обратилась за помощью
к одному из приятелей отца. Тот ей сказал: «Дать дочери Фельдмана мало
– я не могу. А много – у меня уже нет».
Фаина Раневская |
По воспоминаниям П. Л. Вульф, среди
начинающих актрис Феодосийского театра зимой 1918–1919 годов была
и Ф. Г. Раневская, дебютировавшая в роли Маргариты Кавалини (пьеса
«Роман»). Затем она сыграла роль Шарлотты («Вишневый сад»), добившись
первого успеха. Это была неопытная актриса с большим дарованием,
которая вызывала восхищение товарищей и зрителей, несмотря на
длинную нескладную фигуру, смешную до невозможности и в то же
время трагически одинокую. Начиная с 1920-х годов она играет в театрах Симферополя,
Баку, Архангельска, Смоленска. С 1931 года работает в Камерном
театре в Москве, в 1933–1939 годах – в Центральном театре Красной
Армии. С 1934 года Раневская начала сниматься в кино. Среди ее
ролей были госпожа Луазо в кинофильме «Пышка» (1934), мать невесты
в «Свадьбе» (1944), Маргарита Львовна в «Весне» (1947), мачеха
в «Золушке» (1947). Лучшей ее ролью в кино считается Роза Скороход
в кинофильме «Мечта» (1943). Блестяще исполняла она эпизодические
роли: Попадья в «Думе про казака Голоту» (1937), жена инспектора
гимназии в фильме «Человек в футляре» (1939), мадам Бергер в «Ошибке
инженера Гарина», Леля в «Подкидыше» и другие. Небольшая роль Маньки-спекулянтки («Шторм» Биль-Белоцерковского,
1951) благодаря исполнению Ф. Г. Раневской стала одним из ярчайших
образов. Многие зрители ходили только для того, чтобы увидеть
великую артистку и после ее сцены уходили из театра. Возмущенный
руководитель театра Завадский эту сцену из спектакля убрал, тем
более что Ф. Г. Раневская давала ему нелицеприятные оценки: «Завадский
– маразматик-затейник», «уцененный Мейерхольд», «перепетум-кобиле»
и «Завадскому дают награды не по заслугам, а по потребностям,
у него нет только звания “мать-героиня”». |
В 1961 году Ф. Г. Раневской было присвоено звание народной
артистки СССР. Огромный успех, которым она пользовалась, не радовал
ее, а мучил, потому что способна она была играть выдающиеся роли, а
вынуждена была сниматься в незначительных фильмах, не имея возможности
реализовать свое незаурядное дарование. Всем известны ее талантливые
афоризмы, изданные отдельной книгой. Общественная атмосфера оценивалась
ею так: «Терплю невежество, терплю вранье, терплю убогое существование
полунищенки, терплю и буду терпеть до конца дней»; «Когда нужно пойти
на собрание труппы, такое чувство, что сейчас предстоит дегустация масла
с касторкой»; «Если человек умный и честный, то беспартийный. Если умный
и партийный, то нечестный. Если честный и партийный, то дурак». Поэтому
она не вступила в Коммунистическую партию и отказалась стать агентом
КГБ.
Сергей Юрский говорил: «Я нахожусь через одно рукопожатие
с великим Качаловым: с ним дружила Раневская, а я имел счастье дружить
с ней». Она дружила не только с Качаловым. Задушевная подруга Ахматовой,
близкий человек Таирову, Алисе Коонен, Михаилу Ромму, Дмитрию Шостаковичу,
Борису Пастернаку… Они видели ее большой, практически невостребованный
актерский талант, но главное – талант ее личности.
Долгая жизнь Раневской – трагедия одиночества, счет потерь. Она имела
всё, о чем может мечтать любой человек, – и всё потеряла. Наследница
миллионов – после революции страшно бедствовала, падала в голодные обмороки
(свою так и не опубликованную «Автобиографию» Фаина Георгиевна начала
так: «Я – дочь небогатого нефтепромышленника…»). Актриса огромного дарования
– она могла заменить собой всю труппу – знаем же и цитируем мы ее крошечные,
эпизодические роли, изначально даже бессловесные: главных ролей за ее
рекордно долгую сценическую жизнь можно насчитать единицы. Раневская
сокрушалась: «Когда мне не дают роли в театре, я чувствую себя пианистом,
которому отрубили руки».
Она потеряла семью, эмигрировавшую в Америку, потому
что, как многие еврейские дети из состоятельных семей, была отравлена
романтизмом революции и фанатически предана театру. Друзья – смысл ее
существования – уходили из жизни раньше нее и уносили души и осмысленность
бытия. Она оставалась – огромная и цельная, как глыба; язвительная дама
с «толстым голосом», но с нежной и ранимой душой. Бесконечно одинокая,
обладавшая редкостным даром остроумия – едкого, но философического,
с привкусом горечи: «Б-же, какая я старая! Я ведь еще помню порядочных
людей»; «Всю жизнь я проплавала в унитазе стилем баттерфляй»; «Когда
у попрыгуньи болят ноги, она прыгает сидя»; «Сняться в плохом фильме
– всё равно что плюнуть в вечность»; «Одиночество как состояние не поддается
лечению»; «Если больной хочет жить – врачи бессильны»…
Раневская умерла 19 августа 1984 года и, как и Михоэлс,
похоронена на кладбище крематория около Донского монастыря.
Британская энциклопедия включила Фаину Раневскую в десятку великих актеров
ХХ века. А что касается любви народной… Кассирша одесского театра говорила
так: «Когда Раневская идет по городу, вся Одесса делает ей апофиёз!»
Апофеоз Раневской – не на целлулоидной пленке и не в перечислении ее
наград и регалий. Она живет в нашей памяти, в нашем сердце, в каждом
«как говорила Раневская…».
Авторы: И. Шварцман, Е. Моршович
Сайт: www.lechaim.ru
ДЛЯ ТОГО чтобы представить, какой же все-таки была
эта легендарная женщина, мы решили обратиться к единственной оставшейся
в живых свидетельнице Лилиной жизни — искусствоведу Инне Генс, которая
была женой пасынка Лили Брик Василия Катаняна. Инна Юльевна по-прежнему
живет в квартире, где Лиля Брик провела последние 20 лет своей жизни.
В небольшой квартирке на Кутузовском проспекте все
напоминает ее прежнюю хозяйку: и множество книг с ее портретами, вышедшими
и в России и за рубежом, и обстановка с прекрасными картинами на стенах,
которые Лиле дарили ее знакомые художники, и украшающие стены русские
дореволюционные подносы, которыми она увлекалась, и коврик над кроватью,
подаренный Маяковским, и многое, многое другое.
— Инна Юльевна, вы последний свидетель жизни Лили
Брик, у вас осталось после смерти вашего мужа множество писем и документов.
Поэтому вы, как никто другой, можете рассказать нам правду о Лиле Брик,
ее отношениях с Владимиром Маяковским. Какой она была в повседневной
жизни, в чем секрет ее удивительного обаяния, где проходит граница между
истиной и легендами.
— Прежде всего самая большая ложь — это обывательские сплетни о жизни
втроем — Маяковский, Лиля и Ося Брик, то, что французы называют «менаж
а труа». Лиля вышла замуж за Осипа Брика в 1912 году, безумно его любила
и преклонялась перед его интеллектом. Интересно, что сначала, в 1913
году, у молодого поэта-футуриста Владимира Маяковского был роман с сестрой
Лили Эльзой, и лишь через два года ее место в сердце Маяковского заняла
Лиля. Это была любовь с первого взгляда, любовь, которую Маяковский
сохранил до последнего дня жизни. Вскоре после их знакомства вышла поэма
Маяковского «Облако в штанах» с посвящением «Тебе, Лиля».
— При этом Брик сохранила отношения и со своим
бывшим мужем. Вы согласны, что такие отношения не совсем обычны?
— Естественно, даже мои знакомые, вполне интеллигентные люди, скептически
покачивают головами, когда я им рассказываю о своей беседе с Лилей на
эту тему. Но ведь Осип Брик, Лиля и Маяковский и не были обычными людьми.
Они в своих взглядах резко возвышались над обычными пошловато-житейскими
понятиями о любви. Для них любовь меньше всего ограничивалась сексом,
а были они связаны куда сильнее необычным родством душ, полным взаимопониманием
во всех вопросах, а в особенности в том, что касалось искусства. И именно
поэтому Лиля и не изменила своего отношения к Осипу Брику даже после
его любовной связи, а затем и женитьбе на Евгении Соколовой-Жемчужиной,
с которой он прожил долгие годы, не расставаясь с Лилей. Повторяю: духовно,
а не общей кроватью. Правда, Лиля Брик сочувственно относилась к ней,
так как под одной крышей они не жили, кроме военных годов эвакуации
в Перми.
— Но известно, что у Лили Брик было немало романов
при жизни Маяковского. Как она это объясняла?
— Лиля Юрьевна, безусловно, любила Маяковского, была его музой в подлинном
смысле этого слова, постоянно восхищалась им, внушала уверенность в
себе, что ему было так необходимо. Ведь при всей своей физической мощи
и внешней самоуверенности он был крайне ранимым человеком. Она никогда
ему не льстила, искренне считала его гениальным поэтом, но порой ей
было с ним крайне трудно. Человек он был нелегкий, подверженный всепоглощающим
страстям, прежде всего по отношению к самой Лиле. Она знала о его хронических
мыслях о самоубийстве, они ее безмерно тревожили, и дважды она его спасала
от этого шага. Кроме того, Лиля Юрьевна очень любила жизнь и самых разных
людей и только чисто физические отношения ни настоящей любовью, ни изменой
не считала и к многочисленным интрижкам Маяковского относилась абсолютно
без ревности. Первые признаки ревности она проявила, когда появились
его стихи, посвященные Татьяне Яковлевой. Маяковский познакомился с
ней и влюбился в нее в Париже. Но многие годы спустя Татьяна Яковлева,
уже живя в Америке и будучи замужем за очень богатым человеком, Александром
Либерманом, признавалась, что порвала с Маяковским, потому что поняла:
никто в его душе Лилю не заменит, а быть на вторых ролях ей не хотелось.
— Чем можно объяснить успех Лили у мужчин? Была
ли она красавицей? На фото этого не заметишь. Или кокеткой, умевшей
вскружить голову мужчине?
— Нет, даже в молодости в обычном смысле этого слова красивой она не
была. У нее были прекрасные лучистые глаза, но фигура была не из лучших.
У нее были тонкие ножки, которые она с присущим ей вкусом тщательно
скрывала под длинными юбками или брюками. Ведь она была первой женщиной
в Москве, надевшей брюки. Вообще вкус у нее был отменным. Но ее мистическое
обаяние заключалось главным образом в том, что она была великолепным
собеседником. Разговаривая с мужчиной, она как бы погружалась в него,
жила только его интересами, а кому из мужчин это не польстит? Кроме
того, она была очень образованным человеком, могла беседовать на самые
разные темы. И всегда шикарно и модно одевалась. Никто никогда не видел
ее непричесанной, неухоженной или небрежно одетой. Я провела с Лилей
Юрьевной 15 лет, после того как вышла замуж за Василия Катаняна, и,
даже живя вместе на даче в Переделкине, не могла не удивляться, как
она следит за собой: тщательно, но так, что посторонние этого не замечали.
А в том, каким вниманием она окружала каждого, кто с ней сталкивался,
Лиля Юрьевна была несравненна. И неудивительно, что ее последний муж
Василий Абгарович Катанян, мой свекор, ушел от красавицы-жены, оставив
ее с подростком сыном, прожил с Лилей Юрьевной 40 лет и до последнего
ее дня боготворил Лилю в полном смысле этого слова. И даже мой муж,
который очень любил мать и болезненно переживал уход отца из семьи,
благодаря такту и доброте Лили Юрьевны тоже очень привязался к ней,
сохранив на всю жизнь не только уважение, но и восхищение ею.
— По всей видимости, Лиля Юрьевна была человеком,
обладавшим огромной волей. Достаточно вспомнить, что она сама ушла из
жизни, когда решила, что страдания от возраста и болезни превышают радости.
— В мае 1978 года в возрасте 86 лет Лиля Юрьевна упала и сломала шейку
бедра. Она прекрасно понимала, что в этом возрасте ей уже не подняться
с постели. Выбрав момент, когда муж уехал по делам, она проглотила припасенный
нембутал — сильнейшее снотворное и стала писать предсмертную записку,
которую закончить не успела: «В смерти моей прошу никого не винить.
Васик, я боготворю тебя. Прости меня! И друзья простите…»
Вся Лиля Брик в этой записочке. Найти в себе силы сказать самые теплые
и ласковые слова мужу фактически с того света, да еще и извиниться…
Когда после ареста ее предыдущего мужа Примакова в 1936 году и его расстрела
в 1937 году от нее все отвернулись и лишь ее давний друг и друг Осипа
Брика Василий Абгарович Катанян был с ней, она не только оценила это,
а была предана ему все последующие годы. И несмотря на то что она была
еще сравнительно молодой женщиной 47 лет, она никогда ему не изменяла,
даже при всех своих авангардных взглядах на верность.
— Была ли она добрым человеком? Вы ведь могли наблюдать
ее не только в светской обстановке.
— Она была не просто добрым человеком. На ее счету огромное количество
добрых дел. Когда она еще получала деньги за переиздания трудов Маяковского,
она помогала даже незнакомым людям. А получала она за переиздание, поскольку
в своей предсмертной записке Владимир Маяковский написал: «Лиля, люби
меня. Товарищ правительство, моя семья — это Лиля Брик, мама, сестры…
Если ты устроишь им сносную жизнь — спасибо. Счастливо оставаться. Владимир
Маяковский. 12/IV — 30 г.» Когда срок получения денег истек, у нее все
равно всегда находилось время помочь больным друзьям. А чего стоит история
ее отношений с режиссером Параджановым! Она лишь дважды встречалась
с ним до его ареста, но знала многое о нем от моего мужа Васи, который
с ним дружил, и была покорена его талантом. А помогать и по мере сил
поддерживать таланты она всегда считала своей первейшей обязанностью
и долгом. И, несмотря на годы застоя и, естественно, далеко не благожелательное
отношение к Параджанову со стороны официальных властей, она регулярно
писала ему письма со словами поддержки и посылала посылки, которые его
так выручили.
И при помощи Арагона сумела освободить его раньше срока.
Чем, несомненно, спасла ему жизнь.
В послевоенные годы, когда ее сестра Эльза Триоле и ее муж писатель
Луи Арагон буквально голодали в разрушенном послевоенном Париже, она
любыми путями переправляла им продуктовые посылки и тем самым спасала
их от голода. Ее отличительной чертой было всегда помнить, что именно
любят ее многочисленные друзья. Она никогда не забывала, что кому подать,
когда к ней приходили гости. А гости приходили ежедневно и к обеду,
и к ужину. Ее жажда и интерес к жизни поражали и притягивали к ней людей.
Так она познакомила Майю Плисецкую, талант которой ее восхищал, с Родионом
Щедриным — талантливым и начинающим тогда молодым композитором, и стала
посаженной матерью на их свадьбе. Она всячески помогала поэту Андрею
Вознесенскому, через своих многочисленных знакомых на Западе рекламируя
его и помогая ему в его контактах во Франции и Америке.
— Вы говорите, что Лиля Юрьевна очень любила вашего
мужа. Как она отнеслась к вашему браку?
— С присущей ей широтой и демократизмом. Она ничего обо мне не знала,
я была для нее провинциальной девочкой из Эстонии. Но тем не менее я
не почувствовала никакой вражды или снобизма. Конечно, у меня было немало
провинциальных привычек, так как я росла в суровых условиях военного
и послевоенного времени, без семьи и дома. И я всегда буду благодарна
Лиле Юрьевне за то, как тактично она меня от этих привычек отучала.
Она обожала делать подарки, и практически никто не уходил из ее дома
без подарка, меня и моего мужа это коснулось в полной мере.
— С ваших слов Лиля Брик предстает каким-то безгрешным
розовым ангелом.
— Нет, она никак не была розовым ангелом. Даже ко мне она часто бывала
резка и несправедлива, и порой я уходила от нее в слезах. Но как только
я приезжала домой после ее резких реплик, раздавался звонок, и она полным
очарования голосом не только извинялась передо мной, молодой девчонкой,
а признавала себя неправой. Думаю, что, будь она менее широкой, более
злой и завистливой, она никогда не снискала бы уважение и восхищение
не только Маяковского и Брика, но и всех своих мужей и поклонников,
среди которых были более чем незаурядные люди. Когда в 60-е годы у нее
случился инфаркт и ее госпитализировали в обычную больницу, где в палате
было еще четыре совершенно простые женщины, то ее простота и доброта
снискали ей любовь всех этих простых работниц, которые и о Маяковском-то
толком не знали.
— Каковы были отношения между Лилей и ее сестрой
Эльзой Триоле?
— Они очень любили друг друга, но это были скорее отношения «любовь
— зависть — ревность». Эльза никак не могла забыть, как Маяковский,
с которым у нее был бурный роман, перекинулся на Лилю. Успех Лили у
мужчин плюс любовь одного из талантливейших поэтов ХХ века вызывали
у Эльзы ревность, так как, несмотря на то что она была красивее Лили,
такого успеха у мужчин Эльза не имела. А потом Эльза стала популярной
французской писательницей, издававшей под именем Эльзы Триоле по роману
в год. Кроме того, она была женой известного поэта Луи Арагона, а Лиля
оставалась лишь музой Маяковского — сама ничего не создав, хотя была
способным скульптором, имела литературные способности и вообще была
натурой артистичной.
— Создается впечатление, что Лиля Брик прожила
какую-то нереально красивую жизнь, несмотря на страшные годы войн, голода
и репрессий, через которые прошла наша страна со времени 1917 года.
— Это очень далеко от истины. Мы просто сосредоточили свое внимание
на ее качествах, таких как обаяние, доброта и внимание к людям. А пережить
ей пришлось с лихвой все «прелести» коммунистического режима. До последних
дней она не переставала винить себя в том, что ее не было в Москве во
время самоубийства Маяковского. «Я знаю, — не раз говорила она мне и
моему мужу, — что, будь я в Москве около него, я бы сумела отвести его
руку от пистолета». С какой стойкостью она переносила всю хулу от рапповцев
и других гонителей Маяковского, когда его перестали печатать и считали
лишь «попутчиком»!
Так продолжалось до того, как Иосиф Сталин произнес
свое известное изречение о том, что Маяковский был и остается лучшим
и талантливейшим поэтом нашей эпохи. А ведь произнес он эти слова после
длинного письма к нему Лили Брик, сумевшей через своих друзей передать
это письмо ему лично в руки. А арест ее мужа, комкора Примакова, после
чего она, ставшая женой врага народа, висела на волоске от того, чтобы
превратиться в лагерную пыль. Никто не может сказать с уверенностью,
но из достоверных источников известно, что ее имя стояло в списках Лаврентия
Берия на расстрел и Сталин лично вычеркнул ее фамилию. А смерть Осипа
Брика — самого близкого ей человека, ее первой любви. В 1945 году у
него случился сердечный приступ на лестнице в их арбатской квартире
и он уже не смог подняться. Лиля в течение нескольких месяцев не могла
прийти в себя и говорила: «Когда застрелился Володя Маяковский — погиб
он. Когда умер Ося — умерла я». Нет, жизнь этой выдающейся женщины,
несмотря на кажущуюся легкость и красивость, вовсе не походила на сплошной
праздник. Хотя сама Лиля Юрьевна для нас — тех, кому посчастливилось
знать ее лично, — была настоящим праздником.
Автор: Елена Кореневская
Сайт: Аргументы И Факты
Дата публикации на сайте: 16.07.2005
А вот ещё один любопытный материал
на ту же тему:
"Маяковский знакомится с Бриками в июле 1915 года. Осип Максимович и его жена, Лиля Юрьевна, были очень обеспеченные выходцы из буржуазной среды, которую так ненавидел Маяковский. Снова двойственность, снова противоречие, которое потом обернется разрывом. Познакомила их младшая сестра Лили - Эльза, впоследствии французская писательница Эльза Триоле. После первого прочтения стихов все и случилось. Брики отнеслись к его творчеству восторженно, назвали "невиданным чудом", тут же Владимир Маяковский полюбил Лилю Юрьевну, "ослепительную царицу евреев". Вскоре Маяковский переезжает к Брикам. Что же это были за отношения? Даже самые близкие терялись в догадках. Вероника Полонская пишет: "Я никак не могла
понять семейной ситуации Бриков и Маяковского. Они жили такой
дружной семьей, и мне было неясно, кто же из них является мужем
Лили Юрьевны". |
Лиля Брик и Владимир Маяковский |
Брик был начитан, знал языки, точно чувствовал конъюнктуру,
сам сочинял художественные произведения. В рукописях любых стихов Маяковского
нет ни одной запятой. С 1916 года все знаки препинания расставляются
Бриком. Он принимал участие во всех замыслах Маяковского. Собирал материалы
для поэмы "Ленин", обсуждал идеи, сдавал в печать готовые
произведения. Они действительно хорошо дополняли друг друга. Черновик
каждой новой вещи он прежде всего отдавал Брику: "На, Ося, расставь
запятатки".
На протяжении пятнадцати лет Маяковский пользовался эрудицией Брика,
Брик же выжимал из него все соки и ограничивал его движения. Несомненно,
это был деловой союз, основанный на взаимовыгодных обстоятельствах.
Так что можно сделать вывод о том, что не только любовь к Лиле Юрьевне
вынуждала Маяковского дружить с Осипом Максимовичем. Если Маяковский
и ревновал, то лишь в самом начале их знакомства. Потом Осип стал для
жены другом, и эта роль его устраивала. Видимо, поэтому Маяковский мог
так долго и ровно дружить с соперником. Сама же Лиля Юрьевна на полях
какой-то рукописи напишет: "Физически О.М. не был моим мужем с
1916 г., а В.В. - с 1925 г." Маяковский носит кольцо с инициалами,
подаренное Лилей.
Он, в свою очередь, дарит ей кольцо с выгравированными инициалами "Л. Ю. Б.". Монограмма читается как бесконечное "люблюблюблюблюблюблюб". Внутри кольца написано "Володя". Когда советские люди перестали носить кольца, Маяковскому присылали на выступлениях записки: "Товарищ Маяковский! Кольцо вам не к лицу". Но товарищ Маяковский не расстался с кольцом, он надел его на связку с ключами. В письмах к Лиле поэт подписывается "Щен" и рисует забавные картинки, отображающие его самого: "Щен болен. У него грипп", "Щен в Мексике, на пальме, смотрит в бинокль на Москву", "Щен в Крыму, на вершине Ай-Петри, с шашлыком в руке". Его любовь - романтична, возвышенна, всепоглощающа. Маяковский пишет поэму "Флейта-позвоночник", в которой героиня - предмет сделки. Она опутана мещанским благополучием, ее могут продать, украсть, перекупить. Нет ничего странного в этой аллегории, образе, ведь его Лиля Брик опекалась в молодости гувернанткой, училась в частной гимназии, живет в буржуазной среде и сейчас. Посвященные ей "Флейта-позвоночник" и особенно "Лиличка! Вместо письма" - самые подлинные признания в любви. Никогда еще вся гамма чувств - ненависть, любовь, обида - не была так талантливо выражена в стихах. Но Лиля Юрьевна Брик - бесспорный центр внимания не только Маяковского, но и многочисленных поклонников и близких друзей. Переменчивая, жгучая, естественная, умная, избалованная во всех своих капризах и порывах.
На свет ее "горячих до гари" глаз мужчины тянулись как мотыльки. По-видимому, и Маяковскому отводилась сходная роль, на которую он в отличие от Брика согласен не был. В конце декабря 1922 года возникает странный разрыв в отношениях Маяковского и Бриков. Поэт безвылазно сидит на Лубянке под строгим домашним арестом. Выходит только за папиросами, ни с кем не видится и пишет, пишет, пишет. Что же произошло? Маяковский утверждает всем, что пауза произошла "по взаимному уговору" и ему необходимо пересмотреть свой внутренний багаж. Лиля Юрьевна пишет о другом: "Жилось нам хорошо, привыкли друг к другу, обуты, одеты, живем в тепле, едим вкусно и вовремя, пьем много чая с вареньем. Установился "старенький, старенький бытик". Мы испугались и решились разбить это "позорное благоразумие". Маяковский приговорил себя на два месяца одиночного заключения проверить себя". Проверка удалась на славу. Он может жить без варенья. Но он не может жить без Лили. Да и варенье, оказалось, здесь ни при чем. Из писем Маяковского вдруг выясняется, что есть какая-то его вина: "Я не грожу, не вымогаю прощения...", "Я вижу, ты решила твердо...". А в одном из писем двухмесячной изоляции он написал прямо: "Я знаю, что мое приставание к тебе - для тебя боль".
Оказывается, на самом деле причина разрыва - настойчивые
требования Маяковского верности и постоянства от Лили. Снова двойственность,
снова парадокс. Разве постоянство - не мещанская добродетель, от которой
он бежал и которую обличал в стихах? Как верно заметил Сэленджер, мы
боимся признаться себе в каких-то очень простых и искренних вещах, потому
что на поверку они оказываются самыми банальными. Маяковского буквально
раздирают противоречия и чувства: обида, ревность, ненависть. В эти
два месяца ссылки Маяковский пишет более чем странную поэму "Про
это". Тема впрямую не названа. Про что про это? Нет более уклончивого
произведения, но здесь его традиционная маяковская ненависть изливается
во что-то абстрактное, в предельно максимальное ничто. Маяковский не
выдерживает два месяца. Бегает подслушивать на лестницу под дверь Бриков.
Брики чай с вареньем пить перестали, перешли на шампанское. ЛЕФ, который
возглавлял Осип Брик, становится одновременно и салоном, и вертепом,
и коммерческим предприятием. И снова обман самого себя. Оказывается,
против обыденщины, вкусной еды и теплой ванны Маяковский ничего против
не имеет. Повседневное окружение его любимой, друзья-соперники, поклонники
- вот главное препятствие его любви. А самое страшное в том, что и сама
Лиля - часть ненавистного ему быта. Но он ее не может обвинять. Потому
что любит.
| Скажу: - Смотри, даже здесь, дорогая, стихами громя обыденщины жуть, имя любимое оберегая, тебя в проклятиях моих обхожу. |
Что же это была за женщина? Женщина, чутко оберегающая свое первенство
в душе поэта. Легко относясь к его увлечениям, не терпела и намека на
что-то глубокое. Публичное прочтение стихов, посвященных Татьяне Яковлевой,
навсегда осталось в ее глазах самой страшной изменой. А после смерти
Маяковского все письма к нему Татьяны Яковлевой были сожжены Лилей Юрьевной
лично. Сложная любовь Маяковского и Брик не раз подвергалась испытаниям,
однако лишь к ней чувство поэта было безмерным вне времени и событий.
На самом деле трагедия "треугольника" заключалась в том, что
Маяковский любил Лилю, которая по-настоящему не могла любить никого,
кроме своего мужа. Осип Максимович же, по-видимому, ее не любил. Отсюда
постоянная смена поклонников у Брик, суета, вечная смена развлечений,
обеды, премьеры, вернисажи, желание везде успеть первой.
Как оказалось, все это лишь средство заполнить ту пустоту,
которую не смог заполнить равнодушный к ней человек. Когда Маяковский
и Лиля сходились, они обещали обязательно сказать друг другу, если разлюбят.
В 1925 году отношения Маяковского с Лилей Брик становятся чисто дружескими.
Лиля пишет, что больше не любит его. И добавляет, что едва ли это признание
заставит его страдать, так как у него самого за последнее время было
два сильных увлечения. Тем не менее они до конца жизни (его) бережно
заботятся друг о друге. Более того, влияние Лили Брик настолько сильно
над Маяковским, что она берет на себя смелость не разрешать ему жениться.
Когда в 1927 году были обнародованы его отношения с Натальей Брюханенко,
Лиля написала ему: "Володя, до меня отовсюду доходят слухи, что
ты собираешься жениться. Не делай этого..."
Неизвестно, повлияла ли просьба Лили Брик или нет на
его решение, но Маяковский так ни разу и не женился. Трудно объяснить,
что такое обаяние, еще труднее понять женскую силу. Если кто и знал
тайну своей поразительной привлекательности и власти над мужчинами,
то это сама Лиля Брик. Одно можно сказать с уверенностью: Лиля Брик
помимо несомненной одаренности и в слове, и в уме обладала самым главным
даром - быть женщиной. И не только в молодости, но и в восемьдесят лет
она была окружена мужчинами, роскошью и богатством. Кто смог понять
незаурядность этой женщины, тот сразу же попадал под ее почти безраздельную
власть. Помимо безукоризненного вкуса она обладала поразительным чутьем
на все новое и талантливое. К ней на суд приносили свои стихи Слуцкий
и Вознесенский, она безошибочно угадала в молодой дебютантке великую
балерину Майю Плисецкую, с первых же слов поняла феномен Параджанова.
Умерла она восьмидесятишестилетней старухой, покончив с собой из-за
несчастной любви. Говорят, гибель Маяковского была воспринята Лилей
Юрьевной с искренним удивлением. После похорон у Бриков пили чай, шутили,
говорили о жизни и смерти. Но несмотря на, казалось бы, такие резкие
различия в жизни Маяковского и Лили Брик, смерть обоих до ужаса похожа:
неудачная любовь, болезнь и самоубийство."
Сайт: www.stm.ru/current/lovemuz.shtml
Карла Бруни |
Президент Франции недолго горевал после развода с супругой
Сесилией. Похоже он, определился с выбором своей новой пассии - ею стала
известная модель Карла Бруни. Сегодня французская газета L'express разместила
на своем сайте фото, где Саркози и Бруни запечатлены во время прогулки
по парижскому Диснейленду 15 декабря. Автор статьи утверждает, что эта
новость станет "сенсацией недели" - фото вихрем облетело все
французские газеты. Говорят, что отношения между моделью и президентом
давно являются "секретом Полишинеля": Саркози и Бруни уже
появлялись вместе на светском ужине, а также прогуливались по садам
Версальского дворца в компании матери девушки - по этому факту можно
судить о серьезности отношений между влюбленными. Кроме того, та же
фотография появилась на первой полосе вполне авторитетной газеты Figaro.
Заметка называется: "Карла Бруни, подруга Николя Саркози".
Как пишет издание, Елисейский дворец не стал давать какие-либо комментарии
по этому поводу, отметив, что никогда не обсуждает слухи. С кем только
ни пытались французские журналисты "поженить" президента Франции
после того, как 18 октября было официально объявлено, что браку Сесилии
и Николя пришел конец. В список любовниц попала и известная ведущая
телепрограмм Лоранс Феррари, и министр юстиции Рашида Дати. Теперь пресса
переключилась на Карлу Бруни.
Карла Бруни родилась 23 декабря 1968 года в Турине.
В пятилетнем возрасте переехала с семьей в Париж, позже училась в интернате
в Швейцарии, по окончании которого поступила в университет Парижа на
факультет искусства и архитектуры. С той поры Карла Бруни постоянно
фигурирует в рейтингах самых красивых женщин Франции, передает РИА "Новости".
Кроме успехов француженки в модельном бизнесе, можно отметить ее достижения
и в других областях. Карла Бруни - хорошая актиса и всегда нарасхват
у режиссеров, а в 1999 году она дебютировала в качестве певицы. В одной
лишь Франции ее диск разошелся тиражом в 800 тысяч экземпляров, а мировые
показатели продаж составили 1 миллион копий! В 2004 году Карла Бруни
была удостоена высшей награды французской звукозаписывающей индустрии
«Виктория» в номинации «Лучшая певица года».
Автор: Фаина КЕЛЛЕР, KP.RU — 17.12.2007
Сарит Ларри |
Канал израильского кино yes
Израиль (180-ая кнопка), к счастью, предоставляет телезрителям
постоянную возможность знакомиться с фильмами отечественного производства.
Так, в течение двух недель в рамках проекта "Короткие истории
о любви" на канале будут транслироваться девять 40-минутных
фильмов, в каждом из которых раскрывается вечная тема любви. Фильмы
были поставлены представителями нового, молодого поколения сценаристов
и режиссеров и вышли на экраны в конце 90-х годов. Литературная
основа этих короткометражек очень достойная. В жанре фантастической притчи поставил свой фильм "Домино" (1997) с актрисами Сарит Ларри и Розиной Камбос в главных ролях режиссер Ори Сиван (трансляция 23.12.07 в 12.37). Это история 30-летней Элианы, которой во время консультации у психоаналитика предлагают... вернуться в прошлое, чтобы его слегка подкорректировать. Но цена такого путешествия высока: годы жизни. Сделку заключили в лучших классических традициях, и современная Маргарита отправилась "чинить прошлое". Главное, что ей удалось сделать, – это спасти от авиакатастрофы Юваля - свою детскую любовь. Еще в детстве он обещал найти ее в будущем. |
И вот будущее наступило: очнувшаяся героиня обнаруживает,
что прошло... 50 лет, и спустя год ей предстоит отправляться в гораздо
более длительное путешествие. Однако психоаналитик, не менее изобретательная,
чем ее гетевский прототип, предлагает шанс на спасение: если Юваль все-таки
придет на свидание, о котором он некогда договаривался с Элианой – жизнь
будет продолжаться как раз те 50 лет, которые были растрачены в путешествии.
А если встреча не состоится – конец наступит с заходом солнца...
Героиня решается на риск лишь бы встретиться со своей детской любовью.
И… всё случается так, как и предсказала психоаналитик. Юваль не стал
лётным штурманом и не погиб. Но зато он женат, и у него трое детей.
Старшая подбегает к отцу, когда он уже почти расстаётся с Элианой. Элиана
собирается уйти, но вдруг слышит из уст девочки: «Мама! А ты здесь что
делаешь?..» И в прекрасных голубых глазах Сарит Ларри снова вспыхивает
совсем было уже потухший огонёк…
К сожалению, мне не удалось отыскать в Интернете приличную фотографию
красавицы Сарит Ларри. Помещаю то, что есть...
Известная французская актриса театра
и кино Анни Жирардо родилась 25 октября 1931
года в Париже. Ей не было и 9 лет, когда началась немецкая оккупация,
и мать отослала ее к бабушке в Бретань. В детстве Анни всерьез
собиралась стать врачом. Ее мать была акушеркой, и Анни, выросшая
без отца, всегда и во всем хотела быть на нее похожей. После окончания
колледжа Анни даже поступила в школу медсестер, но в то время
она уже мечтала о карьере актрисы. Как ни странно, мать поддержала
ее, и вскоре Анни поступает на актерские курсы, а потом в Консерваторию
драматического искусства. Днем она репетировала на ученической
сцене, а вечерами лихо отплясывала канкан в кабаре «Роз Руж» за
семнадцать франков в час. В 1954 году она окончила Консерваторию драматического
искусства и ее приняли в «Комеди Франсез», о чем мечтает каждый
французский актер. «Комеди Францез» - это карьера, высокое положение
в обществе и материальное благополучие, но не для Анни. Она через
два года пишет заявление об уходе «по собственному желанию». В
театре ей слишком спокойно, ей же хотелось пробовать себя в самых
разных амплуа, хотелось работать в кино. В 1955 году Анни дебютировала в фильме режиссера
А.Юнебеля «Тринадцать за столом». Потом она сыграла около дюжины
ролей в коммерческих лентах разного жанра («Человек с золотым
ключом», «Мегрэ расставляет сети», «Пустыня Пигаль» и др.). Настоящий
перелом в творческой судьбе актрисы произошел после встречи с
итальянским режиссером Лукино Висконти. В 1959 году он предлагает
ей главную женскую роль в театральном спектакле «Двое на качелях»
по пьесе У.Гибсона. Настоящая слава пришла к актрисе с ролью Нади
в эпохальной картине Лукино Висконти «Рокко и его братья». Позднее Анни Жирардо снималась во множестве фильмов,
среди которых «Жить, чтобы жить», «Диллинджер мертв», «Доктор
Франсуаза Гайан», «Каждому свой ад», «Нежный полицейский», «Говорите,
мне интересно», «Черная мантия для убийцы», «Жизнь продолжается»,
«Крик в ночи» и другие. Мне она запомнилась в сентиментальной
мелодраме "Старая дева", где трогательно рассказывается
о нерешительной и скромной женщине, встретившей мужчину своей
жизни... на пляже. |
Анни Жирардо |
В 1970-х годах А.Жирардо неоднократно появляется в
психологических драмах А.Кайата «Умереть от любви», «У каждого свой
ад», «Любовь под вопросом». С этого времени она постепенно меняет свое
амплуа, переходя от сложных психологических образов к характерным комедийным
персонажам. Это фильмы «Старая дева», «Последний поцелуй», «Знакомство
по брачному объявлению», «Доктор Франсуаза Гайян» и др. На Венецианском
фестивале в 1965 году Жирардо победила с фильмом «Три комнаты на Манхэттене».
В 1976 году она получила главную французскую кинопремию «Сезар» как
лучшая актриса за роль в фильме «Доктор Франсуаза Гайан» и в 1995 году
- как лучшая актриса второго плана за роль в фильме Клода Лелуша «Отверженные».
В начале 90-х Анни Жирардо практически полностью исчезает
с экрана. За последние 15 лет в кино можно было бы выделить разве что
работу у австрийца Михаэля Ханеке - роль старухи в фильме "Пианистка",
принесшая актрисе целую кучу кинопремий.
Актриса в последние годы издала две автобиографических книги.
Анни Жирардо не раз бывала в России. Впервые она приезжала в Москву
в середине шестидесятых на съемки фильма «Журналист». Потом приезжала
еще несколько раз - на съемки и со спектаклями «Водопады Замбези», «Мадам
Маргарита». 31 октября 2000 года в кинотеатре «Мир Кинотавра» состоялась
творческая встреча со знаменитой французской актрисой, открывшая цикл
встреч «Звезды мирового кино». В 2004 году Анни Жирардо приезжала в
Москву, где она снималась в сериале «Свободная женщина-2».
| "В столовке гомон
и ропот, Запах борщей и каш. Здесь я увидел локоны - Образ увидел ваш. В бульоне плавал картофель, Искрился томатный сок. Я видел в борще ваш профиль, И есть я борща не мог: Быть может, вот так же где-то В буфетах Парижа, Бордо Стояли за винегретом Тургенев и Виардо?.. "Тефтели с болгарским перцем!"- Вы скажете свысока. Хотите бифштекс из сердца Влюблённого чудака?.." |
Эти строки принадлежат перу Василия Аксёнова, которого я обожал в юности - он написал их в своей повести "Коллеги". Но образ прекрасной Полины, на всю жизнь покорившей сердце знаменитого русского писателя, живёт рядом со мной по сию пору. Сегодня мой рассказ о ней.
Современники в один голос признавали, что она вовсе
не красавица. Скорее даже наоборот. Поэт Генрих Гейне говорил, что она
напоминала пейзаж, одновременно чудовищный и экзотический, а один из
художников той эпохи охарактеризовал ее как не просто некрасивую женщину,
но жестоко некрасивую. Именно так в те времена описывали знаменитую
певицу Полину Виардо. Действительно, внешность Виардо
была далека от идеала. Она была сутула, с выпуклыми глазами, крупными,
почти мужскими чертами лица, огромным ртом.
Но когда «божественная Виардо» начинала петь, ее странная, почти отталкивающая
внешность волшебным образом преображалась. Казалось, что до этого лицо
Виардо было всего лишь отражением в кривом зеркале и только во время
пения зрителям доводилось видеть оригинал. В момент одного из таких
превращений на сцене оперного театра Полину Виардо увидел начинающий
русский литератор Иван Тургенев.
Эта загадочная, притягательная, как наркотик, женщина сумела на всю
жизнь приковать к себе писателя. Их роман занял долгие 40 лет и разделил
всю жизнь Тургенева на периоды до и после встречи с Полиной.
Деревенские страсти
ЛИЧНАЯ жизнь Тургенева с самого начала складывалась как-то негладко. Первая любовь юного писателя оставила горький осадок. Юная Катенька, дочь жившей по соседству княгини Шаховской, пленила 18-летнего Тургенева девичьей свежестью, наивом и непосредственностью. Но, как выяснилось позже, девушка была вовсе не так чиста и непорочна, как рисовало воображение влюбленного юноши. Однажды Тургеневу пришлось узнать, что у Екатерины уже давно есть постоянный любовник, причем «сердечным другом» молоденькой Кати оказался не кто иной, как Сергей Николаевич — известный в округе донжуан и… отец Тургенева. В голове юноши царила полная сумятица, молодой человек никак не мог понять, почему Катенька предпочла ему отца, ведь Сергей Николаевич относился к женщинам без всякого трепета, часто был груб со своими любовницами, никогда не объяснял своих поступков, мог обидеть девушку нечаянным словом и едким замечанием, в то время как его сын любил Катю с какой-то особенной ласковой нежностью.
Все это казалось молодому Тургеневу огромной несправедливостью, теперь, глядя на Катю, он чувствовал себя так, будто неожиданно наткнулся на что-то мерзкое, похожее на раздавленную телегой лягушку. Оправившись после удара, Иван разочаровывается в «благородных девицах» и отправляется искать любви у простых и доверчивых крепостных крестьянок. Они, не избалованные добрым отношением своих замотанных работой и бедностью мужей, с радостью принимали знаки внимания от ласкового барина, им легко было доставить радость, зажечь в их глазах теплый огонек, и с ними Тургенев чувствовал, что его нежность наконец-то оказалась оцененной. Одна из крепостных, жгучая красавица Авдотья Иванова, родила писателю дочь. Возможно, связь с барином могла бы сыграть роль счастливого лотерейного билета в жизни малограмотной Авдотьи — Тургенев поселил дочку в своем имении, планировал дать ей хорошее воспитание и, чем черт не шутит, прожить счастливую жизнь с ее матерью. Но судьба распорядилась иначе.
Любовь без ответа Путешествуя по Европе, в 1843 году Тургенев знакомится с Полиной Виардо, и с тех пор его сердце принадлежит только ей одной. Ивана Сергеевича не волнует то, что его любовь замужем, он с удовольствием соглашается на знакомство с мужем Полины Луи Виардо. Зная, что Полина счастлива в этом браке, Тургенев даже не настаивает на интимной близости с возлюбленной и довольствуется ролью преданного обожателя. Мать Тургенева жестоко ревновала сына к «певичке» , а потому путешествие по Европе (которое вскоре свелось лишь к посещению городов, где гастролировала Виардо) приходилось продолжать при стесненных финансовых обстоятельствах. Но разве могут такие мелочи, как недовольство родных и отсутствие денег, остановить обрушившееся на Тургенева чувство! Семья Виардо становится частицей его жизни, он привязан к Полине, с Луи Виардо его связывает нечто вроде дружбы, а их дочь стала для писателя родной. В те годы Тургенев практически жил в семье Виардо, писатель то снимал дома по соседству, то надолго останавливался в доме своей возлюбленной. Луи Виардо не препятствовал встречам жены с новым обожателем. С одной стороны, он считал Полину разумной женщиной и целиком полагался на ее здравый смысл, а с другой — дружба с Тургеневым сулила вполне материальные выгоды: вопреки воле матери, Иван Сергеевич тратил на семейство Виардо большие деньги. |
Полина Виардо |
При этом Тургенев прекрасно понимал свое неоднозначное положение в доме Виардо, ему не раз приходилось ловить на себе косые взгляды парижских знакомых, которые недоуменно пожимали плечами, когда Полина, представляя им Ивана Сергеевича, произносила: «А это наш русский друг, познакомьтесь, пожалуйста». Тургенев чувствовал, что он, потомственный русский дворянин, постепенно превращается в комнатную собачку, которая начинает вилять хвостом и радостно повизгивать, стоит хозяйке бросить на нее благосклонный взгляд или почесать за ухом, но ничего поделать со своим нездоровым чувством он не мог. Без Полины Иван Сергеевич чувствовал себя по-настоящему больным и разбитым: «Я не могу жить вдали от вас, я должен чувствовать вашу близость, наслаждаться ею. День, когда мне не светили ваши глаза, — день потерянный», — писал он Полине и, не требуя ничего взамен, продолжал помогать ей материально, возиться с ее детьми и через силу улыбаться Луи Виардо. Что касается его собственной дочери, то ее жизнь в имении бабушки вовсе не безоблачна.
Властная помещица обращается с внучкой как с крепостной. В итоге Тургенев предлагает Полине взять девочку на воспитание в семью Виардо. При этом, то ли желая угодить любимой женщине, то ли охваченный любовной лихорадкой, Тургенев меняет имя собственной дочери, и из Пелагеи девочка превращается в Полинет (разумеется, в честь обожаемой Полины). Безусловно, согласие Полины Виардо воспитывать дочь Тургенева еще больше укрепило чувство писателя. Теперь Виардо стала для него еще и ангелом милосердия, вырвавшим его ребенка из рук жестокой бабки. Правда, Пелагея-Полинет вовсе не разделяла отцовской привязанности к Полине Виардо. Прожив в доме Виардо вплоть до совершеннолетия, Полинет на всю жизнь сохранила обиду на отца и неприязнь к приемной матери, считая, что та отобрала у нее отцовскую любовь и внимание. Между тем популярность Тургенева-писателя растет.
В России уже никто не воспринимает Ивана Сергеевича как начинающего литератора — теперь он почти что живой классик. При этом Тургенев свято верит, что своей известностью он обязан Виардо. Перед премьерами спектаклей, поставленных по его произведениям, он шепчет ее имя, считая, что оно приносит ему удачу. В 1852–1853 годах Тургенев живет в своем имении практически под домашним арестом. Властям очень не понравился некролог, написанный им после смерти Гоголя, — в нем тайная канцелярия увидела угрозу императорской власти. Узнав, что в марте 1853 года Полина Виардо приезжает с концертами в Россию, Тургенев потерял голову. Ему удается добыть фальшивый паспорт, с которым переодетый мещанином писатель отправляется в Москву на встречу с любимой женщиной. Риск был огромным, но, к сожалению, неоправданным. Несколько лет разлуки охладили чувства Полины. Но Тургенев готов довольствоваться и простой дружбой, лишь бы хотя бы время от времени видеть, как Виардо поворачивает свою тонкую шею и смотрит на него своими загадочными черными глазами.
В чужих объятиях
Некоторое время спустя, Тургенев все-таки сделал несколько попыток наладить свою личную жизнь. Весной 1854 года произошла встреча писателя с дочерью одного из кузенов Ивана Сергеевича — Ольгой. 18-летняя девушка настолько покорила литератора, что он даже подумывал о женитьбе. Но чем дольше продолжался их роман, тем чаще писатель вспоминал о Полине Виардо. Свежесть юного Ольгиного лица и ее доверчиво-ласковые взгляды из-под опущенных ресниц все же не могли заменить того опиумного дурмана, который писатель ощущал при каждой встрече с Виардо. Наконец, совершенно измученный этой раздвоенностью, Тургенев признался влюбленной в него девушке, что не может оправдать ее надежд на личное счастье. Ольга тяжело переживала неожиданный разрыв, а Тургенев во всем обвинял себя, но ничего не мог поделать с вновь вспыхнувшей любовью к Полине. В 1879 году Тургенев делает последнюю попытку обзавестись семьей. Молодая актриса Мария Савинова готова стать его спутницей жизни. Девушку не пугает даже огромная разница в возрасте — в тот момент Тургеневу было уже за 60. В 1882 г. Савинова и Тургенев отправляются в Париж. К сожалению, эта поездка определила конец их отношений.
В доме Тургенева каждая мелочь напоминала о Виардо, Мария постоянно чувствовала себя лишней и мучилась ревностью. В том же году Тургенев тяжело заболел. Врачи поставили страшный диагноз — рак. В начале 1883 года он был прооперирован в Париже, а в апреле, после госпиталя, перед тем как вернуться к себе, он просит проводить его в дом Виардо, где его ждала Полина. Тургеневу оставалось жить недолго, но он был по-своему счастлив — рядом с ним была его Полина, которой он диктовал последние рассказы и письма. 3 сентября 1883 года Тургенев скончался. Согласно завещанию, он хотел быть похоронен в России, и в последний путь на Родину его сопровождает Клаудиа Виардо — дочь Полины Виардо. Тургенев был похоронен не в любимой им Москве и не в своем имении в Спасском, а в Петербурге — городе, в котором он был лишь проездом, в некрополе Александро-Невской лавры. Возможно, так случилось из-за того, что похоронами занимались, в сущности, почти посторонние писателю люди.
Автор: Александра Тырлова
Сайт: Аргументы И Факты
Беназир Бхутто |
Беназир Бхутто (род. 21 июня 1953, Карачи, Пакистан) — премьер-министр Исламской республики Пакистан в 1988—1990 и 1993—1996 годах, первая в новейшей истории женщина — глава государства с преимущественно мусульманским населением. Родилась в Карачи в семье пакистанца и иранки курдского происхождения. Среднее образование получила в престижных школах в Карачи и Равалпинди, в 1969—1973 изучала политологию в Гарварде, в 1973—1977 политологию и экономику в Оксфорде. Её отец, Зульфикар Али Бхутто, в эти годы (до 1977) занимал пост сначала премьер-министра, а затем — президента Пакистана. В 1977 Беназир Бхутто вернулась в Пакистан, где к власти пришёл генерал Зия-уль-Хак. В 1979 её отец был обвинён в заказе убийства политического оппонента и казнён. В 1979—1984 годах Бхутто не раз оказывалась под домашним арестом, пока, наконец, ей не было разрешено выехать в Великобританию. Будучи в изгнании, руководила Народной партией Пакистана (НПП), основанной её отцом. После гибели Зия-уль-Хака в авиакатастрофе получила возможность вернуться на родину. 16 ноября 1988 на первых, более, чем за десятилетие, свободных парламентских выборах, НПП одержала победу, и Бхутто заняла пост премьер-министра. Однако уже в середине 1990 президент Гулам Исхак Хан отправил её правительство в отставку. В 1993 на очередных выборах Бхутто одерживает победу под лозунгом борьбы с коррупцией и бедностью. И если во втором её правительство преуспело — была проведена широкомасштабная электрификация сельских районов страны, повышены расходы на образование и здравоохранение, то коррупция в годы правления Бхутто приобрела ещё больший размах. |
В частности, муж Бхутто, Азиф Али Зардари, был обвинён в получении взяток. Брат Бхутто, выступавший за тщательное расследование этого дела, был убит в Карачи при загадочных обстоятельствах. Популярность Бхутто в народе падала, а влияние исламских фундаменталистов росло. Поэтому в 1996 её правительство было вынуждено признать режим «Талибана» в Афганистане. Однако в конце того же года её правительство было отправлено в отставку. На выборах 1997 НПП потерпела поражение, а в 1998 г. к власти пришли военные во главе с Первезом Мушаррафом. Бхутто были предъявлены обвинения в финансовых махинациях, и она была вынуждена покинуть страну; её муж провёл более пяти лет в тюрьме по обвинению во взяточничестве. Счета Бхутто в швейцарских банках были заморожены. В 2001 в Пакистане была принята поправка к конституции, запретившая одному и тому же лицу занимать пост премьер-министра более двух раз, что было воспринято многими как попытка Мушаррафа обезопасить себя от конкуренции со стороны Бхутто в случае проведения демократических выборов. Большую часть времени Бхутто проводит в Лондоне и Дубае, выступает по всему миру с лекциями и поддерживает контакты с руководством НПП.
Возвращение на родину и теракт 18 октября 2007 года
18 октября 2007 года Беназир Бхутто вернулась на родину после 8 лет вынужденной ссылки. Во время следования кортежа в толпе встречающих её сторонников прогремело два взрыва. Погибли более 130 человек. Около 500 ранены. Прежде Аль-Каида и Талибан не раз угрожали устроить масштабные теракты, как только Бхутто ступит на пакистанскую землю. Однако, наиболее вероятными организаторами теракта считают радикальных последователей Муххамада Зия-уль-Хака. Главные политические оппоненты самой Бхутто, как когда-то и ее покойного отца, пытаются помешать Беназир и ее Народной партии вернуться к власти в Пакистане. Парламентские выборы в стране намечены на январь 2008 года и Беназир рассчитывает на победу. По закону пост премьер-министра нельзя занимать более двух раз. Бхутто была премьером как раз дважды. Однако, ряд аналитиков считают, что президент страны Первез Мушарраф, подписавший в октябре соглашение с бывшей изгнанницей, пойдет на отмену запрета. Кандидатуру Бхутто поддерживают также и США, именно официальный Вашингтон и выступил инициатором возвращения Бхутто на родину и в большую политику.
Послесловие
К моему огромному сожалению, события опередили мой материал об одной из выдающихся женщин 20-го столетия. Беназир Бхутто больше нет. Нам, израильтянам, как никому в мире известно искажённое маской вселенской ненависти лицо исламского террора. При всём при том знатоки ислама всегда заявляли и заявляют, что Коран призывает к миру и никогда не проповедовал насилия. Может быть, так оно и есть. Будучи журналистом в мусульманской стране Азербайджане, я пытался беседовать на эту тему с пресс-атташе шейх-уль-ислама, главы мусульман Закавказья, резиденция которого находится в Баку. Внятного ответа на свой вопрос о том, есть ли какие-нибудь критерии при определении врага ислама, которого нужно непременно уничтожать, я не получил. И, хотя я больше 30-ти лет жил среди мусульман, имею множество друзей из их числа, владею языком и был поэтом-переводчиком азербайджанской поэзии, я так и не понял: как и почему всё-таки эта религия допускает теракты-самоубийства?..
Беназир Бхутто убита во время теракта
Бывший премьер-министр Пакистана, лидер оппозиции Беназир
Бхутто умерла в госпитале. Об этом сообщает телеканал CNN.
Днем 27 декабря при взрыве на митинге в Пакистане Беназир Бхутто получила
серьезное ранение в шею, ей проводили срочную операцию в близлежащем
госпитале. Как сообщает Sky News, неизвестный выстрелил в Бхутто, когда
охрана усаживала ее в машину, а затем взорвал себя.
В то же время по данным CNN, экс-премьер получила огнестрельное ранение
уже после взрыва.
Представитель пакистанского правительства Тарик Азим Хан (Tariq Azim
Khan) заявил, что не может точно сказать, что явилось причиной ее гибели
- огнестрельное ранение или полученные при взрыве травмы.
Ранее сообщалось, что взрыв произвел террорист-смертник
вскоре после окончания выступления Бхутто на митинге. В результате происшествия
погибли, по различным данным, от 10 до 20 человек. Отметим, что сегодня
в Пакистане произошли также столкновения между сторонниками правящей
партии и последователями оппозиционного лидера Наваза Шарифа, в результате
чего погибли четыре человека.
Напомним, Пакистанская народная партия Беназир Бхутто собиралась принять
участие в парламентских выборах в Пакистане 8 января 2008 года. Как
сообщает корреспондент Sky News, теперь они могут быть отложены или
отменены совсем.
Источник: lenta.ru
Ахматова Анна Андреевна (настоящая
фамилия — Горенко) родилась в семье морского инженера, капитана 2-го
ранга в отставке на ст. Большой Фонтан под Одессой. Через год после
рождения дочери семья переехала в Царское Село. Здесь Ахматова стала
ученицей Мариинской гимназии, но каждое лето проводила под Севастополем.
"Мои первые впечатления — царскосельские, — писала она в позднейшей
автобиографической заметке, — зеленое, сырое великолепие парков, выгон,
куда меня водила няня, ипподром, где скакали маленькие пестрые лошадки,
старый вокзал и нечто другое, что вошло впоследствии в "Царскосельскую
оду"". В 1905 г. после развода родителей Ахматова с матерью
переехала в Евпаторию. В 1906 — 1907 гг. она училась в выпускном классе
Киево-Фундуклеевской гимназии, в 1908 — 1910 гг. — на юридическом отделении
Киевских высших женских курсов.
25 апреля 1910 г. "за Днепром в деревенской церкви"
она обвенчалась с Н. С. Гумилевым, с которым познакомилась в 1903 г.
В 1907 г. он опубликовал ее стихотворение "На руке его много блестящих
колец..." в издававшемся им в Париже журнале "Сириус".
На стилистику ранних поэтических опытов Ахматовой оказало заметное влияние
знакомство с прозой К. Гамсуна, с поэзией В. Я. Брюсова и А. А. Блока.
Свой медовый месяц Ахматова провела в Париже, затем переехала в Петербург
и с 1910 по 1916 г. жила в основном в Царском Селе. Училась на Высших
историко- литературных курсах Н. П. Раева. 14 июня 1910 г. состоялся
дебют Ахматовой на "башне" Вяч. Иванова. По свидетельству
современников, "Вячеслав очень сурово прослушал ее стихи, одобрил
только одно, об остальных промолчал, одно раскритиковал". Заключение
"мэтра" было равнодушно-ироничным: "Какой густой романтизм..."
В 1911 г., избрав литературным псевдонимом фамилию своей прабабки по
материнской линии, она начала печататься в петербургских журналах, в
том числе и в "Аполлоне".
С момента основания "Цеха поэтов" стала его
секретарем и деятельным участником. В 1912 г. вышел первый сборник Ахматовой
"Вечер" с предисловием М. А. Кузмина. "Милый, радостный
и горестный мир" открывается взору молодого поэта, но сгущенность
психологических переживаний столь сильна, что вызывает чувство приближающейся
трагедии. В фрагментарных зарисовках усиленно оттеняются мелочи, "конкретные
осколки нашей жизни", рождающие ощущение острой эмоциональности.
Эти стороны поэтического мировосприятия Ахматовой были соотнесены критиками
с тенденциями, характерными для новой поэтической школы. В ее стихах
увидели не только отвечающее духу времени преломление идеи Вечной женственности,
уже не связанной с символическими контекстами, но и ту предельную "истонченность".
психологического рисунка, которая стала возможна на излете символизма.
Сквозь "милые мелочи", сквозь эстетическое любование радостями
и печалями пробивалась творческая тоска по несовершенному — черта, которую
С. М. Городецкий определил как "акмеистический пессимизм",
тем самым еще раз подчеркнув принадлежность Ахматовой к определенной
школе.
Анна Ахматова |
Печаль, которой дышали стихи "Вечера", казалась печалью "мудрого и уже утомленного сердца" и была пронизана "смертельным ядом иронии", по словам Г. И. Чулкова, что давало основание возводить поэтическую родословную Ахматовой к И. Ф. Анненскому, которого Гумилев назвал "знаменем" для "искателей новых путей", имея в виду поэтов-акмеистов. Впоследствии Ахматова рассказывала, каким откровением
было для нее знаком ство со стихами поэта, открывшего ей "новую
гармонию". Линию своей поэтической преемственности Ахматова
подтвердит стихотворением "Учитель" (1945) и собственным
признанием: "Я веду свое начало от стихов Анненского. Его
творчество, на мой взгляд, отмечено трагизмом, искренностью и
художественной целостностью". "Четки" (1914), следующая книга Ахматовой, продолжала лирический "сюжет" "Вечера". Вокруг стихов обоих сборников, объединенных узнаваемым образом героини, создавался автобиографический ореол, что позволяло видеть в них то "лирический дневник", то "романлирику". По сравнению с первым сборником в "Четках" усиливается подробность разработки образов, углубляется способность не только страдать и сострадать душам "неживых вещей", но и принять на себя "тревогу мира". Новый сборник показывал, что развитие Ахматовой
как поэта идет не по линии расширения тематики, сила ее — в глубинном
психологизме, в постижении нюансов психологических мотивировок,
в чуткости к движениям души. Это качество ее поэзии с годами усиливалось.
Будущий путь Ахматовой верно предугадал ее близкий друг Н. В.
Недоброво. "Ее призвание — в рассечении пластов", —
подчеркнул он в статье 1915 г., которую Ахматова считала лучшей
из написанного о ее творчестве. |
После "Четок" к Ахматовой приходит слава.
Ее лирика оказалась близка не только "влюбленным гимназисткам",
как иронично замечала Ахматова. Среди ее восторженных поклонников были
поэты, только входившие в литературу, — М. И. Цветаева, Б. Л. Пастернак.
Более сдержано, Но все же одобрительно отнеслись к Ахматовой А. А. Блок
и В. Я. Брюсов. В эти годы Ахматова становится излюбленной моделью для
многих художников и адресатом многочисленных стихотворных посвящений.
Ее образ постепенно превращается в неотъемлемый символ петербургской
поэзии эпохи акмеизма. В годы первой мировой войны Ахматова не присоединила
свой голос к голосам поэтов, разделявших официальный патриотический
пафос, однако она с болью отозвалась на трагедии военного времени ("Июль
1914", "Молитва" и др.). Сборник "Белая стая",
вышедший в сентябре 1917 г., не имел столь шумного успеха, как предыдущие
книги. Но новые интонации скорбной торжественности, молитвенностн, сверхличное
начало разрушали привычный стереотип ахматовской поэзии, сложившийся
у читателя ее ранних стихов. Эти изменения уловил О. Э. Мандельштам,
заметив: "Голос отречения крепнет все более и более в стихах Ахматовой,
и в настоящее время ее поэзия близится к тому, чтобы стать одним из
символов величия России".
После Октябрьской революции Ахматова не покинула Родину,
оставшись в "своем краю глухом и грешном". В стихотворениях
этих лет (сборники "Подорожник" и "Anno Domini MCMXXI",
оба — 1921 года) скорбь о судьбе родной страны сливается с темой отрешенности
от суетности мира, мотивы "великой земной любви" окрашиваются
настроениями мистического ожидания "жениха", а понимание творчества
как божественной благодати одухотворяет размышления о поэтическом слове
и призвании поэта и переводит их в "вечный" план. В 1922 г.
М. С. Шагинян писала, отмечая глубинное свойство дарования поэта: "Ахматова
с годами все больше умеет быть потрясающе-народной, без всяких quasi,
без фальши, с суровой простотой и с бесценной скупостью речи".
С 1924 г. Ахматову перестают печатать. В 1926 г. должно было выйти двухтомное
собрание ее стихотворений, однако издание не состоялось, несмотря на
продолжительные и настойчивые хлопоты. Только в 1940 г. увидел свет
небольшой сборник "Из шести книг", а два следующих — в 1960-е
годы ("Стихотворения", 1961; "Бег времени", 1965).
Начиная с середины 1920-х годов Ахматова много занимается архитектурой
старого Петербурга, изучением жизни и творчества А. С. Пушкина, что
отвечало ее художественным устремлениям к классической ясности и гармоничности
поэтического стиля, а также было связано с осмыслением проблемы "поэт
и власть". В Ахматовой, несмотря на жестокость времени, неистребимо
жил дух высокой классики, определяя и ее творческую манеру, и стиль
жизненного поведения.
В трагические 1930 — 1940-е годы Ахматова разделила судьбу многих своих соотечественников, пережив арест сына, мужа, гибель друзей, свое отлучение от литературы партийным постановлением 1946 г. Самим временем ей было дано нравственное право сказать вместе со "стомилльонным народом": "Мы ни единого удара не отклонили от себя". Произведения Ахматовой этого периода — поэма "Реквием" (1935? в СССР опубликована в 1987 г.), стихи, написанные во время Великой Отечественной войны, свидетельствовали о способности поэта не отделять переживание личной трагедии от понимания катастрофичности самой истории. Б. М. Эйхенбаум важнейшей стороной поэтического мировосприятия Ахматовой считал "ощущение своей личной жизни как жизни национальной, народной, в которой все значительно и общезначимо". "Отсюда, — замечал критик, — выход в историю, в жизнь народа, отсюда — особого рода мужество, связанное с ощущением избранничества, миссии, великого, важного дела..." Жестокий, дисгармонический мир врывается в поэзию Ахматовой и диктует новые темы и новую поэтику: память истории и память культуры, судьба поколения, рассмотренная в исторической ретроспективе...
Скрещиваются разновременные повествовательные планы,
"чужое слово" уходит в глубины подтекста, история преломляется
сквозь "вечные" образы мировой культуры, библейские и евангельские
мотивы. Многозначительная недосказанность становится одним из художественных
принципов позднего творчества Ахматовой. На нем строилась поэтика итогового
произведения — "Поэмы без героя" (1940 — 65), которой Ахматова
прощалась с Петербургом 1910-х годов и с той эпохой, которая сделала
ее Поэтом.
Творчество Ахматовой как крупнейшее явление культуры XX в. получило
мировое признание. В 1964 г. она стала лауреатом международной премии
"Этна-Таормина", в 1965 г. — обладателем почетной степени
доктора литературы Оксфордского университета.
5 марта 1966 г. Ахматова умерла в поселке Домодедово, 10 марта после
отпевания в Никольском Морском соборе прах ее был погребен на кладбище
в поселке Комарове под Ленинградом.
Уже после ее смерти, в 1987, во время Перестройки, был опубликован трагический
и религиозный цикл "Реквием", написанный в 1935 — 1943 (дополнен
1957 — 1961).
Нани Брегвадзе |
Нана Георгиевна Брегвадзе
родилась в 1938 г. в г.Тбилиси. Отец - Брегвадзе Георгий Ефремович
(1909 г.рожд.), по профессии - актер. Мать - Микеладзе Ольга Александровна
(1913 г.рожд.), была родом из знатной княжеской семьи. Супруг
- Мамаладзе Мераб Григорьевич (1937 г.рожд.). Дочь - Мамаладзе
Эка (Екатерина) Мерабовна (1960 г.рожд.), популярная и любимая
в Грузии певица, много вступает и записывает. В семье Нани Брегвадзе
все пели. Прабабушка и родная тетя были профессиональными певицами,
а мать и ее пятеро сестер и брат пели в великолепном ансамбле.
Еще совсем маленькой девочкой, где-то в возрасте 6 лет, Нани уже
пела под гитару "Калинку", "Караван", другие
старинные русские песни и романсы. После окончания музыкальной школы поступила в
музыкальный техникум, а затем стала студенткой Тбилисской Государственной
консерватории им.В.Сараджишвили по классу фортепиано (1958-1963
гг.). Будучи еще студенткой, начала петь в Тбилисском Государственном
оркестре "Рэро" Грузинской Государственной филармонии.
Одно из самых сильных впечатлений того времени - гастроли с Московским
Мюзик-холлом в Париже в 1964 г. Тогда Нани впервые выступила во
всемирно известном зале "Олимпия". После приезда из
Парижа ее пригласили в ансамбль "Орэра", в котором она
проработала солисткой 15 лет. С 1980 г. Нани Брегвадзе начала выступать с сольными концертами. По сей день она гастролирует во многих странах мира. В ее репертуаре сотни широко известных и полюбившихся публике песен и романсов: "Ожидание" (муз.Н.Вацадзе, М.Поцхишвили), "Потерянная любовь" (муз.В.Азарашвили, сл.М.Поцхишвили), "Где же был ты, мой любимый" (муз.Г.Чубинишвили, сл.И.Чавчавадзе), "Случайно встретилась с тобой" (муз.Г.Пономаренко, сл.В.Дюнина), "Ах, эта красная рябина" (муз.С.Заславского, сл.А.Софронова), "Два кольца" (муз.Б.Прозоровского, сл.А.Бектабекова), "Я помню вальса звук" (муз.Н.Листова), "Только раз бывает в жизни встреча" (муз.Б.Фомина, сл.П.Германа), "Газовая косынка" (муз.Б.Прозоровского, сл.М.Козырева), "Снился мне сад" (старинный романс), "Капризная, упрямая" (старинный романс), "Дай, милый друг, на счастье руку мне" (муз. и сл.К.Лучича), |
"Не уезжай, ты мой голубчик" (старинный романс),
"Пой моя гитара" (муз.А.Кручинина, сл.А.Башкина), "Горчит
калина" (муз.В.Зубкова, сл.Н.Кондаковой), "Вернись" (муз.Б.Прозоровского,
сл.В.Ленского), "Снегопад" (муз.А.Экимяна, сл.А.Рустайкиса),
"Калитка" (муз.А.Обухова, сл.А.Будищева), "Уйди, совсем
уйди" (муз.Ф.Дризо, сл.В.Верещагина), "Но я Вас все-таки люблю"
(старинный романс), "Сухая верба" (муз.Г.Сорочан, сл.Г.Левина),
"Очаровательные глазки" (старинный романс), "Звон гитары"
(муз., сл.Н.Жемчужного), "Песня о Тбилиси" (муз.Р.Лагидзе,
сл.П.Грузинского), "Звезда счастья" (муз.Н.Габуния, сл.Д.Гвишиани),
"Тебе, любимая" (муз.Г.Чубанишвили, сл.В.Пшавела), "Яблоня"
(муз.В.Орловецкого, сл.Н.Беседина), "Я Вас любил" (муз.Б.Шереметьева,
сл.А.Пушкина), "Ивушка" (муз.Г.Пономаренко, сл.В.Алферова),
"Я так любила Вас" (муз.Б.Прозоровского), "Вальс для
Вас" (муз.М.Кажлаева, сл.Б.Дубровина), "Романс о романсе"
(муз.А.Петрова, сл.Б.Ахмадулиной), "А напоследок я скажу"
(муз.А.Петрова, сл.Б.Ахмадулиной) и многие, многие другие.
Многие из них вошли в записанные певицей грампластинки
и миньоны: "Поет Нани Брегвадзе" (1971 г.), "Ансамбль
"Орера" (1973 г.), "Романс, романс" (CD, 1995 г.),
"Концерт в Нью-Йорке" (1997 г.) и другие. Она озвучила целый
ряд музыкальных и художественных фильмов: "Мелодии Верийского квартала"
(реж.Г.Шенгелая, комп.Г.Цабадзе, стихи М.Поцхишвили), "Встреча
в горах" (реж.Н.Санишвили, комп.Р.Лагидзе, стихи П.Грузинского),
"Берега" (реж.Г.Лордкипанидзе, комп.Б.Квернадзе), "Наводнение"
(реж.Г.Мгеладзе, комп.А.Кереселидзе), "Свет в окне" (реж.Г.Мгеладзе,
комп.Дж.Кахидзе), "Тепло твоих рук" (Ш.Манагадзе, комп.Р.Лагидзе),
"Тексель" (реж.Ш.Манагадзе, комп.Р.Лагидзе), а также снялась
и исполнила песни в картинах: "Орера, полный вперед!" (реж.З.Какабадзе),
"Булочница" (реж.З.Какабадзе), "Ожерелье для моей любимой"
(реж.Т.Абуладзе).
Нани Брегвадзе - Народная артистка СССР (1983 г.),
Народная артистка Грузии (1974 г.), Заслуженная артистка Грузии (1968
г.), лауреат Государственной премии Грузии (1998 г.); награждена орденом
"Почета" Грузии (1997 г.), является почетным гражданином г.Тбилиси
(1995 г.), г.Беналмадена (Испания, 1996 г.) и других городов.
В 1997 г. Н.Г.Брегвадзе создала и возглавила компанию "Нани",
целью деятельности которой является поддержка начинающих певцов в Грузии,
а также организация выступлений в республике зарубежных исполнителей.
Нани Брегвадзе является членом Ассоциации "Женщины за мир",
клуба женщин "Метехи", была членом общества "Советская
женщина".
В свободное время Нани любит общаться с друзьями, принимать
гостей и чувствовать себя хозяйкой. Ее дом часто напоминает салон, где
собираются очень интересные люди - поэты, писатели, музыканты и художники.
В минуты отдыха любит читать (в настоящее время настольной книгой является
"Библия"), слушать классическую музыку, смотреть музыкальные
отечественные и американские фильмы 40-х годов. Занимается йогой.
Живет и работает в г.Тбилиси.
Сайт: Международный Объединенный Биографический Центр
Дата публикации на сайте: 08.04.2005
Юлия Шилова |
Шилова Юлия Витальевна родилась 11 мая 1969 года в г. Артеме Приморского края, по образованию юрист. Она закончила два ВУЗа: Гуманитарную социальную академию и Национальный институт бизнеса. У неё нет ни образования журналиста, ни филолога, однако Юля еще в школе отдавала предпочтение гуманитарным предметам, самым любимым из которых был литература. Юля обожала читать, поэтому была частым посетителем всех библиотек маленького города Артем. Если книга попадалась очень интересная, то, несмотря на все запреты родителей, Юля читала ее по ночам под одеялом с фонариком. Второй большой любовью Юли, кроме литературы и чтения, был балет! Сначала она закончила балетную школу в Артеме, а потом хореографическое училище во Владивостоке по специальности «актер балета». К моменту окончания училища, Юля мечтала уже не о карьере балерины (чтобы быть востребованным в этой профессии, надо иметь диплом или московского, или питерского балетного училища), а о карьере профессиональной актрисы. Именно поэтому сразу после получения диплома об окончании, она приехала покорять Москву. Поступить на актерский факультет не получилось. Юле пришлось вернуться в родной город, в котором красивая высокая девушка сразу влюбилась, вышла замуж, родила двух дочек и занялась…собственным бизнесом! Дела шли очень хорошо, поэтому вскоре появилась возможность приобрести квартиру в Москве, но…случился дефолт 1998 года, в результате которого очень многие бизнесмены потеряли свой бизнес. Не обошло это стороной и Юлю, бизнес был полностью потерян, все деньги пропали. Вскоре и «семейная лодка» разбилась о бытовые и материальные проблемы. Юлия осталась одна с двумя маленькими дочками практически без средств к существованию. Чтобы как-то справиться с навалившейся на нее депрессией, Юлия начала писать роман, но не любовный, а криминальный. Вскоре Юлия поняла, что как только она садится за письменный стол, все проблемы начинают уходить на «второй план» и на душе становится гораздо легче. |
Дописав книгу до конца, она решила, что получилось неплохо, поэтому пора идти в издательство. Денег катастрофически не хватало, а это был шанс их заработать. Конечно, начинающему автору непросто обратить на себя внимание издателя, но Юле удалось и это. На вопрос редактора сколько книг она написала, Юлия «не моргнув глазом» сказала, у нее готово уже 6 книг и, если издательство не заключит с ней договор, пойдет в другое издательство, а они много потеряют! Надо сказать, что издательства очень любят авторов, которые пишут регулярно, поэтому через 2 дня Юлии позвонили и сказали, что готовы заключить с ней договор на издание 6-ти книг! Юлия села за компьютер и написала еще 5 книг за полгода! Кстати, этот высокий темп работы Юлия сохраняет и до сих пор. Каждые 2 месяца Юлия пишет новую книгу! В настоящее время в авторском багаже Юлии Шиловой уже 49 книг и в ближайшее время готовится к изданию юбилейная – 50-я книга. Юлия относится к книгам, как к своим детям, они все любимые, потому что каждая представляет для нее свою ценность. В каждой есть частичка ее души. Это ее слезы, ее радости, ее боль, ее победы, падения, взлеты и переживания. Юлия Шилова пишет в жанре криминальной мелодрамы.
В этом жанре не пишет больше ни одна писательница в России. Яркие, броские, двойные названия каждого произведения – отличительная черта писательницы Юлии Шиловой. В каждом произведении автор затрагивает актуальные проблемы и повествует о судьбах женщин в современном мире. В каждой книге Юлии Шиловой рассматривается актуальная «женская» проблема, которая волнует общество в настоящее время. Автор описывает не полностью выдуманную историю, которая в жизни никогда не может произойти, а историю, которая достаточно часто встречается в жизни, но в своей «авторской художественной обработке». Каждая книга Юлии заставляет нас задуматься об описанной проблеме, побуждает к дальнейшему обсуждению с подругами, коллегами. Часто можно провести «параллель» с историей, которая произошла с кем-то из знакомых. Юлия пишет в легкой, доступной манере в формате «беседа с подружкой» простым языком. Юлия дорожит каждый из нас, радуется нашим откровениям о том, что ее книги как-то изменили нашу жизнь, сделали сильнее или помогли поднять самооценку. Юлия старается отвечать на все письма, которые приходят к ней. В последних книгах самые интересные письма публикуются в конце книги. Юлия лично их отбирает и отвечает своим поклонницам, причем делает это всегда искренне, от души.
В каждой книге Юлия пишет послесловие к вам – своим читателям и подписывается "искренне Ваша подруга Юлия Шилова". Можно сказать, что Юлия Шилова – это успешная современная женщина, которая «сделала себя сама», не имея за спиной ни богатых родителей, ни спонсоров или влиятельных покровителей. Юлия - яркая женщина, которая обращает на себя внимание. Серые оттенки не для нее! Она любит яркие цвета в одежде. Часы - ее любимый аксессуар. Юлия не оставила свою любовь к танцам, она обожает танцевать в кругу друзей или фитнес-клубе (специальные антистрессовые танцы). Для сохранения красоты и стройности фигуры, не менее трех раз в неделю занимается на велотренажере и китайской гимнастикой цигун. Любит плавать, поэтому при любой возможности едет отдыхать на море. Отдых предпочитает спокойный, расслабляющий. Тишина и покой приводят мысли в порядок, дарят вдохновение. Любимая кухня грузинская, из блюд предпочитает шашлык из свиной шейки и овощи на гриле. Любит начинать свой день с кружки ароматного кофе. В течение дня предпочитает гранатовый сок. Если захочет расслабиться, может выпить бокал сухого чилийского вина.
Юлия Шилова – мама прекрасных девочек Лолиты (15 лет)
и Златы (10 лет). Она любима и любит сама, выступает за сохранение семьи.
При этом Юлия считает, что женщина должна быть самодостаточной, иметь
собственный источник дохода даже при наличии богатого мужа. На собственном
опыте Юлия поняла, что нельзя любить кого-то больше, чем кто-то любит
тебя. Всегда проигрывает тот, кто отдает себя без остатка любви и живет
для другого. Никогда нельзя забывать о себе. Нельзя разрешать мужчине
ломать себя. Ломаясь, женщина перестает быть собой и начинает страдать
за свое счастье. Даже в самой сильной страсти и любви никогда не помешает
здравый рассудок. Романтику и сумасшедшую любовь Юлия считает иллюзиями,
которые мы сами себе придумываем и не находим в реальной жизни. А ведь,
согласитесь, ждать принца всю жизнь глупо. В мечтах о принце можно пропустить
мужчину, который мог бы подарить счастливую жизнь. Рядом должен быть
человек, который подходит женщине по характеру, по интеллекту, который
будет уважать ее мнение, ее интересы, принимать ее такой, какая она
есть. Если женщина не находит понимания в семье, то даже будучи замужем,
она может быть одинока и несчастна. Юлия знает что такое одиночество,
потому что испытала его на себе. При этом она считает, что если женщина
имеет ребенка, то она уже не может быть одинока.
Источник: http://www.shilova.eksmo.ru/about/bio/
|
Пере-Люк (Santi Millan) в фильме испанского режиссёра Вентуры Понза (Ventura Pons) «Любовь идиота»(“Amor idiota”) вполне искренно считает себя идиотом. Зритель с недоверием относится к этой точке зрения главного героя: Пере-Люк – бывший школьный учитель, а вслед за этим преподаватель школы бизнеса. Он неглуп, имеет множество друзей, относящихся к нему с явной симпатией и даже преданностью. Но поступки Пере-Люка порою парадоксальны и заставляют друзей предпринимать срочные меры, чтобы справиться с какой-нибудь его очередной экстраординарной глупостью. Так однажды он прилюдно кладёт на стол свой член и собирается вонзить в него вилку, а близкая подруга бережно снимает обречённый орган со стола и водворяет шутника на место. Всё это – вступление к настоящему и главному приключению его жизни, которое, естественно, тоже не укладывается в рамки обыденных человеческих поступков. Как-то, проходя по тротуару, Пере-Люк сильно ударяется головой о лестницу-стремянку женщины, развешивавшей рекламные плакаты. Удар столь силён, что герой фильма не может удержаться на ногах и падает. Женщина – Сандра – (Cayetana Guillen Cuervo) пытается ему помочь, но он отказывается. И зритель понимает: ему уже не помочь, Пере-Люк сражён наповал красотой незнакомки (о том, что её имя Сандра он узнает значительно позднее и в довольно пикантных обстоятельствах). Что делать? За женщиной вскоре приезжает муж, и они отправляются домой. Пере-Люк, не отдавая себе отчёта в том, зачем он это делает, преследует супружескую пару на мотоцикле. Теперь ему известен адрес. И он начинает слежку за красавицей. Супруги – владельцы небольшой фирмы по установке в городке рекламных стендов. Сандра сама принимает активное участие в этой работе, не чураясь физического труда. А Пере-Люк теперь постоянно рядом, с фотоаппаратом в руках. Он подглядывает за ней всюду, где бы она ни была. Иногда ему везёт: он застаёт её загорающей, вытирающейся после душа перед незанавешенным окном, переодевающейся. Но чаще – за обыденными занятиями по работе или дому, которых ему тоже вполне достаточно – лишь бы видеть эту женщину. |
Cayetana Guillen Cuervo (фотограф: Carlos Alvarez) |
А она ни о чём не подозревает пока случайно в ненастную
погоду не обнаруживает его наблюдающим за ней, обнажённой, через окно
с неизменным фотоаппаратом в руках. Возмущённая, она, накинув плащ,
выскакивает из домика, чтобы положить этому конец. Не тут-то было! Разгорячённый
Пере-Люк устремляется за ней и врывается в дом. Сандра вопит от страха,
ожидая, что вот-вот подвергнется насилию. Пере-Люк удерживает её какое-то
время, успокаивает и ласково говорит, что не собирается ничего ей делать,
просит не бояться его и, если она хочет, вызвать полицию. Переведя дух,
Сандра приходит в себя и жестоко избивает Пере-Люка, не оказывающего
никакого сопротивления.
Так продолжается довольно долго. Несмотря на запрет, Пере-Люк продолжает
всюду следовать за предметом своего обожания. Cayetana Guillen Cuervo
прекрасно передаёт всю гамму чувств женщины, которая не может этого
обожания не чувствовать и, в конце концов, поддаётся любовному гипнозу.
Всё случается, и это кладёт начало новому этапу любви, которой теперь
нет никаких границ и преград. Следует признать, что режиссёр, демонстрируя
на экране настоящую бурю секса, не показывает обнажённых тел. Зритель
и без подробностей знает, что происходит…
Интересны кульминация и финал. Сандра внезапно решает всё прекратить и запрещает Пере-Люку встречаться и даже звонить ей. “Я позвоню сама, “ - туманно обещает она. Проходит немало времени, а звонка всё нет. Пере-Люк успевает съездить в Аргентину, где скоропостижно скончался один из его близких друзей. Он догадывается, что прекрасная Сандра (теперь-то он знает её имя!), его любовь и судьба, никогда уже ему не позвонит. И он решается позвонить ей сам из аэропорта Буэнос-Айреса. Она отвечает на звонок так, как будто они никогда не расставались – ласково и спокойно. И он вдруг понимает, что у него есть шанс. И он летит вначале в Мадрид, а потом в Барселону. И он встречает её, а она – его. И они едут куда-то далеко на машине. А потом она оставляет его и переходит на другую сторону дороги, чтобы поговорить с кем-то по телефону. И у него в голове мелькает мысль: «Всю свою жизнь я страдал оттого, что не мог перейти на нужную сторону дороги…» Но Сандра возвращается. Вынимает из машины вещи прилетевшего к ней из-за границы Пере-Люка, отдаёт их ему, бросает внутрь салона ненужный теперь уже телефон, захлопывает дверь и произносит всего лишь одно слово: «Пойдём!..» И зритель всё понимает.
Мария Арбатова |
С Мужьями ей везло. Вскоре после развода ей приходилось в первый раз за долгие годы самой гладить юбку. И то, что мужья делали мгновенно и виртуозно, в ее руках заканчивалось обгоревшим пятном, сожженными пальцами и нытьем в телефонную трубку: "Котик, и зачем только я с тобой развелась?" Гастролер Александр Сверхполноценный Олег |
Он активно поощрял мою карьеру, с удовольствием решал бытовые проблемы. Он из тех сверхполноценных мужчин, которые считают, что от женщины им нужна только духовная и сексуальная близость. Поэтому их нельзя женить на тарелке супа и ежеутренней глаженой рубашке. Разошлись мы в ресторане, отмечая дату годовщины своего знакомства".
Путин уже женат
Оба свои развода Арбатова называет социальными. Первый муж не смог по-взрослому
отнестись к переменам в стране, впал в депрессию и сбросил на жену все
проблемы. Второй брак сломали выборы в Госдуму. В критических ситуациях
ей была необходима защита мужа. Ее она не получила. "Когда я развелась
с Олегом, - рассказывает Мария, - мои сыновья пошутили: "Мамик,
тебе нужен мужик, который был бы сильней тебя". А где его взять,
ведь Путин уже женат".
- Ваши разводы были неизбежными?
- Я точно знаю, что разводиться надо тогда, когда осознан объем накопившихся
проблем, который не преодолеть даже при большом желании. Это как купание
в шторм: необходимо рассчитать, какая волна тебя поднимет, а какая -
похоронит. Если немного опоздать с разводом, то погублена будет не только
семья, но и человеческие отношения.
- В большую политику вы шли от команды супруга?
- Эта команда меня кинула на бандитов, договорившись за моей спиной
с моим конкурентом. В результате полгода мои сыновья жили с угрозами
расправы, а я ходила с охраной. Конечно, я осталась к Олегу в претензии.
А по его меркам все было нормальным производственным конфликтом.
- У сильной женщины муж - "подкаблучник".
Это про вас?
- Я у Олега Вите была пятой женой. Как вы думаете, бывают подкаблучники
с паспортом, в котором штамп негде ставить?
Новый мужчина
Ровно в годовщину свадьбы со вторым мужем - 16 апреля - Мария встретила
нового избранника, за кулисами Государственного Кремлевского дворца
на церемонии вручения премий. "Мы поздоровались за кулисами, потом
я увидела eго на сцене, совсем немного поговорили, но все уже было ясно...
- вспоминает Арбатова. - Он попросил записать ему мой мобильный, я записала.
Он удивился и спросил: "Зачем ты записываешь мне мой мобильный?
Запиши свой". Выяснилось, что у нас в номерах телефонов не совпадает
только одна цифра. Это выглядело как явный сигнал чего-то, идущего помимо
нашего контроля. Самое смешное, что этот человек состоит из лучших качеств
обоих моих мужей. Его тоже зовут Александр, и он тоже певец, как мой
первый муж. Он психотерапевт, у него совершенно аналитические мозги,
и он родом из Ленинграда, как Олег".
Новое увлечение Марии - эмигрант из США Александр Рапопорт.
Он покинул Россию 12 лет назад, после того как отсидел 4 года и знал,
что, если останется, снова окажется в заключении. Его посадили как врача,
отказывавшегося подписывать психиатрические диагнозы диссидентам. Полгода
отработав в США таксистом, Александр подтвердил свою профессиональную
квалификацию. Сегодня Рапопорт известнейший психотерапевт русской Америки,
ведет программу на радио и ТВ, концертирует как исполнитель шансона.
Он привык к женщинам, смотрящим на него как на бога, и все, что делает
Мария, для него "мужское поведение". Это серьезная проблема
в отношениях, но пока притяжение сильнее гражданской войны внутри романа;
и как два человека, занимающихся психологией, они умудряются договариваться.
Марии хватает ума наступить на собственные амбиции и учиться у него.
- Вас не смущает, что Александр женат?..
- Любовь не определяется наличием или отсутствием штампа. В моем паспорте,
например, стоит штамп о последнем браке. Но я пока не собираюсь подписывать
ни с кем никакие взаимные обязательства. Мне 45 лет, я и так провела
в браке по сумме 25 лет, практически большую часть жизни. И мне хочется
какое-то время подышать полной грудью.
- Значит, в 45 - баба ягодка опять?
- Я с недоумением смотрю на женщин, которые скрывают свои года и маскируются
под вечных девочек. С каждым годом мне интереснее жить: уходят проблемы,
пропадают комплексы, начинаешь пользоваться жизнью в полном объеме.
Автор: Анатолий Салунов
Сайт: Аргументы И Факты
Дата публикации на сайте: 12.12.2000
Ирина Лачина |
Конечно, Ирочке повезло изначально, потому что родилась она в семье талантливых артистов и очень красивых людей. Ее мама, Светлана Тома, к моменту появления дочки на свет успела сняться в «Красных полянах» Эмиля Лотяну и получить приз «за лучший дебют». Сыграть Машу в «Живом трупе», окончить актерский факультет Кишиневского института искусств имени Г. Музыческу и оказаться по распределению в Тирасполе. Там она вышла замуж за бывшего сокурсника Олега Лачина. Красивый парень, избалованный вниманием женщин, несколько лет вел осаду «неприступной крепости» и все же добился ответной взаимности. Он бзумно радовался рождению дочери и наверное,
по своему видел ее будущее. Только Ирочка ничего об этом не узнала:
ей было восемь месяцев, когда Олег погиб на реке под налетевшим
на его лодку катером… Светлана поседела в одночасье и с головой
ушла в работу. Впереди ее ждали звевдные «Лаутары», «Табор уходит
в небо», «Мой ласковый и нежный зверь» и еще десятка три картин,
международные награды, почетные звания… а дочка росла на попечении
дедушки с бабушкой. Правда, к маминой профессии приобщилась с
детства. В фильме «Подозрительный» киностудии «Молдова-фильм»,
где снималась Светлана Тома, семилетняя Ира сыграла сразу две
роли: городскую девочку и деревенскую. Слово самой Ире: |
В школе Ира училась легко. Особенно ей давались точные
науки и иностранный язык. Родные видели девочку в разных профессиях:
мама мечтала, чтобы она занялась журналистикой, дедушка - компьютерами…
Сама Ирина тогда до конца не понимала, чего хочет. И вот однажды к ним
в гости пришел мамин знакомый - актер и режиссер Всеволод Шиловский,
приехавший в Кишинев на выбор натуры для фильма «Блуждающие звезды».
- Я на секунду забежала домой, познакомилась с ним,
и умчалась по своим делам. А Шиловский предложил маме попробовать меня
на эпизодическую роль юродивой. Я с радостью согласилась. Приехала в
Одессу. Меня загримировали. Сделали пробы. Претендентка на главную роль
почему-то опаздывала. Шкловский, чтобы не терять времени даром, предложил
сыграть ее мне. В результате я получила роль Рэзел. Вот тогда-то мне
и стало ясно, что ничем другим я заниматься не хочу. Пока шли съемки,
поступила в Щукинское училище. Конечно, мало кто верит, что мне совсем
не помогали. Скажу одно: до конца первого курса в институте не знали,
что я дочь Светланы Тома. Все раскрылось, когда Александр Анатольевич
Ширвиндт, мой педагог, случайно встретил маму в училище и спросил, что
она там делает. А в ответ услышал: «У меня здесь дочь учится…»
Олег Будрин попал на первый курс Щуки окольным путем.
В пять лет родители привели его в театр на Красной Пресне к Спесивцеву,
чем и определил жизненный путь сына. Олегу посчастливилось предстать
в образе Тильтиля в филосовской сказке «Синяя птица» на сцене МХАТа,
играл он и в других постановках, а в старших классах начал сниматься
в кино. Для Олега вопрос куда поступать, даже не стоял - он подал документы
в ГИТИС. Но вскоре режиссер Барбара Сас позвала его сниматься в картине
«Запечатленные дни» и Олег уехал в Польшу (Позже актер получил за эту
работу на Берлинском кинофестивале). И, хотя на экзамены Будрин опоздал,
его взяли слушателем на курс И. И. Судаковой, а на следующий год Олег
перешел в Щукинское училище к В. Иванову.
… Ирина успешно закончила первый курс, а когда в сентябре
пришла на занятия, подруга показала ей высокого светловолосого парня
и призналась, что он ей очень нравится. После чего Ира приняла самое
активное участие в разработке стратегии по завоеванию красавца-блондина.
Понятно, что если сто раз на дню слышишь «Ах, Олег!», невольно начинаешь
по-иному смотреть на предмет чужой страсти. Тем более, что собственное
сладко спит, никем не потревоженное… Олег часто подходил к девушкам
со своим приятелем. Вместе они гуляли после занятий, ходили в театры.
Как-то Будрин, отозвав Иру в сторону, пригласил ее в театр. Одну. Она
удивилась, но Олег намекнул, что делает это ради друга. Как оказалось,
стеснительный товарищ Олега не мог решиться на подобный шаг. Словом,
события в жизни четверых молодых людей стали напоминать сюжет мыльной
оперы. И чем бы все это закончилось, неизвестно, если бы не подошло
время нового года…
Вечером 30 декабря, по традиции, все щукинцы собрались на новогоднее
торжество. Пришли и подруги. и если одна возлагала на праздник большие
надежды, то Ирина просто веселилась и с удовольствием танцевала. Правда,
чаще всего с Олегом.
- Мне было неловко, но почему-то и очень приятно. Чувствовала,
что раздваиваюсь…
Когда застенчивый Ирин воздыхатель созрел и пригласил ее погулять, стоявший
рядом Олег весьма красноречиво посмотрел на девушку и молча взял за
руку. Ирина покорно пошла за Олегом, понимая, что ей решать уже ничего
не надо. Он привел Ирину на верх башни в арбатском переулке, построенной
еще в двадцатые годы Эйзенштейном для сьемок. А потом сказал: «Город
- у твоих ног».
- У меня было необыкновенное ощущение… Я неожиданно
подумала в тот момент: «он будет моим мужем». Потом Олег мне признался,
что и ему в голову пришла эта мысль. Мы целовались, и я забыла о невольном
предательстве по отношению к подруге. Мы просто чувствовали, что начался
новый отсчет времени в наших жизнях…
На улице было минус 25 градусов, и они вернулись отогреваться
в училище. Здесь Ирину огорошили: «Звонила твоя мама. Она очень волнуется».
Ира впервые за весь вечер посмотрела на часы и ахнула: пять утра! Скромная
домашняя девочка, до этого не причинявшая матери никаких хлопот, по-настоящему
испугалась предстоящего объяснения. Они приехали домой. Олег сказал:
«Ничего не бойся!» - и позвонил в дверь. Увидев белое, как полотно,
лицо мамы, Ирина потеряла дар речи. Юноша шагнул вперед: «Здравствуйте,
Светлана Андреевна! Меня зовут Олег». Тут у Светланы ёкнуло сердце:
«Ну надо же, Олег… Как отец Иры… Даже внешне чем-то напоминает…» Посмотрела
на прижавшуюся к нему испуганную дочь и только сказала: «Здравствуйте.
Вы, наверное, проголодались? Может, поедите?..» молодые люди поняли,
что гроза миновала и заулыбались.
- Я совсем забыла, что мама 30-го должна вернуться
со сьемок! Раньше я бы непременно ждала ее дома, а тут двенадцать, час
- меня нет. Мама обзвонила все больницы и морги… Чтобы занять руки,
всю ночь готовила - хватило бы на целую роту! Мы сели за стол и со зверским
аппетитом уплетали все подряд.
Когда Олег ушел, мама с дочкой заснули, как убитые,
едва не проспав новогодний бой курантов. А рано утром 1 января на пороге
с целой охапкой еловых веток стоял Он…
- У нас с Олегом был бурный роман, - вспоминает Ирина.
- Когда мы пару часов не виделись, казалось, наступает конец света!
Мы писали друг другу сотни записочек и оставляли на вахте. Их набрался
целый мешочек. Иногда перечитываем и вспоминаем… Мама уезжала - Олег
переселялся ко мне, а перед ее возвращением отправлялся восвояси. Когда
я поняла, что беременна, страха не почуствовала. Видимо, все решилось
свыше, без меня… Это сейчас осознаю, что мы были фактически детьми,
а тогда я казалась себе достаточно взрослой, чтобы принимать серьезные
решениия. Олегу я сказала, что ребенок в любом случае будет. С ним или
без него - пусть решает сам. Поначалу Олег привел веские доводы - что
я еще учусь (второй курс!), только начинаю каьеру, что так легко выпасть
из обоймы…
Слушая, в общем-то, правильные вещи, Ира на минуту застыла в оцепенении:
«неужели я так в нем ошиблась?» После недолгого молчания Олег спросил:
« Ты действительно хочешь ребенка?» Девушка с вызовом сказала: «Да!
Очень!» и услышала в ответ: «Тогда я, конечно, с вами!»
Бесспорно, Олег во многом оказался прав: Ире пришлось отказаться от
нескольких картин. Да и в «Современник», где она много лет играла в
спектакле «Анфиса», ее не позвали. Но влюбленные мужественно переносили
все испытания.
- Дочь я родила на третьем курсе. Правда, в академический
отпуск не ушла. Очнь помогала мама, потому что не было возможности нанять
няню. Потом у нас с Олегом появилась комната в коммуналке, в доме практически
рядом с институтом. Мы были так счастливы! Почувствовали себя взрослыми,
семьей. А когда мы жили с мамой, у нас происходили вечные конфликты:
я не так перепеленала Машу, не тогда пошла с ней гулять… Я была просто
«чудовище», а не мать.
Но даже сложности того времени, когда приходилось жить
в тесноте, ночью убаюкивать плачущую дочку, стирать пеленки, а днем
бежать на занятия, отношений в семье Тома-Лачиной-Будриных не испортили.
И сегодня зять по-прежнему любит тещу, зовет ее красавицей и солнышком,
а иногда даже ворчит, что его жена мало на нее похожа. Тут Олег немного
лукавит. Внешне - обе стройные, темноволосые, с большими, смеющимися
и излучающими теплый свет глазами. Выглядят они, скорее, как сестры.
- И все же мы с мамой абсолютно противоположные натуры.
Для нее главное - идеальный порядок. Чтобы у ребенка был железный режим.
Меня все это беспокоит в меньшей степени. Наверное, потому, что домом
предпочитает заниматься Олег, хотя у него как у продюссера тоже много
работы. Но он никогда не уйдет из дома, если не убрано, посуда не помыта…
Вот уже 12 лет они вместе, а новизна ощущений сохранилась
и по сей день.
- Когда приходится уезжать из дома хоть на короткое время, мне так больно,
словно меня рвут на части, - признается Ирина.
А уезжать ей приходится часто, потому что снимается актриса много и
в разных странах. Вот где приходилось Ире школьное увлечение языками!
В фильме «У Бога за пазухой» она играла на польском, благодаря чему
выучила этот язык; в американской картине «Симфония» - на английском;
у Сергия Микаэляна во «Французском вальсе» - на французском. А в историческом
фильме Bridgman даже на венгерском.
Театр Ирина Лачина любит так же, как и кино, и с удовольствием выходит
на сцену в антрепризах («Цветок смеющийся», «Французская мелодия», «Семейная
идиллия»). О своем призвании говорит: «Актерская профессия для меня
не работа. Это просто жизнь. Вернее, способ существования в ней. Я не
мыслю себя на другом поприще».
Похоже, Ирина дочка пошла в родителей (и, конечно,
в бабушку!). С раннего детства выступая со Светланой Тома в концертах,
Маша Будрина успела сняться в кино. При этом девочка просто замучила
родителей требованиями репетировать, репетировать и репетировать. В
сериале «Маросейка, 12» она сыграла дочь героев Дмитрия Харатьяна и
Марины Майко.
Позже в этой картине появилась и Ирина Лачина. А после сериалов «Леди
Бомж» и «Леди Босс» она стала настоящей звевдой.
Живет Ирина в небольшом уютном мирке, где практически все сделано своими
руками. Кроме Олега, Иры и мамы в числе полноправных хозяев дома - шесть
(!) кошек. И хотя некоторых из них сердобольная Ирина подобрала на улице,
все они, как одна, очень симпатичные и хорошо воспитанные.
Ну, а главное торжество в этой семье конечно же, Новый Год. Поистине
сказочный праздник, однажды подаривший им любовь, счастье и друг друга…
Источник: irinalachina.sitecity.ru
Ирина Богушевская: Все друзья, КоторыеЖелаютМнеДобра, беспрестанно об этом говорят. Мне приходится скрывать, что я люблю готовить борщ. Гулять с собакой. Говорить с сыном обо всем на свете, включая такие скользкие темы, как кораблестроение и бомбардировку Багдада. Что я люблю море во всех его ипостасях и жарить сосиски на костре. С друзьями. В лесу. Кто бы спорил! Все это чудовищно банально. Великая певица не должна быть такой! Она должна погрязать в промискуитете, делать пластические операции, выходить из личного самолета только по бордовой дорожке, никогда по зеленой; желательно перенести пару курсов реабилитации после депрессии, а еще лучше - просто лечиться от алкоголизма и наркомании, причем регулярно. Очень рекомендуются мучительные попытки забеременеть. Неплохо также иметь в активе пару скандальных судебных процессов, все равно, бракоразводных или по поводу плагиата (кабального контракта). В общем, не по-детски великая певица должна делать все для того, чтобы ее Имя не сходило с уст, экранов и страниц. |
Позолотить его, как того тельца, молиться на него, все ему отдать, всем ради него пожертвовать, ужасно от этого страдать и публично в этом признаваться. Как можно чаще. Потому что толпа это любит. Толпа, чем чаще что-то видит и слышит, тем сильнее это любит. Во всяком случае, в России. Есть такое чувство, что толпа в России, как акын, который "что вижу, о том пою", любит все, что видит. Все, что движется. Видит - движется, значит - любит. Значит надо, чтобы она видела. И видела не какой-то там борщ, собак, детей и друзей - этого-то добра у нее у самой хватает , - а как раз то, чего ей не хватает (см. выше). Так говорят Знающие Люди. Я мучительно не знаю, что с этим делать. Мне, конечно, до икоты хочется стать великой. Но мне жалко мое море, лес, собак, привычку делать зарядку и не соблазнять чужих мужиков. И борщ, блин, борщ! И блины - дрожжевые, дырявенькие, нежные, которые изнемогают у вас в руке от неги, когда вы мажете их икрой. Вот черт! Великая певица должна мазать блин икрой на тарелке! А не на ладони, как Тетя Клава какая-то.
Но я люблю - на ладони. Он лежит и изнемогает, весь подрагивая, от истомы. А на тарелке - не изнемогает.
И вообще, в продажной Америке они все пытаются притвориться мной. Они отчаянно уничтожают свои порноснимки периода первоначального накопления популярности, - потому что моих порноснимков в природе не существует. Они, истерикозно улыбаясь, фотографируются с мужьями и скрывают от общественности, что их бьют. Потому что меня - никто, никогда. Они стонут, что для славы и карьеры пожертвовали всем, что на самом деле они всегда мечтали жить так, как я - свободно и легко, позволяя себе на три дня отключать телефон, если есть такое желание, или ехать в горы или тридцать шесть часов кряду заниматься любовью.
Наверное, мне не сильно хочется, чтобы меня любила именно толпа. Толпа потому что дура. И потому, что в России, кроме толпы, есть еще люди. Им нравятся мои вибрации, выраженные в словах и звуках. Их интересует, откуда я эти вибрации улавливаю и как передаю. Это, на самом деле, самая большая загадка для меня самой. Когда я пытаюсь описать словами этот божественный процесс, я чувствую беспомощность и смирение.
Разве смирения перед невозможностью постичь природу божественного процесса, который разыгрывается в твоей душе, недостаточно для того, чтобы быть великой? Разве обязательно трахаться с продюсерами, ходить в нужные гости, уметь надевать то или иное лицо, врать из биографии? Говорят, что это часть профессии. Возможно. Какой?
Неважно, какой. Важно, что у меня профессия другая.
Не врать, не притворяться, не трахаться за контракты, а смиренно себе
улавливать вибрации и содержать себя для этого в чистоте и порядке.
И, не стесняясь, любить жизнь в виде моря, соленых ванн, мужчин, детей,
собак и бабочек. И борща!!
Будь он неладен.
19 декабря 1998
Стихи. Перед тем, как они приходят, возникает состояние транса, когда в душе как будто открываются некие "люки" или, может быть, "каналы", через которые приходят образы и рифмы. В таком состоянии можно ходить по городу или даже заниматься всякими бытовыми делами - все равно ты отгорожен от всего на свете каким-то коконом, внутри которого булькаешь, как суп в кастрюльке. Жалко, что кокон этот все-таки проницаемый - поэтому лучше ходить в безлюдных местах, а бытовые дела вообще отложить до тех пор, пока не вернешься в обычное состояние. Еще очень жалко, что ты никогда не можешь предугадать, когда же в следующий раз наступит этот божественный транс, и даже более того: ты никогда не можешь сказать определенно, наступит ли он когда-нибудь вообще. Сие есть тайна, покрытая мраком. Вызвать в себе это состояние искусственно - невозможно. Есть, правда, мнение, что наркотики стимулируют творчество. Но в моем случае это не так: наркотики могут изменить состояние сознания, а вдохновение есть измененное состояние духа, а ведь это не одно и то же.
Косметика. Я веду очень динамичный образ жизни ( правда, похоже на рекламный слоган?) Но тем не менее, я на самом деле живу очень быстро и сильно, и меня сопровождают по жизни те вещи, которым под силу это выдержать. В моей косметичке долго боролись разные фирмы - то есть, они боролись за право своих продуктов жить в моей косметичке, и постепенно почти всех вытеснил "Макс Фактор".Что касается ванной комнаты, где живет гигиеническая косметика, то там ситуация не такая напряженная (Не хватало еще, чтобы и в ванной она была напряженная). Поэтому там мирно уживаются гели от Джонсонов, всяческие присадки и примочки для ванн от "Ив Роше", обязательные морские соли (только без компотных запахов, пожалуйста, - море ведь пахнет водорослями, а не персиками с малиной), куча разных шампуней - и я, когда мне удается добраться до всего этого великолепия.
Сон. Поэт сказал, что жизнь - это сон упоительный, а я говорю, что сон - это упоительная жизнь, откуда ты приходишь и куда возвращаешься. Во снах мы живем так, как должны были бы жить на самом деле: ничего не планируя, а просто проходя через каждое мгновение сна, как прозрачная пластмассовая шторка (или как там ее?) проходит по делениям логарифмической линейки. Спать я люблю ужасно, почти так же ужасно, как плавать в море. Обожаю видеть во сне собак - собаки означают друзей, и такой сон всегда сбывается. Еще исключительно хороши во сне бывают бабочки и рассветы в горах, а также полеты над этими горами. Впрочем, и над морем полеты тоже хороши. Еще я бесконечно благодарна Морфею за то, что он почти никогда не пропускает в мои сны тяжелые и просто страшные моменты моей жизни. Еще очень часто сном приходится жертвовать ради чего-бы-то-ни-было. Так, например, сегодня, вместо того, чтобы лечь спать в 11 вечера, как я мечтала с утра, я сижу тут и расписываю прелести сна: какой он замечательный, какой он мост в тонкий мир и как он полезен для цвета лица. Гуд найт, Богушевич, слип тайт.
Загар. Вредная штука, но исключительно красивая. Ничего нет прекраснее загорелых людей, выходящих из моря.
Смерть. Когда я прочла "Тибетскую Книгу Мертвых", то, во-первых, я безоговорочно поверила в то, что ее написали люди, которые бывали в тех местах, которые описывают, а во-вторых, я поняла, что правильно жить важно, но еще важнее правильно умереть.
Сцена. Ощущения, которые испытываешь на сцене, когда устанавливается настоящий контакт с залом, налаживается - пусть на час-полтора - "обмен веществ" между тобой и сидящими в зале людьми, - это ощущения безумно мощные и магические. Когда ты чувствуешь, что взгляды сотен пар глаз прикованы к кончику твоего указательного пальца, которым ты, как дирижер, управляешь пульсацией музыки и своей нервной деятельности - вот тогда ты ощущаешь себя Гэндальфом или Мерлином, способным на любое чудо. Это ощущение - наркотик, и, как любой наркотик, оно дорогого стоит. Право на это ощущение нужно постоянно завоевывать, и не случайно, говоря о сцене, мы все время скатываемся к военной терминологии: "завоевать популярность", "пробиться наверх". Какая далекая, на первый взгляд, от искусства тематика! Размышляя об этом удивительном несоответствии, я готова предположить, что судьба творческого человека определяется не тем, сколько в нем таланта собственно творить, а сколько в нем выносливости и "воли к победе"(опять военное словечко). Странно, не правда ли. Казалось бы, талант гончара и талант продавца - это разные вещи. Один создает, другой продает.
Талант первого имеет отношение к божественному, талант второго - к человеческой повседневности. По логике вещей, хороший гончар не обязан быть хорошим продавцом, и он может позволить себе заниматься только делами глины. Так и я бы хотела позволить себе заниматься только делами слов, звуков и чувств, которыми питаются эти слова и звуки. Но если ты стоишь на сцене, ты должен уметь продавать то, что создаешь, и продавать себя, и чем дороже твоя цена, тем больше у тебя шансов заниматься словами и звуками и не заниматься продажей. Лично у меня от последней фразы голова закружилась, как от катания на карусели. Сохранить. Поза. Нет, это не про "Кама-Сутру". Искусство Позы, или Рисовки, или Позерства - одно из важнейших искусств для человека искусства. Та или иная яркая Личность в искусстве - это та или иная яркая Поза. Вспоминается поэт Вознесенский, который, ожидая приезда иностранцев к себе на дачу, сидел голый в снегу, зимой. Зачем? "Приедут иностранцы, глядь - а великий русский поэт Вознесенский купается в снегу!" Зачем это Вознесенскому, ведь все и так знают, что он великий поэт? Зачем Айседоре Дункан ее шарф, зачем Пиаф маленькое черное платье?
Придумывая себе позу, ты придумываешь себе дорожку в массовое сознание, крючочек, чтобы цеплять им за струны человеческих душ, силок, чтобы ловить эти самые души. Плохо это или хорошо, искусство создавать и держать Позу неотделимо от рефлексии в самом патологическом смысле этого слова. Ты все время должен быть раздвоен, и одна сторона тебя должна постоянно бдить за другой. Я очень страдала от этого раздвоения в отрочестве. До смешного доходило: я постоянно думала о себе в третьем лице. То "Она загадочно улыбнулась", то "Она стояла, изящно наклонив голову и легкий ветер развевал ее светлые локоны" и тому подобная ерунда. В каком-то смысле тот период был, как я теперь понимаю, самым оптимальным для того, чтобы придумывать себе Позы и, мне кажется, Марлен Дитрих так никогда и не выросла из этого возраста, по крайней мере, судя по ее воспоминаниям. Хорошо это или плохо, но я из него выросла и как-то насобачилась помещать себя внутрь своей жизни, практически упразднив свой КПП, который не давал мне покоя.
Мне хотелось бы, чтобы моей основной Позой стала естественность и искренность. Поэтому я стараюсь избегать таких ситуаций, когда мне пришлось бы принимать не характерные для меня позы. Если я люблю щи из кислой капусты, почему бы не сказать об этом? Точно так же я, наверное, не стану утаивать, что люблю покупать себе дорогую косметику. И что однажды, проснувшись на рассвете в палатке, которая стояла на дне огромного ущелья и увидев птиц, бесконечно медленно круживших на какой-то запредельной высоте, я почувствовала, что абсолютно счастлива. А на острове Кипр, убежавши из дорогущего ресторана после неосторожных слов, сказанных моим другом, я брела по роскошному пляжу к нашему пятизвездочному отелю, обливаясь слезами и соплями, и чувствовала себя ничтожной и очень грустной песчинкой. Мне нравится ходить на шпильках в облегающем платье и нравится разводить костер в лесу. Мне кажется, что мне не нужно как-то особенно себя сочинять, потому что я и так довольно сложносочиненная. Вот пусть сложносочиненность и естественность и будут моей Позой. Уф.
2 октября 1998 года мне позвонил Евгений Иосифович Славутин, зачем-то назвался дядей Женей и попросил дать какой-нибудь материал для книжки про Студенческий Театр МГУ. За пару дней до этого, на первый взгляд, рядового события я как раз думала о том, что пора, наверное, уже собрать и в конце концов напечатать свои стишки (и песенки) - и еще о том, что из истории моей жизни можно сделать неплохой дамский роман или, на худой конец, сценарий. Но думала, как обычно я думаю об этом, как-то отвлеченно.
И вдруг я уже сижу за столом, стол завален старыми папками с текстами песен и стихов десятилетней давности - потому что для того, чтобы вспомнить явление в моей жизни феномена под названием "Театр МГУ", для начала мне надо сначала вспомнить хотя бы себя.
Итак, похоже, что это был 1984 год. Как ни странно, эти стихи - мой довольно точный и фактографичный портрет. В действительности, от страниц Платона или особенно Гераклита веяло безумием - и вообще,безумием довольно ощутимо веет на младших курсах философского, когда на твою слабую голову обрушиваются за один семестр все сокровища мысли, накопленные человечеством за долгие тысячелетия, - и когда ты при этом живешь один, без родителей, (с ними все в порядке: они работают в Будапеште и ужасно за тебя волнуются) и можешь позволить себе всю ночь напролет играть на флейте, к примеру, не говоря уж о том, что ты можешь позволить себе вообще практически все, что хочешь. Конечно, веяло безумием. Я вообще удивляюсь, как мне удалось пройти сквозь то время и сохранить хоть какой-то контакт со здравым смыслом.
Итак, я ходила примерно в полусантиметре от земли, по большей частью с книжкой в руках (не подумайте дурного: иногда это бывала, скажем, "Эммануэль" на английском, украдкой украденная у папы еще в Будапеште - но чаще все-таки какие-нибудь обязательные досократики или стихи, много стихов), каким-то непостижимым образом сочетая эту эфемерность со вполне земными занятиями аэробикой и отличным аппетитом, посещала комсомольские собрания, где зарекомендовала себя как растленную забугорной жизнью диссидентку, защищала честь факультета на соревнованиях по беговым лыжам (где-то валяется прикольная характеристика, которую я сама себе написала. Там были перлы типа "на первом курсе активно бегала и прыгала, за что получила путевку в спортивный лагерь, после чего бегать и прыгать прекратила. Политически грамотна, орально устойчива. Неоднократно незамужем" и т.д.) В общем, если бы мы тогда познакомились с В.Аксеновым, я бы ему понравилась. Чем-то я была неуловимо похожа на его Андрея Лучникова - наверное, те же ингредиенты в тех же пропорциях. (Я имею в виду не только склонность к пьянству и разврату, но и рафинированную рефлективность натуры). Но с Аксеновым мы были незнакомы, и мне приходилось нравиться другим мужчинам. Кажется, я отвлекаюсь...
И еще существовали так называемые смотры художественной самодеятельности. Раз и навсегда решив, что моя общественная работа будет связана именно с этой областью, я совмещала приятное с полезным и получала от Комитета ВЛКСМ МГУ почетные Грамоты за исполнение под рояль своих декадентских песенок. Я думаю, комсомольцам нравилось. После одного из таких выступлений в моей квартире раздался звонок, и Судьба приятным женским голосом (впоследствии выяснилось, что это был голос Ирины Александровны Большаковой ) сообщила мне, что в Театре МГУ ставят мюзикл ( боги мои! Мюзикл! В 1984 году, в СССР! Поверить в это было просто невозможно! Но я поверила, и очень как-то быстро). Так вот. Они там ставят мюзикл и хотят меня пригласить попробоваться на главную роль. Ирина Александровна со свойственной ей осмотрительностью не стала сообщать сразу,что ролей-то, собственно, и есть всего две. Это выяснилось уже потом, минут через десять после начала первой репетиции, когда мне было уже все равно, главной будет моя роль или нет - мне до смерти хотелось БЫТЬ ТАМ ВНУТРИ, в этом мюзикле.
Невозможно забыть самую первую, судьбоносную мою встречу с моим Театром. Во-первых, меня потряс тот факт, что репетиция была назначена на Восьмое марта. В той моей жизни праздники - это было святое. Работать в праздники - святотатство! Но я пошла. Главное Здание, где почему-то происходило это мероприятие, было почти пустынным, если не считать нескольких, уже явно отметивших, обитателей общаги. Во-вторых, заглянув в искомую комнату, вместо толпы пестро наряженных актеров, складно поющих и пританцовывающих (а вам что представляется при слове "мюзикл"?) я обнаружила двоих мужиков. Один, постарше и пощуплее, представился как Главный режиссер театра Евгений Иосифович Славутин, другого, помоложе и поздоровее, звали Алексеем. Фамилия его была Кортнев.
Е.И. очень много и очень складно говорил, а Леша по большей части помалкивал, погруженный в какие-то свои мысли, иногда как бы всплывая на поверхность, к реальности, чтобы взять глоток воздуха и вставить в монолог Е.И. реплику. Оба показались мне жутко умными и серьезными, гораздо умнее и серьезнее меня, тем более, что я отчего-то приделала себе в тот раз бантики. Но, несмотря на легкий привкус подавленности, в моих воспоминаниях этот день значится как праздничный - именно такое ощущение он порождал, может быть, потому, что был солнечным и весенним. В такой день хорошо решить начать работу над мюзиклом вместе с такими козырными дядьками.
Говорят, что браки заключаются на небесах. Возможно. Возможно также, что и все прочие важные события предварительно происходят там же и уже потом материализуются здесь, "на толстых планах". (Почитайте Платона или любую пятирублевую брошюру по оккультизму). Во всяком случае, именно так получилось у меня с Театром МГУ. Все могло произойти иначе, но иначе не произошло. Я получила Театр МГУ, а он - меня. И стали мы жить да поживать. Очень, правда, похоже на брак: происходит непонятный, алхимический процесс, в результате которого некто, или нечто, о чем (ком) ты еще вчера ничего не знал, становится неотьемлемой частью твоей жизни и тебя самого, будто бы даже твоим органом, который вырабатывает ферменты, без которых ты уже не можешь нормально функционировать как организм. Ты можешь как угодно относиться к этому человеку (театру, руке или селезенке), он (она) может доставлять тебе минуты восторга или жестокие разочарования, но это т в о е и без этого уже не прожить.
Итак, это мой театр, и я его люблю - как тот кулик свое болото.
В то время Студенческий театр МГУ представлял собой по сути Пенелопу, которая все ткала и распускала. Каждый год, печатая объявление о наборе в учебную группу, закидывал он свой невод в необъятное, бурное море студентов. И каждый год Евгений Славутин с нечеловеческим упорством превращал потом не совсем и даже совсем безнадежных, закомплексованных или впадающих в ступор при виде публики, студиозусов во вполне приличных, почти профессиональных актеров - для того, чтобы бескорыстно отпустить их потом на все четыре стороны, если они того хотели. Невозможно упомнить все фамилии и лица, прошедшие через этот "фильтр" хотя бы лет за пять. Меня несказанно это поражало. Казалось бы - разве не проще набрать десяток-другой действительно сильных ребят, вышколить их как следует и решать себе любые художественные задачи? Мало этого. Вся пикантность этого грандиозного эксперимента заключалась в том, что он проходил не только в милых репетиториях на ул. Герцена, 1, а прямо на глазах почтеннейшей публики. Нет, спектакли, конечно, всегда тщательно репетировались, но "доводились" до блеска они уже на сцене. (Так было, например, с нашим шоу "Синие ночи ЧК", которое обрастало "фишками", как корабль ракушками, буквально после каждого спектакля.)
Иногда мне казалось, что Е.И, как мужик из того анекдота, покупающий три метра ситцу жене на ночнушку, интересуется именно "самим процессом", причем прежде всего - процессами, происходящими в душах и нервных тканях его актеров, а потом уже - результатом, т.е. собственно спектаклем. И уже в последнюю очередь его интересует то, что сейчас мы называем словом "промоушн", то есть то, что профессионального режиссера должно, казалось бы, интересовать еще до того, как он начинает работу. Сейчас, по прошествии более чем десяти лет, мне кажется, что так оно и было. И, как ни странно, эта потрясающая воображение система не только работала - она работала прекрасно. Главным ее результатом было удивительное, нигде ни до ни после мною не виданное, фантастическое равенство возможностей. Более демократической в этом смысле обстановки я не могу представить более нигде, разве что в каком-нибудь Городе Солнца. Что вы думаете о лозунге "от каждого - по способностям, каждому - по потребностям"? Читали?
А я видела, как он выглядит на практике. Ты приходил в театр, к твоим услугам были режиссер и педагоги, готовые часами добиваться от тебя верной интонации или точного жеста. К твоим услугам были посиделки с чаем и разговорами, из которых ты узнавал о Бэккете или Бобе Фоссе, друзья, всегда готовые послушать "твою последнюю ворчалку" и дать тебе отлуп по полной программе, если им вдруг мерещился там слишком явный Мандельштам или Вийон. В общем, если ты имел за душой бутон, у тебя был реальный шанс превратить его в большой красивый цветок. Что и происходило. И происходит по сей день - с ребятами, которые каждый год приходят на прослушивание, прочитав объявление о наборе в учебную группу. Итак, мы начали репетировать мюзикл с романтическим названием "Бензоколонка". Либретто, если не ошибаюсь, написал какой-то болгарин ( парень и девушка, автостоп, проблемы отцов и детей, подростковая гиперсексуальность). Музыку, совершенно прелестную, написал В.Фридман. Музыканты, довольно симпатичные и галантные парни, искренне пытались играть джаз-рок.
Через несколько репетиций я подумала, что мне, наверное, не стоит продолжать пытаться в этом участвовать. Я не умела делать на сцене НИЧЕГО! Я не знала, что такое "предлагаемые обстоятельства", "темпоритм" и "сверхзадача". Я не знала, куда девать руки, ноги, глаза и выражение лица. Положение усугублялось тем, что мой единственный партнер, в отличие от меня проработав в театре чуть ли не год, все это уже освоил и потому постоянно сохранял лицо в позиции "плавали, знаем". Из мажорной барышни, с апломбом курившей папин "Данхилл," рассуждая о преимуществах того или иного спецхрана, я мгновенно превратилась в Золушку, скатившуюся с сиденья только что обратившейся в тыкву кареты. Это было ужасно. Это был на самом деле настолько сильный шок, что я с тех пор ни разу не пробовала проверить, есть ли у меня способности драматической артистки.
И еще манера Славутина задавать интересные вопросики! Сейчас-то я понимаю, что ему, например, надо было добиться от нас, малознакомых в сущности людей и непрофессионалов, что особенно важно, - любовной сцены. Но тогда я была не то чтобы тургеневской (тургеневской, боюсь, я никогда и не была), - хуже! Прустовской барышней! Вы только вообразите, как отреагировала бы прустовская девушка на вопрос о том, хочет ли она провести ночь вот с этим вот детиной. Возможно, если бы я хотела, дело быстрее сдвинулось бы с мертвой точки. Но я не хотела, а сыграть желание не позволяли мои понятия о приличии плюс отсутствие сценического опыта. Я уходила в кулису рыдать, репетиции заходили в тупик. Бедный Славутин! Зачем он со мной возился, не понимаю.
Но мы все-таки доделали спектакль и даже несколько раз его сыграли. И потом я как-то плавно перетекла в Музыкальную студию театра, которую набрали тогда Гоша Васильев и Лепа Иващенко. В Студию набрали того же Лешу Кортнева, моего однокурсника Валдиса Пельша, Пашу Мордюкова с географического, мехматянина Сережу Чекрыжова и нескольких девушек - надо признать, что Васильев-Иващенко фильтровали потенциальных участников довольно придирчиво и жестко. Получилось хорошо.
Я впервые увидела Студийцев, когда набор был окончен настолько давно, что они уже успели отрепетировать целую программу. Они стояли на сцене, десять или двенадцать человек, пели на десять же голосов произведение под названием "Я люблю Университет" и излучали счастье. Это был пятиминутный мини-мюзикл, в котором было, по-моему, штук пятнадцать виртуозно аранжированных музыкальных тем, каждая из которых сопровождалась жутко смешными сценками, исполняемыми самими же певцами. Вообразите мюзикл "Чикаго", интерпретированный Спайком Джонсоном для десятка молодых, красивых, счастливых рож - и вы процентов на 10 получите представление о том, что я испытала. Сразу после этой репетиции я подошла к строгому Васильеву и попросилась в Студию. Я бы не перенесла отказа. Я тоже хотела излучать счастье. Я спела им свою "Дудочку". И меня приняли. Приняли! В моей жизни не так много случаев, когда я активно программировала свое будущее, но в тот день я его действительно запрограммировала, причем так, как мне хотелось. До сих пор, когда я слышу слова "студенческие годы", я вспоминаю репетиции в ДК МГУ на Герцена, 1 и на Ленгорах, выездные концерты "на картошку", долгие поездки на юг и спектакль "Принцесса на горошине", который мы возили в Вильнюс и в Ереван. Мне кажется, что это было не просто совпадение бурного цветения нашей юности с абсолютной беззаботностью. Мы в действительности существовали в каком-то особом энергетическом "коконе", который создавали в первую очередь Гоша с Лепой, ну, и мы все тоже, в общем, не в последнюю. Энергетика эта позже, когда мы почти тем же составом делали "Синие Ночи ЧК", никуда не делась - запасов было еще много, - а вот беззаботность исчезла..
Итак, ближайшую пару лет мы пребывали в состоянии "взяться бы за руки всем, сколько есть..." В Театре МГУ, подразделением которого мы продолжали оставаться, между тем тоже происходили всякие интересные вещи. В забрасываемый в бурное студенческое море невод стали попадаться - и оставаться! - очень интересные ребята. Появились вдруг очень сильные спектакли "Чудная баба" Нины Садур и "Альбом" по рассказам Т.Толстой с феерической Лялей Селивановой, "Дон Гуан", где, как говорил Славутин, "ги-ни-аль-но" играл Валера Голавский. И действительно, природа его существования на сцене была столь очевидно гениальна, что мы даже не ревновали. На улицу Герцена начали захаживать поэты, да какие поэты! Пригов, Туркин, Иртеньев, Друк! Потрясающий Гандлевский. Появилась большая программа, основанная на их стихах. Было чувство, что вокруг театра формируется что-то вроде атмосферно-энергетического вихря. И вдруг это явление разразилось. Славутин поставил пьесу В.Коркия "Черный человек, или Я Бедный Сосо Джугашвили".
Это была фантастика. Какой-то совершенно новый, непривычный, непонятный театр, который был устроен по парадоксальным законам и одновременно отталкивал и завораживал. Он говорил о вещах страшных, взрослых и совершенно чуждых нашему прекрасному, наивному лирико-гитарному миру. У Леши Багдасарова, который играл Сталина, был такой монолог - про Дыру, которая всех засасывает. Каждый раз, когда он кричал это свое "Дыра-а-а!", я чувствовала такой ужас, как будто меня могло засосать прямо в зале театра. Убедительно очень у Леши получалось, и вообще, весь спектакль был сильно, непривычно сильно убедительный. Было страшно и одновременно смешно, и что-то внутри подсказывало, что это новое для нас отношение к жизни точнее и правильнее, чем то, восторженное, нежное - вчерашнее. Мы все вдруг повзрослели. У меня к тому времени уже родился сын. То есть, он, конечно, родился у нас с Лешей Кортневым, но в основном, все-таки, у меня. Жизнь с размаху поставила меня на землю, упразднив те волшебные полсантиметра. Было очень трудно с продуктами, подгузниками, деньгами и свободным временем. Вокруг, кажется, уже началась знаменитая "рашен перестройка". Тот мир, в котором можно было чушь прекрасную носить, рухнул, как оранжерея. И началась другая жизнь.
В один момент, точнее, в один прекрасный момент, на гребне потрясающего успеха "Черного человека" вдруг заклубилось еще одно новообразование. Ирина Александровна Большакова, та, которая Голос Судьбы (она же художественный руководитель Театра), давно вынашивала идею сделать настоящую программу кабаре. И вдруг однажды мы поняли, что для осуществления этой идеи у нас есть все: авторы песен (Леша Кортнев, Саша Кривенко и я), музыканты (кажется, тогда это уже был "Несчастный Случай"), феерический Конферансье (Валера Голавский), актеры (Леша Нестеренко, Влад Чанкин), стихи, которые они могут читать, даже занавес с красной звездой ( благополучно позаимствованный из "Черного человека") - и, главное, тема, которая это все объединяет и создает для буквально каждой реплики, каждой строчки неповторимый контекст. Тогда из спецхранов, с полок, из столов хлынуло море ранее запрещенной литературы. Народ в шесть утра становился в очередь за "Огоньком". Толстые журналы лопались от Шаламова, Терца, Солженицына, Довлатова. Стала известна настоящая история. У нас на философском семинары по истории КПСС из зевотного времярасчленения превратились в корриду, аутодафе для преподавателей, которые еще год назад, набожно покачиваясь, читали нам катехизис про шесть признаков империализма и три способа отношения партии к середнякам.
В театре же мы вовсю обсуждали тему лагерной самодеятельности - только не пионерской, конечно. А той, когда репрессированных артистов объединяли в бригады, под конвоем возили на выступления - и обратно в лагерь. Вот она, наша тема, наша золотая жила! Мы - бригада лагерных артистов! Нас охраняют и под дулом пистолета выводят на сцену "серые плащи", сотрудники ГБ (аббревиатура ЧК, если кто не помнит, появилась в названии благодаря дуэту Чекрыжов - Кривенко. Впрочем, доверчивые иностранцы в этих тонкостях не разбирались и запросто переводили ее как KGB). Алле - оп! И все срослось.
Недавно я посмотрела запись этого шоу, запись от 1989 года. Следует быть объективной. Это был не просто хороший, это был очень хороший спектакль. Идея; то мрачное и предельно напряженное поле, которое она создавала; актерские работы; удельная плотность гэгов на единицу времени и то, как эти гэги смотрелись на фоне постоянного присутствия "серых плащей"; тот самый темпоритм; музыка и то, как она была подана, как были решены мизансцены, какие-то удивительно простые, но эффектные славутинские придумки плюс наша энергия и самозабвенность - на самом деле все было здорово и совершенно не удивительно, что этот спектакль имел счастливую судьбу, гастроли при полных залах и кучу приятной прессы. Удивительно то, что по возвращении из Эдинбурга, с театрального фестиваля FRINGE, вся эта замечательная труппа распалась и спектакль, где были сделаны кардинальные замены, тихо сошел на нет, продолжая, впрочем, оставаться старичком хоть и дряхлым, но бодрым.
В Эдинбурге Театр МГУ прошел через ряд очень серьезных испытаний: совсем непросто завоевать прессу и публику в городе, где этого же жаждут пять тысяч твоих конкурентов. Мы пели на улицах, попутно раздавая свои рекламные листовки, ходили в важные клубы показываться важным критикам, репетировали как сумасшедшие и пару раз устраивали забастовки - вернее, пугали забастовкой английских продюсеров, которые пытались нас кормить фасолью в томатном соусе из консервов утром и вечером. Но это были семечки по сравнению с тем испытанием, которого мы даже не ждали. Мы получили успех, те самые "медные трубы". На первый спектакль было продано, кажется, двадцать билетов, на второй - что-то около сорока, потом уже восемьдесят, и через три-четыре дня зал был продан полностью и это длилось месяц. О, это сладкое слово - soldout! Поэтому наши англичане, кажется, предложили нам подписать контракт и продлить гастроли - сначала по Британии, а там, глядишь, и дальше. Я говорю "кажется" потому, что не знаю этих подробностей до сих пор - наверное, в этом и кроется причина печальной кончины Нашего Первого Кабаре. Мы были несчастны, как обманутые дети. Мы честно одевались зайчиками, истово учили стишки , водили хоровод, а елка не зажглась.
Сейчас я понимаю, что это был даже не 92-й и даже не 91-й год. Год был 1990-й, и в том самом году увезти из России (извините, еще из СССР) группу студентов неизвестно на какой срок, да еще и увезти работать за деньги - это было невозможно. Я бы не рискнула. Я, может быть, разве что собрала бы их и честно все-все рассказала. Ведь некоторые дуются до сих пор.
Но я рассказываю о тех, кто решил для себя, что остается. Я решила остаться - я очень люблю петь свои песни, и мне казалось, что более приспособленной для этого дела сцены, чем моя родная, просто не может быть. Просто не может быть какой-то другой сцены ! Но мне было скучновато петь по два раза в месяц, потому что Кабаре шло теперь не чаще, и к тому же, я вдруг написала несколько удививших меня своей нешуточностью песен и мне вдруг показалось, что мир, пославший мне такие песни, должен их обязательно услышать. Короче, я послала свои записи на Конкурс актерской песни (warning: не путать с авторской!!) им. Андрея Миронова и выиграла его.
Театр устроил мне грандиозный бенефис. Мы подготовили около пятнадцати песен, которые пылились у меня в запасниках, не вписываясь по жанру в "Синие Ночи". Славутиным и Кортневым были придуманы очень красивые "фишки", простые до колик, но стопроцентные по точности. Например, на песенке "Сад со сверчком" в темноту сцены "вылетали" мальчик и девочка в маечках и семейных трусиках. Они вылетали семенящим шагом, потому что между ног у них были зажаты туристические фонарики - какие-нибудь "Варты", что ли , обычные, цилиндрические. И эти фонарики, светясь через цветной сатин, то сближаясь, то удаляясь, создавали ощущение чуда. "Суламифь" была решена, как ей и полагается, в шаманском ключе, с медитативными однообразными гитарными рифами и отчаянным вокалом. Я пела, опускаясь медленно на колени, вокруг танцевали девушки со свечками. Для начальной It would not be long Леша придумал, что я должна лежать на рояле и петь, извиваясь так, как будто меня томили спазмы истомы. Костюм был неудобный, атласный и я боялась, что он треснет в самый ответственный момент, шить другой было некогда, Леша кричал, но в итоге все получилось хорошо.
Во всяком случае, Митя Чувелев, который теперь пишет для меня аранжировки и играет на гитаре в "НС", а тогда просто пришел послушать песню про 39-й трамвай живьем, увидев "тетку на рояле", решил, что он, пожалуй, останется в этом театре. И этим я горжусь. Вообще, мне все это мероприятие понравилось до последней чрезвычайности. Больше же всего понравилось мне ощущение, которое возникло спонтанно где-то к финалу. Наверно, это было измененное состояние сознания. Оно иногда повторяется на концертах и даже на репетициях, но я никак не умею вызывать его искусственно. Мне казалось, что я летаю, что меня подхватила какая-то безумно мощная волна, что я свечусь и что это видят люди, которые сидят в зале и не отводят глаз от сцены. Возможно, это произошло от усталости. Весь этот джаз совпал, по странной причуде судьбы, с очень драматичным моментом в моей личной жизни, и днями я репетировала, а ночами напролет - плакала, и от этого находилась в очень странном состоянии духа. Прихотливая смесь ликования и отчаяния. Очень творческое состояние, но с точки зрения здорового образа жизни - никуда не годное.
Между тем мне оставалось совсем недолго наслаждаться здоровым образом жизни. Кстати, судьба меня об этом предупреждала: как раз после этого триумфального бенефиса мы погрузились с друзьями в машины и, в лучших богемных традициях, поехали пить портвейн в Парке Горького. На обратной дороге "Жигули", которыми управлял один товарищ, совершенно неожиданно оказавшийся пьяным в, скажем, стельку, чуть не вылетели с парапета в Москва-реку. Каким-то чудом мы зависли над водой и каким-то чудом сдвинулись назад. Помню, что как только он остановился купить сигарет, я выскочила вон и в ужасе пешком понеслась домой, благо бежать было недалеко. К сожалению, эта история не прибавила мне осторожности. Да и потом - моя жизнь, как мне казалось, рушилась, какая тут уже осторожность. Зато это апокалиптическое сознание неожиданно толкнуло меня на разумный шаг: я решила записать свои песенки. Вообще, я решила записать альбом - хотя бы с той программой, которая была на бенефисе, но для начала мы с замечательным пианистом Игорем Бобошиным, который своими импровизациями в "Синих Ночах" заставлял залы стонать от восторга, отрепетировали и прямо на сцене зала на Герцена, 1 увековечили "Остановку", "Рио-риту" и еще несколько номеров. Если бы, спустя месяц, в ночь с 16 на 17 июля, увидев несущуюся по встречной полосе машину, я решила закрыть глаза не правой, а левой рукой и получила бы тот же самый удар, но слева, - от меня остался бы только сын Тема и эта запись. Ну, еще стихи. Но все, в общем, обошлось. Кстати, произошло это ДТП в непосредственной близости от Театра - на проспекте Калинина, в том месте, куда мой спутник успел доехать за те три-четыре минуты, которые отделяли премьеру нашей с Бобошиным маленькой программы на кабаре BACKSTAGE от начала еще одной моей новой жизни.
Я не хочу вспоминать эти полгода в больнице и этот год после. Я только хочу вспомнить, что мой Театр меня не забывал, ждал и надеялся, хотя по сообщениям медиков, надеяться, кроме чуда, было не на что. Ярчайший эпизод: декабрь 1993-его, съемка в Театре для одной телепрограммы. Накануне было очередное обследование в институте Бурденко, меня опять стрекали током, но тщетно: моя парализованная рука не подавала признаков жизни, хотя болеть - болела как все зубы, вместе взятые, по 24 часа в сутки. "Извините, положительная динамика отсутствует". Накачав анальгетиками, меня привезли прямо из больницы. Нашли костюм - самые узенькие черные брюки, которые все равно пришлось подкалывать булавками (зело я была худа) и широкий белый пиджак, в карман которого можно было как бы пижонски опустить мою несчастную, безжизненную правую руку. И вот я стою на своей родной, любимой сцене. Пою песню про трамвай, стараясь не поворачиваться к камере правым боком. В лучших традициях жанра, у съемочной группы очень мало пленки и они просят меня отработать номер "сквозняком", чтобы потом не монтировать - то есть потанцевать, подвигаться... Воистину, бесконечно количество способов наказать человека, не правда ли?
Ну ладно. Главное, что чудо произошло и весь этот ужас кончился. Именно на этих съемках я познакомилась со своей спасительницей Асмик Саркисян, удрала из больницы, что-то наврав зав. отделением, слетала вместе с Асмик в блокадный Ереван, где не было света, газа и воды, зато был волшебный старик, который и собрал мою руку заново. Стала она как новенькая - то есть, ничегошеньки не умела делать. Я заново училась ею писать, держать зубную щетку, резать хлеб. Картошку, кстати, досих пор не перенаучилась чистить как следует.
В общем, мне потребовалось больше года, чтобы восстановиться до такого состояния, которое позволило бы мне снова выйти на сцену. Честно говоря, я не помню, как и когда это возвращение состоялось. Помню только новое, жутко непривычное ощущение: каждым словом и звуком, каждым жестом ты будто бы разбиваешь тонкий лед, который тебя окутывает и отделяет от зала, от друзей - актеров, вообще - от нормальной жизни.
Мне было очень трудно. Самое досадное, что и Театру в этот момент тоже было очень нелегко. Дело в том, что в течение всех лет своего существования Театр выполнял две функции: он жил, как всякий нормальный театральный организм, который осуществляет творческий процесс, и, кроме того, еще постоянно боролся за свое элементарное выживание. Творчеством занимался счастливец Славутин, шпагой бесконечно махала Ирина Александровна. Сколько я себя помню, без конца в наших театральных разговорах упоминались какие-то парткомовские деятели, от милости которых зависела наша возможность заниматься своим делом. Мы постоянно ходили на какие-то ритуальные встречи, совершали в их честь какие-то обрядовые выступления - хорошо хоть, что жертв не приносили человеческих, честное слово. Но боги все равно прогневались. Длительная тяжба по поводу здания на улице Герцена решилась в пользу Церкви. При всех своих христианских убеждениях я до сих пор не могу понять, почему Церковь так вцепилась в помещение бывшего манежа и совершенно пренебрегла прелестной нарышкинской церквушкой, которая стоит в пятидесяти метрах и до сих пор служит складом фотоматериалов факультету журналистики. Очень меня также раздражало присутствие на митингах православных черносотенцев. Они вообще меня как-то раздражают, тем более, когда называют театр "бесовщиной".
Мы делали, что могли. Устраивали акции, митинги, часть ребят просто жила в театре на осадном положении. Все было напрасно, положительной динамики не происходило. Однажды у нас происходил очередной концерт протеста - на лестнице в фойе, потому что зал был уже обесточен.Мы пели свои песни на лестнице напротив входа - а с другой стороны напротив входа стояли православные и пели молитвы. Нелепое и стыдное - для всех! - противостояние. Мне вдруг стало их жалко. Они стояли под дождем много часов и пели. Теперь у них есть своя крыша над головой. А у нас нету. Наверное, такие дела тоже решаются на небесах. Так или иначе, почти что ровно через год после моего бенефиса, в середине мая 1994 года, состоялось историческое Закрытие сезона, или Похороны Сцены, как мы это тогда назвали. Все находились в каком-то пред-истерическом состоянии, были ужасно возбуждены, хотя на самом деле никто не верил, что это не шуточки и что это не просто очередная в цепи бесчисленных драк за свой Дом. Приехал Ролан Быков (Царствие ему Небесное), основавший этот Студенческий Театр. Он сказал речь и встал на колени - на той сцене, которая прославила его почти сорок лет назад. Зал разразился овацией. После первого отделения на сцену выскочили бойкие ребята из учебной группы, вытащили здоровенные деревянные щиты, достали молотки и стали забивать сцену - с шутками, с матом-перематом, как и полагалось по мизансцене. По всему театру понесся чудовищный стук этих молотков. И все вдруг притихли. Это было по-настоящему жутко. И это было, к сожалению, взаправду.
И мы снова начали новую жизнь, теперь под новой крышей, не у себя дома, а в гостях. Было очень странно, что ты не можешь теперь прийти репетировать когда захочешь, - потому что стало тесно и репетиционное время распределялось по строгому расписанию. Но к счастью, хоть театр и начинается с вешалки, истинный театр не умирает, если его вешалку переставили на новое место. Как раз благодаря всем пережитым потрясениям труппа пребывала в отличной боевой форме и даже была дружнее, чем когда-либо. Появились прекрасные новые ребята, назвавшиеся "Оркестром Форсмажорной Музыки", и Славутин с интонацией Вельзевула мне советовал внимательно к ним присмотреться. Как в воду глядел! Через год мы уже работали с ними вместе. А тогда мне было немного страшно рисковать, и мы решили делать программу с "НС"-ом. Все опять как-то завертелось и начало срастаться. Коркия придумал название "Зал ожиданий". Лера Курочкина, наш костюмер, вдруг выдала идею, что все действо происходит на вокзале. Мне приснилась выходная ария со всеми движениями и хорами. Кортнев, совершенно для меня неожиданно, взялся написать - и моментально написал восхитительное либретто и песню для бомжей. Все были воодушевлены необычайно. Я каждое воскресенье ездила в свою любимую церковь ставить свечки - и происходили необъяснимые вещи.
Так, например, какой-то дурацкий то ли экран, то ли задник на сцене ДК на Ленгорах, которую мы получали раз в год по обещанию и вдруг не смогли получить из-за этого дурацкого экрана, неожиданно сам как-то починился и подарил нам целую репетицию на сцене, что для нас было крайне существенно. В ночь перед премьерой "форсмажоры" ночевали в зале ДК, чтобы с аппаратурой ничего не случилось. Их, естественно, никто об этом не просил - мне вообще не могла прийти в голову мысль кого-то попросить о таком диком одолжении. Балет Володи Полякова репетировал танцы. У меня опять возникло ощущение, что я хожу в полусантиметре на землей, абсолютно отрешившись от всего бытового. Мой сын Артем жил с любимыми бабушкой и дедушкой, и я могла не волноваться о его благополучии. Днями, с 12 до 16-ти, я работала на Радио-101, а потом, сломя голову, мчалась на репетиции. Это было счастье. Хотя счастье это было настолько трудным, что временами просто опускались руки. Я уже упоминала, что теперь у нас не было своей сцены. Для драматических спектаклей это обстоятельство досадное, но преодолимое. Шоу же, в котором задействованы сценический звук и свет, невозможно репетировать в подвале. Однажды, я помню, мы дико опаздывали по времени - не могли начать репетицию на сцене из-за опоздания одного музыканта. Слава Богу, он пришел, мы срочно начали доделывать "стыки" между музыкальными кусками и мизансценами актеров (хотелось добиться того, чтобы это были именно не "стыки", а органично друг из друга выраставшие фрагменты единого целого), я выхожу к микрофону - бац! Нету звука. Что такое?
Ничего особенного. У радиста, работавшего в зале, окончился рабочий день. Он спокойно вырубил питание и пошел домой. А у нас еще такая прорва работы! Я ушла из зала и опомнилась уже возле памятника Ломоносову, который стоит, как известно, метрах в ста от входа в ГЗ.
Тем не менее мы сделали все, что планировали. Как это удалось, непонятно до сих пор. Но это удалось. До сих пор я считаю, что "Зал Ожиданий" в Студенческом театре МГУ - это максимум того, что мне вообще удавалось в смысле самореализации. Я не могу объективно оценивать качество этого шоу, хотя я читала заметки в газетах и слышала отклики зрителей. Возможно, у нас не хватило времени, или того, что называется "школа", возможно, танцоров надо было бы частично заменить, - мне кажется, что это частности. Главное - у спектакля была своя аура, свой пульс, своя точка опоры. Мы изумительно все чувствовали друг друга. Мы были на своих местах. Великолепен был актерский дуэт разухабистого бомжа (Леша Нестеренко) и трогательнейшего старичка в исполнении Юрия Матвеевича Огульника. Влад Чанкин, блестяще владеющий немецким, работал полубезумного немца, который истерически хочет, но не может попасть в свой Фатерланд. Зал то плакал, то смеялся. Музыканты играли так, будто каждая нота была продолжением не их инструментов, а непосредственно нервных клеток и душевных фибр. Леша Кортнев играл блестяще-наглого не то импрессарио, не то сутенера, в общем, хозяина положения и своей не вполне вменяемой подопечной. Я была на своем месте и делала то, что обожаю больше всего на свете и умею, теперь уже умею, делать.
Я уверена, что, будь будущее этого спектакля подлиннее, мы бы "довели" его до состояния взрывающегося в душе и не переставая сверкающего фейерверка. Несмотря ни на каких радистов. Несмотря на то, что "Оркестр Форсмажорной Музыки", почувствовав себя самостоятельной творческой единицей, покинул Театр и перебрался на другую базу. Несмотря на то, что играть этот спектакль оказалось, как с цифрами в руках доказала мне Ирина Александровна, проигрышно, экономически невыгодно. Конечно, мне это было обидно. Были у меня и другие поводы для обид, связанные с... впрочем, мой театр об этом знает, и довольно об этом. Кроме вышеперечисленного, у нас с Евгением Иосифовичем были какие-то внутренние разногласия, порожденные, я думаю, в первую очередь, равной степенью взрывчатости темпераментов. Сейчас я не могу их вспомнить. И дело не в них. Дело вообще не в этих обстоятельствах, в этих преградах на пути к сказочному фейерверку. Они были неприятны, но в принципе преодолимы. В том, что свой следующий сезон театр начал без меня, собственно театральных причин, как ни странно, не так уж много.
22 мая 1995 года был второй показ "Зала Ожиданий " на Ленгорах. В зале была куча моих родственников - и моя мама. Это был ее День рождения. После спектакля я сказала об этом со сцены, и зал встал, приветствуя ее аплодисментами. Это был лучший подарок, который я сделала ей в жизни. Тем более, что это был ее последний в жизни День рождения. Это выяснилось спустя 11 месяцев. Перед этим, в конце июля, выяснилось, что у нее рак.
Я отдыхала на Кипре - мне предстояло участие в финале конкурса молодых исполнителей "Ялта - Москва - Транзит". Самый факт моего попадания в финал этого конкурса, проводимого Первым каналом телевидения и крутейшей тогда продюсерской фирмой АРС - то есть, нисколько не моей, не театральной тусовкой, удивителен тем более, что за моей спиной не стояли спонсоры или любые другие деятели шоу-бизнеса. Мне казалось, что это отличная возможность отрекламировать свое имя и свое шоу. Славутин предостерегал, что я буду драться не на своей территории, но я была полна куража и наглости. Я другая? Непохожая на остальных? Тем лучше.
Итак, я позвонила с Кипра домой. Я ненавижу звонить домой из тех мест, где мне хорошо. Всегда, когда я уезжала далеко и мне было хорошо, в моей семье случались непредвиденные вещи. Когда мы возили "Синие Ночи" в Кембридж, и это была просто сказочная поездка, с моей бабушкой случился инсульт. То родители вдруг придумают разводиться, то еще что-нибудь. Как будто я у них - унтер Пришибеев, при котором таких глупостей, как разводы и инсульты, позволить себе никак нельзя.
В общем, я не люблю звонить домой. Я просто боюсь звонить домой. Вы уже знаете, что сказал мне мой папа, когда я позвонила домой в тот раз. Уже после того, как я получила это известие, через пару дней я оказалась в Иерусалиме. Меня потрясла Стена Плача и более всего - грандиозный, сопоставимый с органной мощью, гудящий на всех мыслимых частотах хор скорбных человечьих голосов, который беспрерывно над ней витает. Мне было что просить, впервые прикасаясь к Стене. Я хотела, чтобы моя мама исцелилась. Удивительнее всего то, что она действительно исцелилась от рака, во всяком случае, в марте ее отпустили домой, сообщив, что даже метастаз не обнаружено. Умерла она через две недели от инсульта. Кто мог предвидеть еще и это?
Итак, я вернулась с Кипра домой. Мама ничего не знала про свой диагноз, или догадывалась, но блокировала эту мысль в своем сознании. Врачи придумали, что гуманнее ей ни о чем не говорить. Она спросила:"Как твой конкурс?" Я ответила, что отлично и послезавтра начинаются репетиции.
Я приехала на репетицию в "Космос" через пятеро суток после начала подготовки и честно сказала режиссеру, ч т о происходит. Я не спала эти пятеро суток, потому что мне казалось, что она каждую секунду может умереть. У нее в легких все клокотало - потом из них выкачали несколько литров жидкости. Мы боялись класть ее в районную больницу и ждали звонка от знакомого врача, который все не звонил и не звонил. Мы с отцом просто обезумели от этого всего. Но не должны были показывать виду. Воспаление легких - не такая уж катастрофа, не правда ли. Каждый день я играла перед ее постелью самый виртуозный спектакль, на который только была способна. Он назывался "Мама, все в порядке". Она верила. А мне это и было нужно. Мне на самом деле было нужно только это - чтобы с ней было все в порядке. После всего этого я приезжала в роскошный зал "Космоса" и смотрела, как на сцене поют и танцуют люди, у которых дома никто не умирает. Мне не нужна была эта сцена. Мне нечем было петь. Ведь я пою не "аппаратом", как говорят вокалисты. Это выяснилось тогда. Я пою чем-то, что важнее этого аппарата, хотя и он тоже важен, конечно. Может быть, это называется "душа". А на месте моей души тогда была большая воронка, которая остается после взрыва, который ко всем аллахам разнес все живое. Показать этого было нельзя ни дома, ни вне дома.
Я впервые об этом говорю за эти годы, и говорю так подробно, будто оправдываюсь. Перед своим Театром, который ничего не понял - куда я исчезла, почему, - и назначил очередной "Зал Ожиданий" на конец сентября. Перед ребятами из "НС"-а, которые в круизе смотрели телевизор и не понимали, что происходит и почему я так бездарно "сливаю". Перед "форсмажорами", которые приходили за меня поболеть и тоже ничего не понимали. Один человек, он собирался быть моим директором, услышав, как я выдавила из себя эту новость, помолчал и сказал: "Умирает? Да, бывает. Ну ладно, главное - тебе собраться. Соберись! А то ты всю жизнь будешь человеком из электрички. " После этого я больше не могла повторять вслух эту новость. Все знал только мой папа. Он был тем единственным человеком, с которым я могла говорить честно. Ничего не врать, не скрывать, не изображать. Это очень изматывает. Это измотало меня так, что я потом год никого не хотела видеть и слышать, кроме отца и сына. Моих отца и сына, разумеется.
Поэтому "Зал Ожиданий" исчез из афиши, а я исчезла из театра. Мы с отцом через день ездили к маме в больницу. Кто видел отделения химиотерапии, тот знает, о чем я. Кто не видел - сохрани вас Бог от этого зрелища. Чем я занималась, когда в больницу ездил папа, я не помню. Наверное, сидела дома с Темкой, который как раз пошел в первый класс. Ну да, он должен был жить у моих родителей и учиться рядом с ними, чтобы я могла работать на радио, сниматься в "Пилоте" (была такая передача - мы вели ее с Кортневым) - и, конечно же, играть спектакли... Но жизнь распорядилась по-другому. Тема переехал ко мне. Впрочем, наше с ним объединение меня, я думаю, спасло - как минимум, от психического расстройства. Но эта тема уже так далека от нашего первоначального предмета, что я ее, с вашего позволения, наконец закрою.
С того августа прошло три года. С того момента, как мы со "Случайным Оркестром" (состав, который спонтанно образовался из "форсмажоров" и "НС"-а и аккомпанировал мне в "Зале Ожиданий") записали саундтрек "Зала" - два года. Я делала сольные программы, которые были скорее просто концертными, чем театральными, вместе со "Случайным Оркестром". Мне нравилось, что можно играть такую музыку, которая не является театральной, и просто петь такую музыку. Но чего-то не хватало. В какой-то момент я вдруг позвонила в Театр. Этот момент был осенью 1996 года. Славутин, как мне показалось, не особенно удивился, пригласил меня на открытие сезона. Мы вообще очень мило поговорили. Мы поняли, что все, что нас разделяло, пренебрежимо мало. К концу этого разговора я вдруг разревелась. От чувств-с. На открытии Театр давал "Кабаре 03". Этот спектакль, несомненно, был внучатым племянником нашего дедушки-кабаре. Красная звезда на заднике преобразилась в красный крест, серые плащи трансформировались в белые халаты. (Мне вспомнилось, как в больнице я собирала использованные одноразовые шприцы - чтобы сделать себе из них нечто вроде портупеи - или, может быть, "тернового венца" для сцены. Но я не реализовала эту идею - отчего-то через пару месяцев пребывания на больничной койке она перестала казаться мне смешной).
Между тем, "Кабаре 03" было дико смешным. Тема "весь мир - дурдом", в свое время подробно разработанная Театром в ерофеевской "Вальпургиевой Ночи", ничуть не менее благодатна для кабаре, чем тема полицейского государства. Вот парадокс: чем суровее и страшнее "предлагаемые обстоятельства" нашей жизни, тем искрометнее юмор, которые они порождают. Прямо по Бахтину. Но тогда я не думала про Бахтина. Вместе с залом, в котором, кстати, мы неожиданно встретились с доброй половиной "форсмажоров", я смеялась и хлопала. Мне понравилось. Мне очень понравились новые приобретения Театра: долговязый Антон Кукушкин, мастер художественного свиста, и особенно - Максим Галкин, автор и исполнитель бесподобных скетчей-пародий. Мне показалось диким, что я смотрю на это все из зала, а не из кулисы. Через пару недель я надела белый халат и снова вышла на свою сцену. Практически это можно было бы назвать happy-end-ом. Но мне не хотелось бы, чтобы конец этой истории наступил так скоро. На моем болоте подросло новое поколение куликов, симпатичных и талантливых. Евгений Иосифович настойчиво рекомендует. Я написала тучу новых песен. Посмотрим, может быть, что-нибудь из этого и получится. Никогда ведь не угадаешь, что именно сейчас планируется там, где заключаются браки и театральные союзы.
Это письмо ни о чем. Это будет история про песню, которую
гоняют по радио чаще других. Про "Прощай, оружие", где женский
голос просит, что вот скажи оружию прощай, пока живой, это действительно
была песенка привокзального кафе двадцатых и тридцатых, она была повязана
не с Первой мировой, а с испанской войной, куда едут в штатском, и мягкие
шляпы надвинуты на глаза, помни, что ты свободна, и у тебя нет никаких
обязательств, паровоз подползает к крытому перрону, и рядом с подножкой
товарищ привыкает к иностранным папиросам. Состав подан, пора ехать.
Испания для меня была связана с гражданской войной. Не нашей, а их.
Я таскаю эту историю, как собака таскает поноску. Итак, Испания. В одном
хорошем романе моего детства муж и жена смотрели на Невском проспекте
хронику, где юноши в клетчатых рубашках бежали среди развалин Университетского
городка под Мадридом с винтовками в руках, где увозили детей, а матери
бежали за автобусом. В пространстве этого романа висела истыканная флажками
карта Испании, там была победа под Гвадалахарой и бои в горах Гвадаррамы.
Герой писал своей жене письма, где говорилось: "Командировка затягивается,
мало ли что случится со мной. Во всяком случае, помни, что ты свободна,
никаких обязательств". И женщина покупала на проспекте Володарского
русско-испанский словарь 1836 года, изорванный, с пожелтевшими страницами,
чтобы по ночам учить длинные испанские фразы: "Да, я свободна от
обязательств перед тобой. Я бы просто умерла, если бы ты не вернулся".
Герой возвращался, и жена своими руками привинчивала к его гимнастерке
орден Красного Знамени. И все это исчезало под патиной времени, покрывалось
слоем новых фотографий, не успевших выцвести. И новые войны колотили
в дверь, а от этой оставался только звук. Отзвук и отсвет. Лишь посмертные
ордена кровавились по ящикам буфетов и письменных столов. Вот такие
дела. Можно целую повесть написать. До свидания.
Источник: www.ark.ru
Быть женой гения. Каждая ли женщина может вынести эту
ношу? Конкордия Дробанцева (её гениальный муж называл жену Корой) смогла.
Чего ей это стоило, она подробно изложила в книге «Академик Ландау.
Как мы жили». Уверен, что очень многие читали эту удивительно откровенную
книгу, благодаря которой мы теперь так хорошо знаем об одном из самых
выдающихся учёных-физиков своего времени. Мне довелось более 30-ти лет
прожить в городе, где родился и он, и величайший музыкант 20-го столетия
Мстислав Растропович, ходить мимо дома, на котором висела его мемориальная
табличка. Во времена его юности улица носила имя Торговой. Сейчас её
именуют по-другому. Тот, кто когда-то жил в Баку, не найдёт улиц со
старыми наименованиями – Баку изменился. Говорят, что в лучшую сторону.
Не мне судить. Не восприняли однозначно читатели и написанную Корой
Ландау-Дробанцевой книгу-исповедь, о которой шла речь выше. Полемику
на эту тему я помещаю здесь. Считаю, что она поможет разобраться в сути
проблемы и поможет лучше узнать и o женщине, которая много лет прожила
рядом со своим гениальным мужем и тоже вовсе не бесталанна, а является
автором многих поэтических и прозаических сборников, владела несколькими
иностранными языками и, на мой взгляд, не случайно была избрана Львом
Давидовичем Ландау в спутники своей жизни.
Конкордия и Лев Ландау |
Г.Е.Горелик Кто знает человека лучше, чем его родная жена?!
Из такого нехитрого постулата исходил, видимо, М.Золотоносов.
Приняв за истину взгляд "жены гения", он оклеветал его
ближайшего друга и оскорбил тех, кому о выдающемся физике Льве
Ландау известно не только из книги его покойной вдовы. Знаменитый
физик -- сталинский, ленинский и нобелевский лауреат -- указанному
постулату во всяком случае не подчинялся. Не подчинялся и многим
неписанным правилам хорошего тона. Правила своей жизни он выработал
себе сам. И это не потому, что был гением в теоретической физике.
|
Ландау был очень необычным человеком, сочетавшим глубину
и мастерство экстра-класса в мире науке с чертами подростка в делах
мирских. Подростка честного, свободолюбивого, иногда очаровательного,
порой несносного, не терпевшего "мути" в отношениях между
людьми. Самые наглядное проявление необычности Ландау как раз то, насколько
он был неизвестен и непонятен своей законной супруге, что убедительно
запечатлелось в ее книге, написанной после смерти мужа в 1968 году.
Это была его вторая телесная, юридическая смерть. Первая смерть случилась
в январе 1962 года, когда удар грузовика на обледенелой дороге оборвал
его жизнь в науке, оставив ему шесть лет мучений и бессмысленного существования.
Духовная смерть Ландау в 1962 году, или его полная духовная инвалидность,
была очевидна всем, кто знал его в главном его деле жизни - в науке.
Никогда больше он не дотронулся до своей любимой науки, никогда больше
не ощутил родной стихии теорфизического мышления. Это ясно видели его
коллеги и друзья-физики. Но его жена была настолько далека от этой главной
его жизни, что не поняла проиcшедшего, бытовую вменяемость приняла за
возвращение к полноценной жизни. Это и говорит о том, сколь крошечна
была часть жизни Ландау, доступная его жене.
Рукопись законной супруги Л.Д.Ландау, Конкордии Терентьевны
Дробанцевой (1908-84), которая предпочитала именоваться "Корой
Ивановной", в послесоветское время, спустя 15 лет после ее смерти,
отредактировали и издали под названием "Как мы жили". Конкордия
Терентьевна и в советское время не делала секрета из своего труда -
давала читать многим. Сама писательница была вполне советским человеком,
членом партии (понятно какой), носительницей стандартных советских понятий
о том, что такое хорошо и что такое плохо, что такое любовь и что такое
дружба, что такое здоровая советская семья и что такое аморалка. Как
следует из ее книги, такого же советского человека она видела в своем
гениальном законном муже. Ныне совершенно ясно, что она заблуждалась.
Политические взгляды Ландау надежно зафиксировали документалисты от
КГБ с помощью подслушивающей спецтехники:
“наша система, как я ее знаю с 1937 года, совершенно определенно
есть фашистская система и она такой осталась и измениться так просто
не может. Пока эта система существует, питать надежды на то, что она
приведет к чему-то приличному, даже смешно. Наши есть фашисты с головы
до ног. Они могут быть более либеральными, менее либеральными, но идеи
у них фашистские.”
Это выдержка из "Справки по материалам на академика ЛАНДАУ Л.Д.",
направленной из КГБ в ЦК КПСС в 1957 году и многократно уже опубликованной.
В 1934 году, когда Ландау познакомился с будущей женой,
он действительно считал себя подлинно советским человеком. Его позицию
коренным образом изменил "37-й год", который вместил в себя
разгром физического института в Харькове, где работал Ландау, его бегство
в Москву, антисталинскую листовку и арест. То, что, живя много лет рядом
с Ландау, жена не заметила разительной перемены в его взглядах, говорит
о ней самой и о степени близости между супругами. Она смотрела на жизнь
мужа если не через замочную скважину, то через дверную щелку. Немудрено,
что особенно ей были непонятны научные друзья Ландау. Никого из них
она особенно не жалует. Безоговорочное ее одобрение вызывает только
один деятель науки (А.В.Топчиев), образцово-исполнительный сталинский
чиновник, сделанный академиком за его усилия провести "лысенкование"
физики по примеру биологии.
А безоговорочную свою ненависть она обращает на ближайшего
друга, ученика и соавтора Ландау Евгения Михайловича Лифшица. Можно
тут предположить и что-то вроде ревности, ведь Ландау проводил со своим
ближайшим сотрудником, вероятно, больше времени, чем с ней. Но свое
чувство она выразила в убийственно-советской форме. Вспомнив, как она
в 30-е годы хотела, чтобы Ландау вступил в партию, она добавила: “в
те далекие молодые комсомольские годы у меня было твердое убеждение:
вне партии, вне комсомола должны оставаться только мелкие людишки вроде
Женьки Лифшица, чуждые нашей советской идеологии”.
Что да, то да - Е.М.Лифшицу советская идеология была
чужда с юности. Причины этого неясны - в ближайшем окружении Ландау
30-х годов он один был такой, но последствия весьма значительны. Можно
представить себе, как нелегко ему было переносить просоветский пыл своего
обожаемого учителя в первые годы их знакомства. И насколько легче стало
после того, как Ландау сделал свое политическое открытие в 1937 году.
Об их антисоветском единомыслии знали – кроме стражей Госбезопасности
– только самые близкие люди.
Для Конкордии Терентьевны намерение Ландау вступить в Коммунистическую
партию, высказанное им после клинической смерти, ничего тревожного не
говорило о его состоянии. Иначе на это смотрели его друзья. Они помнили
совсем иное отношение Ландау к коммунизму. Летом 1961 года Е.М.Лифшиц
с женой и Ландау со своей возлюбленной проводили отпуск на черноморском
побережье. Снимали квартиру в доме, где "удобства" располагались
далеко во дворе.
Вернувшись как-то из этого заведения, академик Ландау
назвал соответствующую тропинку "Путь к Коммунизму" и пояснил
аналогию: "Воздействует на все органы чувств сразу". Разумеется,
не политика была главным содержанием жизни Ландау и Лифшица, а физика.
Их дружба и научное сотрудничество воплотились в знаменитом “Курсе теоретической
физики” Ландау и Лифшица. Тома курса переиздавались не раз на многих
языках и обучили несколько поколений физиков мастерству профессии. Курс
этот иногда называли кратко “Ландафшиц”, что вполне отражает незаменимость
каждого из соавторов. Как бы ни были значительны научные исследования
Ландау и Лифшица, по своему влиянию на развитие науки их превосходит
Курс. Во всей литературе по теоретической физике нет ничего сопоставимого
по влиянию. Вот мнение академика Виталия Гинзбурга, ученика и соавтора
Ландау:
“В наши дни выдающихся теоретиков в мире все же немало,
а вот Курс теоретической физики Ландау и Лифшица только один. Ландау
нашел в Лифшице не только достойного ученика и ближайшего друга, но
и, я бы сказал, писателя. Обычно этот термин не применяется к авторам
научных книг, но это факт, что писать научные книги очень трудно. Сам
Ландау, физик исключительного калибра, один из корифеев теоретической
физики, писать не мог или, во всяком случае, так не любил, что почти
никогда не писал даже собственные статьи, не говоря о книгах. Напротив,
Лифшиц умел писать четко и выразительно. Все 5300 страниц Курса написаны
рукой Лифшица, и его роль в формировании текста никогда не вызывала
сомнений.”
Конкордия Терентьевна обо всех этих научных материях
не имела ни малейшего представления. И она использовала всю силу женской
логики, чтобы поссорить Ландау с его ближайшим другом. Пока Ландау был
здоров, ей это не удавалось. Когда же он стал безнадежным инвалидом,
она преуспела. Этот свой успех она старалась закрепить своей книгой,
добавляя к своей логике обыкновенную фантазию. Например, по ее словам,
Ландау якобы препятствовал избранию Е.М. Лифшица в Академию наук. На
самом деле в 1958 году Институт Физических проблем представил Е.М. Лифшица
для избрания в члены-корреспонденты. Это означает, что заведующий теоротделом
ИФП Ландау и директор института П.Л.Капица поддержали его кандидатуру.
(Е.М. Лифшица избрали в Академию в 1966 году, а что препятствовало и
помогало выборам в советскую Академию под контролем отдела науки ЦК
КПСС, это отдельный непростой сюжет).
Увы, как оказалось, комбинация страстной женской логики с заурядной фантазией действует и на некоторых мужчин, раз книга Коры Ландау завоевала сердце и борзо пишущую руку М. Золотоносова. Правда, он не знаком с Корой и понятия не имеет о мире физики. Лично знал Кору и был хорошо знаком с людьми науки известный журналист Ярослав Голованов, о котором та пишет вполне положительно. Что касается Евгения Михайловича Лифшица, любовь к своему учителю и другу он сохранил на всю жизнь. Это чувство воплощалось прежде всего в заботе о научном наследии Ландау. И в истории физики имена Ландау и Лифшица соединены навсегда.
Коренная москвичка Мария Шалаева сразу после окончания школы поступила на актёрский факультет ВГИКа в мастерскую Иосифа Райхельгауза. Будучи студенткой, она начала свою кинокарьеру. Причем начала ее более чем удачно. Уже за одну из первых своих работ – главную роль в короткометражке Ларисы Бочаровой «Завтра день рождения» - начинающая актриса получила Приз на Международном фестивале ВГИКа в 2001 году и Cпeцпpиз пpeдceдaтeля жюpи Кинофестиваля «Кинoтaвp» в 2002 году. Ничуть не менее интересной, хотя и не отмеченной
наградами, оказалась и ее Катя Колобкова в картине Ю.Рогозина
«Первокурсница». В 2003 году Маша снялась сразу в нескольких фильмах, в том числе в главных ролях в остросюжетной картине «Рубеж атаки» (Полина Сторожева) и военно-приключенческой ленте «Честь имею» (Маринка), а также в нескольких эпизодах, среди которых, наиболее запомнившиеся: Ирка в «Марш-броске» и девушка с телеграфа в «Бумере». |
Мария Шалаева |
Рассказывают, что в жизни Мария Шалаева легка на подъем. Она работала официанткой в одном из московских клубов, путешествовала по Франции… Кстати, именно в самолете Москва-Париж Маша и познакомилась с режиссером Сергеем Ткачевым. Тот, завороженный ее обаянием, тут же принялся писать сценарий своего очередного фильма. Писать именно под Марию. Он и главную героиню, не долго думая, назвал ее именем. Этот факт, а также природный талант актрисы, помогли Марии очень органично вписаться в предложенный образ. Ее героиня – юная москвичка Маша, приехавшая к отцу в Париж – легка и естественна.. Вот отрывок из рецензии на фильм Натальи Бобровой: «…Девушка-тинейджер летит вприпрыжку по Парижу… Легкий рюкзачок, джинсики… Вот она звонит в дверь одного не самого респектабельного дома. Её открывает заспанный мужчина в шапочке… «Вам кого?» - «Здравствуйте, вы мой папа…».
Хмурый русский парижанин Дима (Дмитрий Шевченко), по-старомодному
застенчивый, <…> вынужден предоставить 14-летней малышке кров
в его крохотной съемной квартирке, где парижским шиком, и не пахнет.
Незваная дочь, которую он видел последний раз в пеленках, будет надевать
отцовский халат, пытаться уснуть в папиной постели, кадриться с арабами
на Елисейских Полях, ночевать на втором ярусе качелей-каруселей, выбрасывать
отцовские презервативы, заподозрив его в измене стабильной подружке,
и терзать папу наивным вопросом: «А что ты будешь делать, если я забеременею?».
Фильм был тепло принят критиками. «В Машиных глазах тонешь, - пишет
Мария Шубина («Harper's BAZAAR»). - Нужны были бы сравнения с Голливудом,
сказали бы - ранняя Вайнона Райдер. Не внешне похожа, а по сути. Осталось
только дождаться таких же и в таком же количестве ролей…»
Вот еще несколько отзывов.
«Маша вообще удивительно органична… Такая естественность и детскость
напоминали бы о Лолите, но самой Маше было бы гораздо интереснее узнать,
как бы она смотрелась в роли Анны Карениной…» (Ксения Рождественская,
«L'OFFICIEL'» 09' 2004).
«…открытие фестиваля - фильм «Маша» и юная актриса Маша Шалаева. Маша
реальная совсем не похожа на Машу экранную. Она работает в кадре с обаянием
и правдивостью маленького зверька, переиграть которого невозможно в
силу того, что нет никого естественнее детей и зверей. У Маши, которую
на фестивале все принимали за ребенка, в послужном списке несколько
больших ролей и перспектива яркого кинематографического будущего. Нашлись
бы режиссеры, которые сумели бы использовать эту потрясающую органику
и невероятную искренность…» (Александр Колбовский, «Московские новости»
10'2004 г).
В течение следующих трех лет Мария снялась в триллере «Ночной продавец» (невеста), сериале «Карусель», картине «Частный заказ» (проститутка) и романтической комедии «Повелитель эфира» (Динка). Роли, скажем так, были проходными. Зато в 2007 году актриса вновь «выстрелила». Очередной успех Марии Шалаевой принесла роль Алисы в картине Анны Меликян «Русалка» (современная версия сказки Андерсена). И вновь роль писалась специально под актрису. Рассказывает Анна Меликян: «Это не Маша появилась на проекте, это проект родился благодаря тому, что где-то в этом огромном городе ходит по улицам такая удивительная, фантастическая девушка Маша Шалаева. Которая еще не догадывается, какая она удивительная, но я это знаю и знаю уже давно. Просто не было подходящей истории для нее, чтоб всем показать, какая она прекрасная. А поскольку прекрасным нужно делиться, я решила больше не ждать и придумать эту историю специально для Маши. Так родилась «Русалка».
В очередной раз Маше пришлось играть героиню, которая
намного младше ее. На момент съемок Шалаевой было 25 лет, а ее Алисе
18. Однако, как и в случае с «Машей» никакого диссонанса не вышло. Маленькая,
худенькая актриса действительно выглядит намного младше своих лет, а
ее задор, непосредственность и несомненный талант помогают легко вживаться
в роль. На вопрос, что было самым сложным при съемках фильма, Мария
Шалаева признается: «Самое сложное быть вот таким вот настоящим человеком
– как Алиса. Все время тянуло на какой-то цинизм. Вещи наивные как раз
очень тяжело делаются. Но благодаря нашему режиссеру все получилось.
Я вообще хочу сказать, что тут нет моей особой заслуги, есть большая
заслуга Ани Меликян – она написала сценарий, она меня позвала на эту
роль. Мы познакомились еще во ВГИКе, вместе учились: я – на актерском,
она на режиссерском. И она меня еще тогда пообещала снять». Картина
имела большой успех на кинофестивале «Кинотавр» в 2007 году. За свою
работу Мария Шалаева была отмечена Призом за лучшую женскую роль.
Автор: Игорь BIN
Сайт: rusactors.ru
Дзидра Ритенбергс |
Особняк на улице Земгалю на окраине Риги. Маленький садик, в котором вырастают самые вкусные в городе сливы, смородина и крыжовник. Небольшая, вся увешанная фотографиями квартира. Здесь вместе с родственницей и черным котом живет Дзидра Ритенбергс. Живет замкнуто. Изредка ее навещают дочь, внук и старые друзья. Но есть в доме еще один постоянный обитатель -- неизменный герой всех наших бесед. Его присутствие ощущается почти физически -- в каждой вещи, в каждой фотографии. -- Мы познакомились на Московском кинофестивале в 1960 году, я и Вия Артмане представляли там Латвию. В гостиничный номер вошел высокий русый парень и направился ко мне. Никогда, ни у одного человека я не видела такой потрясающей улыбки: доброй и ласковой. «Евгений Урбанский», -- представился он и сразу
же сообщил, что наконец счастлив. Он, как выяснилось, мечтал познакомиться
со мной, увидев фильм «Мальва». -- Рассказывают, что он сразу же сказал Григорию
Чухраю, у которого тогда снимался, что встретил ту, которую искал.
Вы тоже сразу поняли, что он -- мужчина вашей жизни? |
-- Не этим ли он вас и подкупил?
-- Не только. У меня было множество ухажеров. Но положиться на них я
не могла. С Женей все было иначе. Незадолго до операции он приехал со
съемок «Чистого неба», и сразу ко мне. Веселый, шумный, как всегда,
улыбающийся, ничем не показывая, что волнуется. Хотя волновался сильнее
меня. Он истерзал врачей вопросами, насколько это опасно, достаточно
ли оснащена больница... Тут кто-то и сказал, что, конечно, подобные
операции лучше делать на Западе. Что с ним стало! Мой «коммунист» бросился
искать золото, чтобы продать его и отправить меня в лучшую европейскую
клинику. Врачи еле отговорили его от этой безумной затеи.
-- Отправляясь из больницы в загс, вы не боялись
новых испытаний? Ведь Урбанский в те годы был негласным «секс-символом»:
обаятельный, темпераментный, он имел бешеный успех у женщин!
-- Меня выручали прибалтийская выдержка и чувство юмора. Уже во время
медового месяца началась разведка боем. Я тогда снималась на «Ленфильме»,
и Женя был в Ленинграде со мной. И вот в один из вечеров в нашем номере
зазвонил телефон. После паузы в трубке раздался голос известной актрисы:
«У меня, между прочим, от Евгения Яковлевича внебрачный сын». «Ну что
ж, привозите его к нам. Будем воспитывать». Еще были и такие звонки:
«Напомните Евгению, что мы встречаемся там же под часами, в тот же час»
или «Передайте Жене, что ресторанный счет я уже оплатила». Чаще звонки
раздавались ночью. И Женя только просил: «Девочки, дайте покоя! У меня
утренняя репетиция!»
-- А вы относились к таким знакам внимания также
философски или испытывали ревность?
-- Я испытывала другое чувство. Материнское. Женя был для меня большим
ребенком. Я же все-таки старше его на четыре года. Хотя внешне это было
незаметно. Когда мои родственники увидели его впервые, то сказали: «Староват,
а так -- хорош». Женя был богемным человеком, и мне хотелось сберечь
его талант, оградить от нежелательных, «удалых» компаний.
-- Но ведь Евгений Яковлевич был натурой широкой,
к тому же эмоциональной...
-- Возможно, тут благотворно сказалась разница в темпераментах. Я никогда
не устраивала семейных сцен. Хотя... нет, раза два сорвалась. Как-то
мы собирались на какое-то мероприятие. Я ждала его дома, одетая, напудренная,
напомаженная. Он все не шел. Я стала волноваться. Наконец появился.
И по его огромной широкой улыбке я поняла, что он уже где-то «встретился»
с «друзьями». А таких друзей у знаменитостей, как вы знаете, достаточно.
«Все вышло совершенно случайно», -- Женя расплылся в улыбке еще шире.
Я пыталась сдержаться, но не вышло. Схватила висевшую на стене глиняную
тарелку, привезенную Женей из Мексики, и бросила ее на пол. «То же самое
я могла найти и в Риге! Для этого совершенно необязательно мне было
переезжать в Москву!»
Тарелочка с моим любимым рисунком -- маленькие белые
рыбки на черном фоне! Женя молча снял вторую тарелочку и протянул мне.
Ее постигла та же участь. Женя произнес: «Ничего, еще достанем». Больше
о случившемся мы не вспоминали. Наутро, как ни в чем не бывало, позавтракали.
А потом дружно, под ручку пошли к метро.
До встречи со мной Женя не знал, что женщине нужно подавать пальто.
И, наоборот, когда она снимает верхнюю одежду, ей тоже необходимо помочь.
Однажды в ресторане, в гардеробе, мы встретили актрису нашего театра
Нину Веселовскую. Женя как раз в этот момент подавал мне шубу. Увидев
это, Нина всплеснула руками: «Ну, Дзидра, ты творишь чудеса! Чтобы Женька
кому-нибудь подавал пальто!..»
-- А он вас чему-нибудь учил?
-- Конечно (смеется. -- К.Б.). Когда мы жили еще в общежитии театра
Станиславского, он учил меня правильно произносить по-русски: «портфель,
а не портфель», «не ложат, а кладут», «не документы, а документы»...
-- Погодите, какое общежитие? Знаменитый на весь
мир «коммунист» Урбанский и вы, лауреат Венецианского кинофестиваля,
не имели квартиры?
-- Когда после свадьбы Женя настоял, чтобы я переехала в Москву, мы
два года ютились в шестиметровой комнате общежития. Только стараниями
Михаила Михайловича Яншина получили однокомнатную квартиру возле метро
«Сокол». Конечно, мы не бедствовали, но и богатыми не были. За съемочный
день актеру платили около 60 рублей, исполнителю главной роли -- чуть
побольше. Деньги в те времена немалые. Но мы часто ходили в консерваторию,
в театры и... в рестораны. Во вкусной еде Женя себе не отказывал. Всего
лишь раз я приготовила национальное латышское кушанье -- уху в молоке.
Он съел тарелку, но добавки не попросил. Больше к моему национальному
меню мы не возвращались... По нескольку раз в год ездили в мою родную
Ригу, отдыхали в Юрмале. И даже по туристической путевке однажды были
в Болгарии... Но в первую очередь, конечно, гости! Двери нашего дома
просто не закрывались. Часто у нас собиралась почти вся труппа цыганского
Театра «Ромэн». Мы очень дружили с семьей Григория Чухрая (Женя у него
снялся в «Балладе о солдате» и «Чистом небе»). С семьей Роберта Рождественского.
Закадычным его другом был Юрий Никулин. Из Ленинграда приезжал Иннокентий
Смоктуновский, Женя его просто обожал. Он мечтал о сыне и собирался
назвать его Кешей. Помню, после премьеры «Девяти дней одного года» Женя
произнес пророческую фразу: «Наступает время его героя -- интеллигентного,
утонченного и ироничного. Кончается время моих мастодонтов: прямолинейных,
бескомпромиссных и приземленных».
-- Василия Губанова из «Коммуниста» он тоже считал
мастодонтом? Кстати, насколько искренно Евгений Яковлевич верил в убеждения
своего героя?
-- В «Коммунисте» он сыграл своего отца. В 37-м того арестовали как
«врага народа» и сослали в лагерь. Женина мама с детьми поехала вслед
за мужем. Там невдалеке от лагеря Женя и вырос. Он часто повторял: «Мой
отец был настоящим коммунистом и, как многие тогда, верил всему, что
говорили от имени партии». Вот так, думаю, он относился и к убеждениям
своего героя, это и играл. Он как-то рассказал мне такую историю. Когда
прислали документ о реабилитации, Женя решил как можно скорее сообщить
об этом отцу. Схватил конверт с бумагами и бросился на лесоповал, где
тот работал. Выбиваясь из сил, пробежал несколько километров до делянки,
протянул отцу конверт. Тот хмуро прочитал, махнул рукой: «А пошли они
все на ...!» -- и дальше лес рубить...
-- Как вы думаете, если бы не трагическая гибель,
Урбанский играл бы в кино «интеллигентных, утонченных и ироничных»?
-- Сложно сказать. Женя прекрасно знал свое амплуа. Ни материальные
проблемы, ни творческий простой не могли заставить его ухватиться за
чуждую, как ему казалось, роль. Хотя в театре пробовал себя в разных
направлениях. Трудно поверить, но в «Трехгрошовой опере» в роли старого
Пичема Урбанский выступил дублером Евгения Леонова. Утром в театре узнали,
что у Евгения Павловича сердечный приступ. Спектакль -- вечером, заменить
некем. А роль сложная, с исполнением нескольких зонгов. И тогда Женя
предложил себя. Заперся в гримерной и выучил роль.
-- В театре Станиславского все складывалось у него
более чем удачно. Почему же он оттуда ушел?
-- Он не любил интриги. Театральный коллектив в массе своей состоял
из хороших и достойных людей. Но, как зачастую бывает, кто-то вырвался
вперед, кому-то это не понравилось... Незадолго до начала съемок фильма
«Директор», перед роковой экспедицией в Среднюю Азию, он ушел из театра,
не желая видеть, как разваливается некогда дружный коллектив.
-- Помните, у Высоцкого: «Смерть тех из нас скорее
косит, кто понарошку умирал». Герои Урбанского уходили из жизни ярко,
трагически. Не было ли в этих смертях какого-то знака свыше, предвестника
скорой гибели?
-- Мы об этом не задумывались. Наверное, и в кино можно «накаркать»
себе судьбу. Фильм А. Салтыкова «Директор» пошел у Жени как-то сразу
и очень легко. Его безоговорочно утвердили на главную роль, одну из
сцен кинопроб включили в основной материал фильма. Это была его роль
-- эдакий «второй коммунист», -- обещавшая очередной грандиозный успех.
Но самое удивительное, что он совсем не рвался к этой работе. Может
быть, поэтому возникло какое-то недоброе предчувствие, ощущение надвигающейся
беды.
Я была беременна нашей будущей дочерью, в тридцать семь лет это непросто. Поэтому мы и изменили нашей традиции -- всегда быть вместе. Я не поехала с ним на съемки в Среднюю Азию, знаете, климат тяжелый, условия скверные, работа от восхода до заката. Помню, незадолго до его отъезда я вернулась с репетиции домой. Женя лежал на диване с совершенно непривычным, испуганно-озабоченным лицом. Он произнес фразу, от которой мне стало просто дурно: «Мне показалось сейчас, будто я умер. Такая пустота кругом!» Я начала его успокаивать: «Ну, бог с ней, с этой ролью, с деньгами. Ты не обижен вниманием, и в театре вон какой репертуар!» Но, видимо, такова уж наша актерская натура -- каждую роль воспринимаешь как последнюю. И Женя поехал. В момент отъезда произошел еще один неприятный эпизод. Уже прислали машину с «Мосфильма», я стояла у окна. И вдруг Женя крикнул мне снизу, что забыл галстуки. И зачем они ему на съемках в пустыне?! Но все же я лихорадочно собрала несколько галстуков, связала их и бросила вниз. Они разлетелись в воздухе.
Женя торопливо собрал их и уехал. Я отправилась в Ригу
навестить родных. И однажды раздался телефонный звонок. Поднял трубку
мой брат. Выслушал и с совершенно белым лицом сказал: «Сейчас к тебе
придут друзья. Они все расскажут». Что расскажут?! Вскоре на пороге
появились бывшие однокурсники по театральной студии -- Валия Фреймане
и Янис Кублис. Вид у них был потерянный. «Там что-то случилось на съемках
с твоим Женей. Что-то с его машиной». Большего они сказать не отважились.
А еще через минуту их сменили Михаил Рощин и актриса нашего театра Надежда
Животова. Они и сказали всю правду: Женя погиб на съемках. Мои, опасаясь,
что сердце у меня не выдержит, вызвали «скорую». Напичкали какими-то
успокоительными. Но ничего не действовало. На кухне уже громко, в голос
рыдала мама, а я все отказывалась верить -- представить своего Женю
неживым не могла. Потом потеряла сознание, и потекли бессмысленные,
однообразные дни в больнице... Дочь, как и ее отец, родилась в феврале...
Я назвала ее Евгенией.
Потом уже на «Мосфильме» Дзидра смотрела его последнюю
пленку -- проезд автомобилей по пустыне. Машину, которой управлял Урбанский,
на огромной скорости занесло на повороте, и она перевернулась. К нему
сразу бросилась вся съемочная группа. И только кинооператор по инерции
продолжал снимать. В кадр попал даже шарф Урбанского с каплями крови.
Эту пленку она не смогла досмотреть до конца. Несколько лет Дзидра Артуровна
жила с дочерью и свекровью в той самой однокомнатной квартире на «Соколе».
По-прежнему работала в театре Станиславского. Но Москва была для нее
их общим городом -- ее и Евгения, и в какой-то момент город без него
стал невыносим. Дзидра вернулась в Ригу. Многое изменилось в ее жизни.
Ушла из театра, стала кинорежиссером, выросла дочь, появился внук...
Только чувство, подчинившее себе ее жизнь 38 лет назад, осталось неизменно.
Автор: Кирилл БАРЫШНИКОВ, «Огонёк»
Москва – Рига
А вот последнее сообщение об актрисе:
11 марта 2003 г., в воскресенье в Риге в возрасте 74 лет умерла известная
латвийская актриса и кинорежиссер Дзидра Ритенбергс, супруга знаменитого
российского актера Евгения Урбанского. Дзидра Ритенбергс в начале своей
карьеры играла в театре латвийского города Лиепая и рижского Театра
русской драмы. Затем она работала в Москве - с 1962 по 1975 год была
в труппе Московского драматического театра им. Станиславского. После
смерти мужа возвратилась в Латвию, где занялась кинорежиссурой. Всемирную
известность Дзидре Ритенбергс принесла роль Мальвы в одноименном фильме
по роману Максима Горького. В 1957 году на кинофестивале в Венеции за
исполнение этой роли она получила приз по номинации "Лучшая актриса".
Источник: NEWSru.com
Если бы в нашей стране занимались «производством» «звезд»,
как это делали в старые времена в Голливуде, если бы не было «железного
занавеса», – Валентину Серову знал бы весь мир, как
западных знаменитостей. Красавица, талантливая актриса – и на театральной
сцене, и в кино, - она была рождена покорять. У нее было одно очень
существенное отличие от всех прославленных советских актрис – она была
естественна. И на экране, и в жизни. В каждом своем поступке, в каждой
роли.
Серова была дочерью Клавдии Михайловны Половиковой – талантливой актрисы,
игравшей в театре имени Маяковского. Раннее детство Вали Половиковой
прошло в Харькове, в семье бабушки, простой крестьянки. Девочке было
шесть лет, когда ее привезли в Москву – потом Валентина очень долго
не могла избавиться от украинского выговора.
Настоящая дочь своей матери, она с детства была обречена
играть. Репетировать она начала с восьми лет, а в девять впервые вышла
на сцену – это было в Студии Малого театра на Сретенке в спектакле «Настанет
время» Ромена Роллана. Героиню, вдову бурского генерала Дебору де Вит,
играла Половикова, а ее сына Давида – маленькая Валя.
Театр был ее жизнью с самых ранних лет. Валентина Половикова
не получила хорошего образования, в школе училась не Бог весть как –
она до конца жизни писала с ошибками, но была очень любознательна. Она
хотела стать артисткой: в четырнадцать лет пришла в театральную школу,
а после первого курса пошла работать в ТРАМ – Театр рабочей молодежи.
Здесь она сыграла – с заметным успехом – Любовь Гордеевну в «Бедность
не порок» Островского. Художественным руководителем ТРАМа был Илья Судаков.
Он очень ценил Валентину Половикову, она много играла. В эти годы она
впервые вышла замуж – привела в дом матери своего партнера по спектаклю
Валентина Полякова. Клавдия Михайловна была в ужасе от своего зятя –
но все же приняла его, дала молодым комнату. Они жили шумно, к ним приходили
их друзья – такие же юные мальчики и девочки, одержимые театром. Брак
длился очень недолго.
Впоследствии Поляков стал ее злейшим врагом. Он так
и не смог простить Серовой, что она ушла от него. Когда в 1948 году
он стал секретарем партийной организации театра имени Ленинского комсомола,
то начал вести против нее кампанию, уличая ее в алкоголизме. Тогда Серова
только начала выпивать – уединялась после спектакля с подружками в гримуборной
и пила с ними вино. Было очевидно, что ей нехорошо на душе. А Поляков
из этого творил «дело». Серова его за это возненавидела.
А в молодости она не выносила питья, водки – ее это раздражало, она
этого не любила. Она любила петь, играть, она любила театр. Хотя в этот
период она вела шумную, безалаберную жизнь.
И вот 3 мая 1938 года на вечеринке у Героя Советского Союза Анатолия Ляпидевского она познакомилась с Анатолием Серовым. Комбриг Серов, известный летчик, герой испанской войны – он был очень знаменит. Они полюбили друг друга с первого взгляда. Серов провожал ее на Ленинградском вокзале в Москве – и утром прилетал в Ленинград, чтобы встретить ее на Московском вокзале. Валентина Половикова вышла замуж за Анатолия Серова – и на всю жизнь сохранила его фамилию. Ей было двадцать один год. А вокруг ее имени уже начинала клубиться легенда – тогда она познала, что такое молва. Серов привел ее в Кремль – она бывала на приемах, познакомилась со Сталиным, которого она боготворила – как и большинство. Сталин покровительствовал Серову и его жене. Они получили роскошную пятикомнатную квартиру в Лубянском проезде – потом он был переименован в переулок Серова (он и сейчас носит имя летчика Серова). Они были очень счастливы – и старались не думать о том, что квартира эта принадлежала раньше маршалу Егорову, расстрелянному вместе с Блюхером и Тухачевским, и что все вещи в этой квартире остались от прежнего жильца… Серова была беременна, она ждала сына.
Она очень боялась всякий раз, когда Анатолий уезжал
на очередное задание. Она долго помнила тот день, когда он ушел на свое
последнее задание – вместе со знаменитой летчицей Полиной Осипенко.
В тот день у нее была премьера. Играли пьесу Максима Горького «Зыковы».
Когда она приехала в театр гримироваться, она заметила, что за кулисами
полно военных, что все как-то странно на нее смотрят… Бледный Берсенев
зашел к ней в гримуборную и сказал: «Анатолию очень нехорошо…» Она спросила:
«Он мертв?» Берсенев ответил: «Он погиб». Это было перед началом спектакля.
Зал смотрел на нее с ужасом: по радио уже сообщили, что на испытаниях
погибли Полина Осипенко и Анатолий Серов, а она, превозмогая отчаяние,
вышла на сцену, чтобы не срывать премьеру. Был 1939 год. Уже после его
смерти Серова родила сына, которого назвала Анатолием. Сталин потом
часто приглашал ее в Кремль, где она сидела рядом со вдовой Валерия
Чкалова, Ольгой Эразмовной. Вдовы героев были в большом почете. Сталин
отыгрывал свой образ сердечного и внимательного к бедам людей вождя.
Фотографии Валентины Серовой тогда постоянно печатались в газетах. Толпы
простаивали на фильм «Девушка с характером», где она снялась в главной
роли.
Валентина Серова |
Серова в кино – это «социальный
типаж», в ее лице, повадке, облике было то, что мечтал увидеть
зритель. Она создала новый социальный тип молодой, очаровательной,
влекущей к себе задорной советской девушки. У Серовой было красивое,
выразительное лицо, были юмор, естественность и, как бы теперь
сказали, сексуальная притягательность. Тогда на кинематографическом
небосклоне царили Любовь Орлова и Марина Ладынина. Серова по праву
встала рядом с ними. Но ее героини, в отличие от героинь Орловой
и Ладыниной, могли быть не только мечтой – они приходили из реальной
жизни. Что бы она не играла, она привносила в свои роли волнующую
и человеческую тему преодоления – помимо комедийности, на которую
в те годы, как и всегда, впрочем, был повышенный спрос. Обладала новая звезда и еще одним немаловажным свойством: она была талантливой театральной актрисой. В 1938 году ТРАМ, где начинала Серова, был преобразован в Театр имени Ленинского комсомола, им стал руководить Иван Николаевич Берсенев. В 1939 году в Ленкоме Серафима Бирман поставила пьесу Горького «Зыковы», где сама Бирман сыграла Софью, Антипу – Борис Оленин, а роль Павлы замечательно исполнила Валентина Серова. Борис Оленин был увлечен Серовой, в театре говорили, что он потерял голову, но в жизнь Валентины Васильевны в это время входил другой человек. Как она потом вспоминала, ей ужасно мешало, что на каждом спектакле «Зыковых» в первом ряду сидел какой-то молодой человек с цветами и буквально прожигал ее взглядом. |
Он не пропускал ни одного спектакля с участием Серовой,
толкался возле служебного входа, писал ей записки с просьбой о встрече.
Это продолжалось довольно долго. Однажды, после долгих раздумий, она
написала ему: «Позвоните мне. В. Серова». Это был начинавший тогда входить
в моду поэт Константин Симонов. Ему было 24 года.
Открывалась следующая страница ее биографии – начало любовного романа,
который будет переживать вся страна. Зимой 1941 года на страницах «Правды»
было опубликовано тут же ставшее знаменитым стихотворение «Жди меня»
с посвящением – «В.С.» А в 1942 году вышел в свет сборник стихов Симонова
«С тобой и без тебя» с посвящением – «Валентине Васильевне Серовой».
Книжку нельзя было достать. Стихи переписывали от руки, учили наизусть,
посылали на фронт, читали друг другу вслух. Ни один поэт в те годы не
знал столь оглушительного успеха, какой познал Симонов после публикации
«С тобой и без тебя».
| «Будь хоть бедой в моей
судьбе, Но кто б нас ни судил, Я сам пожизненно к тебе Себя приговорил.» |
В годы войны театр был эвакуирован в Фергану. Там Серова
почти ежедневно получала от Константина Симонова письма. Тепло относящаяся
к ней Серафима Бирман – любимая ученица Станиславского, талантливый
режиссер, снимавшаяся в то время у Эйзенштейна в фильме «Иван Грозный»,
- писала ей, что она должна быть внимательнее к Симонову, что такими
людьми бросаться нельзя и надо перестать слушаться только себя. Но Серова
всю жизнь была во власти собственных эмоций, и поделать с этим ничего
не могла.
Театр вернулся из эвакуации только в апреле 1943 года. В том же году
Серова согласилась стать женой Симонова. Это была его страсть – сильная
мужская страсть к женщине, которая поначалу не любила его – и не была
особенно к нему привязана. Мне хочется думать, что период жизни Серовой,
когда она была вместе с Симоновым, был для нее самым счастливым. Творческие
взлеты в сороковые годы были действительно прекрасны. Она снималась
в кино. «Сердца четырех» – незамысловатая комедия о забавной любовной
путанице, где с Серовой снимались Людмила Целиковская, Евгений Самойлов
и Павел Шпрингфельд, до сих пор смотрится с большим удовольствием.
Фильм «Жди меня» по кинематографическим стандартам вышел неудачным, но он с огромной художественной правдой выразил свое время, и зрители и тогда, и сейчас проявляют немалый интерес к этой картине. В 1946 году Серова снялась в фильме «Композитор Глинка» в роли жены Глинки. В роли Пушкина там снялся кумир 30-х и 40-х годов – Петр Алейников. Фильм был неудачным, но Серова получила за эту роль звание лауреата Сталинской премии. И на театральной сцене Серова в те годы создает свои лучшие образы. Симонов специально для нее пишет пьесы – «Под каштанами Праги», «Так и будет», «Русский вопрос», который шел в пяти московских театрах, «Русские люди»… И в каждой пьесе Серова с блеском исполняет главные роли. Она была в моде – элегантная, зажигательная, Женщина в высоком смысле этого слова. Она много выступает с концертами. Однажды в одном из госпиталей, где на излечении находился высший комсостав, ее попросили выступить в отдельной палате. Она пришла туда – и увидела бледное, исхудавшее, умное, красивое лицо, и на нем – огромные синие глаза, в которых было нетерпеливое и напряженное ожидание. Это был маршал Константин Рокоссовский. Они долго разговаривали, и когда Серова вернулась домой, она тут же заявила Симонову, что влюбилась.
Насколько близки были Серова и Рокоссовский, никому неизвестно. Она никогда никому не говорила о своей любви. Только в 1968 году, услышав по радио о смерти Рокоссовского, она рассказала своей дочери, Марии Кирилловне, об их коротком романе. В детали она не вдавалась. После войны в стране началась кампания по борьбе с космополитизмом – это была форма уничтожения интеллигенции с антисемитской подоплекой. Симонов принимал в этой кампании активное участие, выступал, когда вышло постановление о театральных критиках. А Серова этого не одобряла, она очень мучилась из-за этого, ей было стыдно приходить в театр. Критик Юзовский был ее другом, с Борщаговским она часто встречалась, Гурвича она почитала. А теперь ее муж громил их как «безродных космополитов.» Помимо прочего, Симонов отправил нелюбимого им сына Серовой Анатолия в интернат куда-то за Урал. Это была страшная ошибка. Серова очень этим казнилась, не могла простить этого ни себе, ни мужу. В 1949 году Серова ушла из Театра имени Ленинского комсомола, где она прослужила четырнадцать лет. От всех свалившихся на нее неприятностей она начала выпивать.
Еще в 1948 году Симонов, очень страдающий из-за этого ее пристрастия, писал ей : «Что с тобой, что случилось? Почему все сердечные припадки, все дурноты всегда в мое отсутствие? Не связано ли это с образом жизни? У тебя, я знаю, есть чудовищная русская привычка пить именно с горя, с тоски, с хандры, с разлуки…» Разлука с сыном, разрыв с Рокоссовским - по слухам, маршала заставили прекратить всякие отношения со знаменитой актрисой, Сталин был предельно консервативен в вопросах семейных отношений, – кампания против космополитизма, которую вел Симонов – все это приводило Серову в состояние отчаяния, она была беспомощна. Неожиданно для всех начала выпивать, и остановить себя уже не могла. Пройдет еще восемь совместных с Симоновым лет. У них родится дочь Маша, Серова сыграет немало ролей в Театре им. Моссовета, снимется в фильме «Бессмертный гарнизон» по сценарию Симонова. Фильм снимал Александр Столпер, обожавший Симонова и переживающий всю его личную драму. Серову Александр Борисович возненавидел, он считал, что она мешает съемкам, приезжая на съемочную площадку в ненормальном состоянии, но когда фильм был снят, признался, что Серова очень хороша. «Актриса она талантливая, тут ничего не скажешь» - признавался он. Симонов был счастлив.
Он еще довольно долго будет радоваться ее успехам, ее любви к сцене, без которой она не могла жить. Но наступит день, когда он напишет ей: «Люди прожили вместе четырнадцать лет. Половину этого времени мы прожили часто трудно, но приемлемо для человеческой жизни. Потом ты стала пить… Я постарел за эти годы на много лет и устал, кажется, на всю жизнь вперед…» Симонов еще пытался наладить жизнь. Он содействовал тому, что ее зачислили в Малый театр, который был ей чужд. Ее приняли там очень холодно – шубы, «Виллис» с шофером, Симонов, который постоянно ждал ее у театра… Она сыграла в Малом театре единственную роль – Коринкиной в «Без вины виноватые». Серова не любила ни эту роль, ни этот спектакль. Однажды она пришла на спектакль «не в форме». Старые актрисы Малого театра были возмущены, они затеяли товарищеский суд над Серовой. Она сидела молча, бледная, глубоко несчастная, и покорно слушала все, что говорили в ее адрес. «Да, вы правы, вы правы» – шептала она.
После собрания в фойе театра появился Симонов, поднял
заплаканную Серову на руки, снес по лестнице, усадил в машину и увез.
Больше она в театре не появлялась. Завидовали ей все и всегда, даже
мать – Клавдия Половикова. Талантливая актриса, но очень недобрый человек,
которая плохо относилась к дочери и ревновала к ее успеху.
Серова поступила в Театр им. Моссовета, где проработала девять лет.
За все это время она получила лишь одну стоящую роль – Лидию в пьесе
«Сомов и другие». Она играла в очередь с Любовью Орловой, и своей игрой
вызывала восхищение и публики, и критики, и коллег по театру.
А в доме у нее был разлад. В 1957 году они с Симоновым расстались. Он
устал от ее нервных срывов, пристрастия к питью, от того, что в доме
не было покоя. Еще до того, как они окончательно расстались, Симонов
написал безжалостные строки (они были им опубликованы):
| Я не могу тебе писать стихов
– Ни той, что ты была, ни той, что стала. И, очевидно, этих горьких слов Обоим нам давно уж не хватало… Упреки поздно на ветер бросать, Не бойся разговоров до рассвета. Я просто разлюбил тебя. И это Мне не дает стихов тебе писать. |
Сначала Валентина Васильевна боролась – она боялась остаться одна. Она была очень ранимым и незащищенным человеком. Она уничтожила почти весь свой архив, многое сожгла, наивно думая, что это поможет ей выжить. А Симонов сразу женился вновь – на интеллектуалке Ларисе Алексеевне Гудзенко, вдове поэта Семена Гудзенко и дочери генерала Жадова. Симонов удочерил ее дочь Катю, потом у них родилась обожаемая Симоновым Саня. Имя Серовой изживалось из жизни Симонова. Он никогда не упоминал о ней, снял посвящение из сборника «С тобой и без тебя». И только стихотворение «Жди меня» по-прежнему выходило с пометкой: «В.С.» – и сноской: «Валентина Васильевна Серова – заслуженная артистка РСФСР». И все. Она осталась одна. У нее забрали дочь – она воспитывалась у бабушки, Клавдия Половикова даже судилась с Серовой из-за нее. Маша рвалась к матери, и по достижению совершеннолетия вернулась к ней. Это было довольно мучительно. Обожая мать, Мария Кирилловна не могла жить с нею рядом.
Серова рано постарела. Алкоголизм очень сильно сказался
на ее внешности. Из-за пьянства ее уволили из Театра им. Моссовета.
Она ненадолго вернулась в Ленком, где играла какую-то чепуху. Ее уволили
по сокращению штатов. Потом ненадолго был Ногинский театр, и в конце
– Театр киноактера. Она пила – страшно, отчаянно. Последние годы ее
жизни ничем не напоминали о том, что когда-то эта всеми брошенная женщина
принадлежала к элите. Она была не столько постаревшая, сколько сломленная
и спившаяся. Все те люди, кто пил за ее здоровье в хлебосольном симоновском
доме, теперь отвернулись от нее. Она узнала и безработицу, и нужду,
и унижения. Числясь в Театре киноактера, каждое утро она звонила диспетчеру
и спрашивала, есть ли для нее работа. И каждое утро получала ответ:
«Нет, Валечка, для вас работы нет». Ее дочь вспоминала, что в те годы
Серова была ожесточенной, совершенно потерянной, загнанной в угол. К
ней приехал ее сын, Анатолий – такой же алкоголик, как и мать. Он умер
за полгода до нее. Похоронили его в Монино, под Москвой, где он жил
с новой женой. Серова не была на похоронах – она была уже в бессознательном
состоянии.
Она умерла в декабре 1975 года. Умерла одна, в пустой
квартире, сутки пролежала на полу. Ей было 57 лет. Ни некрологов, ни
статей в газетах не последовало – лишь коротенькое извещение в газете
«Вечерняя Москва». Панихида была в Театре киноактера. Народу было немного,
все стояли в пальто и ждали, когда начнется гражданская панихида. А
она все не начиналась – кто-то должен был приехать, то ли из Союза кинематографистов,
то ли из Госкино СССР… И вдруг за кулисами включили магнитофон, и зазвучал
голос Серовой, исполняющей песню из кинофильма «Жди меня». Мгновенно
началась панихида, люди выходили к гробу и говорили – с нежностью, болью,
обидой, горечью…
В 1979 году, за месяц до смерти, Симонов призвал в больницу дочь с просьбой
принести остатки серовского архива. Симонов перечитал свои письма к
Серовой, и сказал дочери: «Я думал, что все ушло. И вдруг все вернулось
ко мне, я все пережил заново, словно это происходит сейчас…» Письма
он сжег. Но Маша втайне от отца сняла копии с его писем к матери и сохранила
их. Очень многие люди, окружавшие Серову, отошли в небытие. Даже Симонов.
А Серова остается в памяти – потому что второй такой у нас нет, - романтической
женщины, умеющей дарить людям счастье, и актрисы, не умевшей терять…
Текст: Виталий Вульф. Запись: Серафима Чеботарь.
Журнал "L'Officiel". Русское издание. №34
февраль 2002.