 |
|
На Руси женские поединки существовали издревле. Еще в
конце XIV века Псковская судебная грамота определяла, что в случае судебного
поединка между женщиной и мужчиной, возможно от лица поединщицы выставление
родственника или наймита. Но между собой женщины должны биться самостоятельно.
В XVIII веке Петр I ввел запрет на поединки, который затем подтверждался
почти всеми императорами. Но дуэлей от этого меньше не становилось. Любопытно,
что в поединке успела поучаствовать даже будущая императрица Екатерина
II, которая в бытность принцессой, в июне 1744 года дралась на шпагах
с троюродной сестрой принцессой Анной Людвигой Анхальт. Дуэлянткам было
всего по 15 лет, и поединок, к счастью, завершился бескровно.
Возможно, в память об этом событии императрица смотрела на женские дуэли сквозь пальцы, лишь бы они не заканчивались серьезным ранением или смертью. Считается, что в период правления императрицы только три женские дуэли завершились смертельным исходом. Многие русские дамы хорошо владели оружием и были не прочь при его помощи выяснить отношения. В публикациях неоднократно встречал упоминания, что только в 1765 году среди придворных дам произошло 20 дуэлей, в 8 из которых в качестве секундантки участвовала императрица. В последнее (участие Екатерины), честно говоря, верится с трудом.
Самой известной дуэлью того времени с участием россиянок стал поединок, произошедший в 1770 году между княгиней Екатериной Дашковой и герцогиней Фоксон. Произошел он, правда, не в России, а в Лондоне. В доме графини Пушкиной две образованнейшие женщины Европы мирно беседовали. Постепенно беседа переросла в дискуссию, а затем в жаркий спор, закончившийся взаимными пощечинами и вызовом на дуэль. Примирить дам не удалось, и поединок на шпагах, произошедший тут же в саду, закончился ранением Дашковой в плечо.

Если мужчины традиционно дрались на природе, предпочитая
пистолеты, то россиянки сводили счеты на шпагах не выходя из дома. Существовали
даже светские салоны, которые славились именно дамскими поединками. Так,
в салоне госпожи Востроуховой, если верить сплетням, только в 1823 году
произошло 17 женских дуэлей.
Любопытные записки о поединках россиянок оставила французская маркиза
де Мортене: «Русские дамы любят выяснять отношения между собой с помощью
оружия. Их дуэли не несут в себе никакого изящества, что можно наблюдать
у француженок, а лишь слепую ярость, направленную на уничтожение соперницы».
Возможно, со стороны виднее, тем более, что в её родной Франции в этот
период женщины дрались обнаженными до пояса, что выглядело, наверное,
действительно изящнее. А про «слепую ярость» оставим на её совести, ведь
смертельные исходы в российских женских дуэлях были крайне редки.
Любопытно, что русская литература и живопись обходят женские дуэли молчанием, тогда как в Европе им посвящали романы и картины. Наибольшую известность получило полотно «Женская дуэль», созданное испанцем Хосе де Риверой в 1636 году. Бывающие в Испании могут увидеть его в мадридской галерее «Прадо». Сама дуэль произошла задолго до создания картины. В 1552 году неаполитанки Изабела де Карацци и Диамбра де Петтинелла, претендовавшие на любовь молодого повесы Фабио де Зересола, решили выяснить отношения путем поединка на мечах. Неаполитанские мечи были ненамного тяжелее шпаг, и многие дамы искусно ими владели. В то время дамский поединок был экзотикой, поэтому молва о нем сохранилась надолго, подсказав художнику сюжет картины.
К моменту написания картины европейки уже вовсю выясняли отношения с оружием в руках. Живи художник во Франции, он бы, наверное, избрал другой сюжет – дуэль маркизы де Несль и графини де Полиньяк, произошедшую осенью 1624 года. Особенностью этой дуэли было то, что дрались женщины из-за кардинала Ришелье, только что получившего пост первого министра короля. Наверное, святостью кардинал себя особо не утруждал, так как дуэль стала результатом явно не теологических споров. Хотя женщины и выбрали для выяснения отношений пистолеты, дуэль завершилась малой кровью – графиня несильно ранила соперницу в плечо. Но, видимо, этот поединок потешил тщеславие кардинала, что он даже упомянул его в своих записках. А подробности этой пикантной истории еще долго смаковались в аристократических кругах Парижа.
Дамы столь привыкали к оружию, что даже позировали художникам со шпагами в руках. На картинах Жана Беро элегантные француженки держат шпаги так непринужденно, как будто оружие является обычным аксессуаром дамского наряда, как, например, веер или зонтик. Некоторые дамы до такой степени осваивали искусство фехтования, что начинали вызывать на поединки мужчин. Наибольшую известность получила мадемуазель де Мопен, проведшая несколько успешных дуэлей с мужчинами. Её реальные похождения положил в основу своего романа «Мадемуазель де Мопен» писатель Теофиль Готье. Роман написан увлекательно и стоит того, чтобы его прочитать. В наши дни описания женских поединков в СМИ не редкость, но в подавляющем большинстве это обычные бытовые драки и поножовщины, не имеющие ничего общего с дуэлями.
Текст: Владимир Рогоза
Источник: http://www.botinok.co.il/node/54804
Луиза Казати
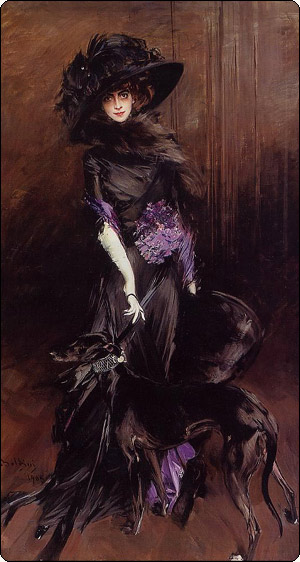 |
|
Неистовая маркиза – это романтизированная биография маркизы Луизы Казати, чья экстравагантность была притчей во языцех, и мало кто догадывался, что это способ изживания детских комплексов робкой дурнушки из богатой семьи. Став взрослой, эта итальянка изумила Европу необычной (подчёркнутая стройность, огромные подведённые глаза, и копна рыжих волос) и пристрастием к монохромной гамме в нарядах и интерьерах (даже собак и кошек она подбирала под цвет гостиной и платьев). Её имя приянто называть в одном ряду с Габриэле Д Аннуцио, Сергеем Дягилевым, Львом Бакстом, Айседорой Дункан, Вацлавом Нижинским. Издание выполнено во вкусе самой мвркизы – мелованная бумага, лаковый узор на обложке, роскошные иллюстрации.–Le Figaro Madame (Россия)
«Хочу стать живым шедевром», - ещё в молодости заявила Луиза Казати, и у неё это отлично получилось. Живя то в Венеции, то в Риме, то в Париже, то на Капри, маркиза только и делала, что эпатировала публику: коллекционировала дворцы, выгуливала на поводке гепардов, обожала змей, спускала целые состояния на роскошные пиршества. Её боготворили Д’Аннуцио и Дягилев, Пуаре, Бакст и Эрте шили для неё наряды, Больдини, Мартини, Ван Донген и Сулоага писали портреты, Мэн Рей, Битон и де Мейер запечатлевали на фотоплёнке пронзительный взгляд её огромных глаз…Это первая книга о легендарной маркизе, вышедшая на русском языке.
Не было в истории женщины удивительнее маркизы Луизы Казати – поскольку вся жизнь её была один большой спектакль, который она с настойчивостью до самой смерти продолжала; один большой, как бы сейчас сказали, перфоманс, удивительное представление, для которого она старательно создавала костюмы и оформляла интерьеры, что в итоге стоило ей состояния, и умерла маркиза в нищете. Однако, к её образу дизайнеры и художники возвращаются по сю пору. Каждый модельер с образованием (а в случае с Европой и без образования) слышал о Луизе Казати и знает, что густо обведённые чёрным, огромные глаза, бледное вампирье лицо и волосы а ля медуза Горгона – это она. В 70-е годы о ней активно снимали кино: самый известный фильм назывался «Время покажет», где играла Лайза Миннелли и Ингрид Бергман. Издательство «Слово» выпустило книгу "Неистовая маркиза".
Судьба легендарной Луизы Казати» с шикарными иллюстрациями (наверное, нет такого человека на земле, не считая политических лидеров, которого бы так часто рисовали). Родилась в богатом и благородном семействе, красотой особенной по молодости лет не отличалась, была отдана замуж за красивого, беспечного отпрыска столь же благородного семейства, родила дочь, познакомилась с французским писателем Габриэле д’Анунццио, и тут, что называется началось. Ну, для начала мужу она изменила, а потом стремительно начала менять себя. Она стала произведением искусства – таким, какой её, казалось, видел любовник. И стала такой, какой её даже эсцентрик д’Анунццио не мог вообразить. Она купила венецианский палаццо, которое почти разваливалось и начала вкладывать в него невероятные средства: за стенами, которые, казалось, готовы были обвалиться, всё сверкало неимоверной роскошью: канделябры из мастерской знаменитых стеклодувов, подсвеченные изнутри алебастровые вазы с цветами из слоновой кости, стаи белых павлинов и дрозды-альбиносы в роскошном саду – Луиза специально выдержала всё в чёрно-белом цвете, а один раз наделала шума, выкрасив свою гондолу в белый цвет, вопреки городским правилам. Из Рима привезли её чёрных и белых борзых.
Просторный сад наверняка порадовал их больше, чем соседи – пара гепардов: Луиза стала появляться на веранде с пятнистыми хищниками, которые сопровождали её и в прогулках по лагуне. Вдобавок она наняла себе экзотического слугу – исполинского негра по имени Гарби. Он стал одним из главных действующих лиц в карнавалах, которые она устраивала. А карнавалы она любила, всякий раз заказывая для них костюмы знаменитому Льву Баксту, ни много, ни мало. Внешность маркизы с годами становилась всё более шокирующей: оттенок пудры был всё более мертвенным, изумрудные, обведённые угольно-чёрными кругами (до бровей) глаза, пугали. На веки Луиза накладывала индийскую тушь и наклеивала тонкие полоски чёрного бархата. Длина её накладных ресниц год от года увеличивалась; пламенные губы могли поспорить с геенной огненной откуда она, по мнению многих и появилась. Из многочисленных источников известно о необычных ночных прогулках маркизы: накинув меховой палантин на голое тело, она расхаживала по площади Сан-Марко со своими гепардами в бриллиантовых ошейниках. Сзади шествовал мавр с двумя горящими факелами, освещая эту потрясающую картину для публики.
Источник: http://www.marchesacasati.com/russian_edition.html
Тереза Юмбер
Тереза Юмбер (Therese Humbert) была прачкой в доме мэра Тулузы, однако все горожане знали, что она голубых кровей, что рано или поздно правда восторжествует и ее отец вернет их родовое поместье. Отец Терезы настолько уверенно говорил об этом, что ему охотно ссужали деньги в счет будущих доходов от поместья, а его дочь в конце концов женила на себе сына мэра. В 1874 году отец Терезы умер, но в старинном сундуке, где якобы хранились бумаги, доказывающие его дворянское происхождение, не оказалось ничего, кроме обыкновенного кирпича. Старик обладал своеобразным чувством юмора.

В семействе мэра невестке-бесприданнице устроили скандал. Однако Тереза не растерялась и поведала другую историю. И вовсе фантастическую по сравнению с историей ее отца, но Терезе, как ни странно, поверили. Она рассказала, что получила наследство от чикагского миллионера Роберта Генри Кроуфорда (Robert Henry Crawford). Он якобы ехал в поезде, неожиданно почувствовал себя плохо и помер бы, если бы не Тереза, оказавшая ему первую медицинскую помощь. Миллионер благополучно вернулся в Штаты, где все-таки скончался, но перед этим завещал свое состояние отзывчивой французской девушке. Ценные бумаги — облигации и боны — якобы лежат в личном сейфе Терезы, но по условиям завещания чикагского миллионера реализовать их можно только по достижении Терезиной сестрой Мари 21-летнего возраста (Мари тоже была в том поезде).
Под это завещание, которое никто не видел, Тереза получила практически неограниченный кредит во французских банках. Пользовалась она им без стеснения — ее задолженность только одному из лилльских банков достигла 7 млн франков. А когда лионский банкир Делатт (Delatte) отправился в Бостон, где, по словам Терезы Юмбер, жили племянники покойного чикагского миллионера, выяснилось, что ни в Бостоне, ни в Чикаго ни о каком Роберте Генри Кроуфорде и слыхом не слыхивали. Однако донести свое открытие до французских соотечественников лионский банкир не успел, потому что его труп со следами насильственной смерти выловили из нью-йоркской Ист-Ривер.
Между тем 21-я годовщина со дня рождения сестры приближалась, и Терезе надо было придумать себе новый источник доходов. На этот раз она решила не врать, а просто зарегистрировала страховую компанию Rente Viagere, которая гарантировала вкладчикам именно то, что стояло в названии компании, а именно пожизненную ренту. По идее, страховые компании такого рода, собрав деньги с вкладчиков, пускают их в оборот и получают прибыли. Но Тереза, поставив в качестве зицпредседателей Rente Viagere своих родных братьев Эмиля и Романа, и не собиралась заниматься инвестициями. Она просто строила то, что сейчас называют “пирамидой”. Причем строила ее основательно — Rente Viagere продержалась на плаву 20 лет. За это время провинциалка Тереза превратилась в Большую Терезу (La Grande Therese), парижскую светскую львицу, перед которой стелились банкиры и политики, желавшие вложить свои деньги в ее сверхдоходную Rente Viagere.
Однако все имеет свой конец. Один из управляющих Банка Франции Жюль Виза (Jules Bizat) увидел, что пирамида Терезы своими размерами угрожает финансовым кризисом национального масштаба, и доложил об этом премьер-министру Пьеру Вальдек-Руссо (Pierre Waldek-Rousseau). Премьер не мог открыто выступить против мадам Юмбер (тогда кризис разразился бы точно) и велел опубликовать серию разоблачительных статей в газете “Матэн” (Matin). В ответ адвокат Терезы мэтр Дюбуи (du Buit) пообещал прилюдно открыть сейф в спальне мадам Юмбер, чтобы все убедились в чистоте помыслов его патронессы. Демонстрация содержимого сейфа была назначена на 8 мая 1902 года.
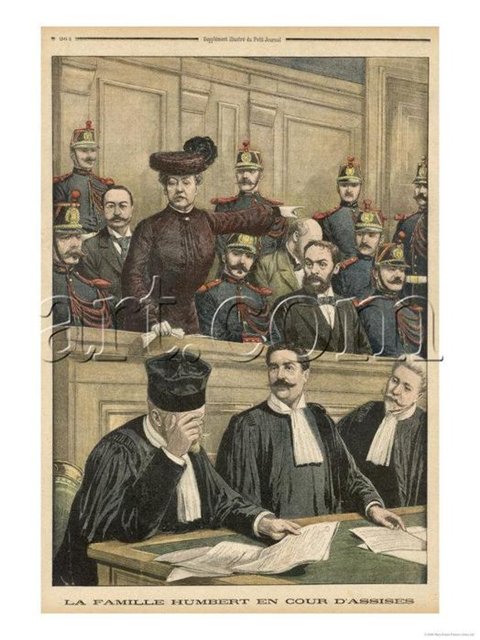
За два дня до назначенной даты дом мадам Юмбер сгорел дотла. Невредимым остался лишь сейф из ее спальни — он был несгораемым. А следующей ночью Тереза со всем своим семейством исчезла из Парижа. Однако семь месяцев спустя ее арестовали в Мадриде, привезли обратно и отдали под суд. Большая Тереза села на пять лет в тюрьму. А ее открытый сейф выставили в витрине одного из магазинов на парижской рю Бланш (rue Blanche). По свидетельствам современников, перед витриной было не протолкнуться. Сейф был пуст, лишь на дне одиноко лежал кирпич.
В 1983 году о ловкой аферистке снят фильм с Симоной Синьоре в главной роли.

Источник: http://botinok.co.il/node/50112
Донна Риид
Если бы она была жива – Америка пышно отметила бы
ее день рождения на этой неделе. Но ее нет. Её жизнь продолжается сегодня
в фильмах, что не сходят с экрана, в четырех детях, в памяти зрителей.
А их были миллионы.
Нам хорошо знать ее имя, потому что она первой в Голливуде – белая американская
католичка – выступила в поддержку Израиля, как только он был создан. В
первом американском фильме, посвященном антисемитизму в Америке - «Большой
миг» (Big moment) она сыграла жену мятущегося американца, не способного
принять решение - ехать или не ехать в новорожденную страну Израиль. Она
– звезда и красавица Америки – вставала во весь рост на экране и говорила:
«Поехали». И авторы – честь им и хвала – так и не давали окончательное
вопроса на ответ, кто же она по национальности… Её героиня. Она была еврейской
женой. Поверьте, согласиться на эту роль - это был ПОСТУПОК. Потому что
не об антисемитизме Голливуда той поры я намерена говорить, а о ней.

Американцы произносят её имя протяжно: «Ри-и-ид». И те, кто понимают, расплываются в благостной улыбке: да-а-а, было время, когда это имя знали все. Хрупкая, изящная, лёгкая, подкупающая искренностью и чистотой улыбки, – она навсегда останется загадкой, которую не разгадать. Под этим именем, которое ей придумали в тридцатые годы прошлого века на студии «мистера Мейера», как называла она его, актриса вошла в сонм кумиров Голливуда.
- Родители её – мои бабушка и дедушка, назвали маму, когда она родилась, Донна Белл, - рассказывает дочь актрисы Мэри Анна Овен. - Фамилия была Муллинжер, что для Голливуда совершенно непроизносимо. Она родилась 27 января 1921 года неподалеку от города Денисон в штате Айова. Родители ее – мой дед Вильям Муллинжер и бабушка Хэйзел Шайвз - были обыкновенные белые законопослушные фермеры. Выращивали, что росло на земле, ухаживали за скотиной и учили тому же своих пятерых детей. Когда маме пришла пора идти в школу, её отвели в какой-то маленький класс, где было всего 12 детей в однокомнатной деревенской школе. А когда ей исполнилось 13 и настала пора хай-скул, - ее перевезли к ее бабушке Мэри Муллинжер в Денисон – ближайший город с населением 4 тысячи человек.
Это было огромным событием для мамы. Как пишут ее биографы, - застенчивый тинейджер – она плохо переносила большое скопление людей. Один из её учителей, Эдвард Томпкинс, вспоминал, как старался помочь ей выбраться из скорлупы. Он дал ей книгу «Как завоевать друзей» и посоветовал записаться в драмкружок. Донна последовала совету учителя и вскоре стала любимицей школы. А ближе к выпускному сыграла в школьной пьесе главную роль и единогласно была избрана Королевой Кампуса. Мама спокойно отнеслась к этому и после конкурса вернулась к своей обычной жизни - в огород, к корове, доить которую была ее обязанность, к лошадям и пони, за которыми ухаживала. И к младшим двум братьям и сестре. Вторая сестра – Карен – родилась, когда мама покинула родительский дом.
- Я читала, что Донна мечтала найти работу секретарши,
чтобы собрать деньги на колледж и выучиться на школьную учительницу.
- Да, она готова была на все, лишь бы получить образование, но это были
годы депрессии, ферма не приносила дохода. Как раз в это время её тётка
Милдред - сестра отца, что жила в Калифорнии, - написала, что городской
колледж Лос- Анджелеса предлагает хорошие бизнес-курсы за небольшую плату.
Донна сложила свои пожитки и в сентябре 1938 года прибыла в Лос-Анджелес.
Ей было семнадцать лет.
- Как она попала на киностудию?
- В Лос-Анджелесе ежегодно проходит Парад роз, и на этом параде она представляла
свой колледж и снова была избрана Королевой. «Лос-Анджелес Таймс» традиционно
печатает фото красавиц этого парада. Фотографию увидели в Голливуде, и
маму пригласили на интервью. Ну, а когда ее увидел сам мистер Мейер, он
приставил к ней своего лучшего «коча» (тренера!) по актерскому мастерству
- я звала ее теткой потом… Маленькая еврейка из Венгрии – легенда голливудского
закулисья, первый советник Мейера в подборе звезд, Лилиан Сидни стала
на долгие годы советником и другом Донны. А тогда 17-летней девчонке она
помогала совершенствовать пластику, речь, а самое главное – не бояться
смотреть широко открытыми глазами – так они были прекрасны и выразительны.
И Доннечка, как называла её Лилиан, потрясла её талантом и трудолюбием.
Ей создали образ неизвестно кого и придумали имя…
- Страшно представить, каким успехом она должна была
пользоваться в Голливуде. Как ей удалось уцелеть?
- Во-первых, крестьянский характер и прочная основа, заложенная родителями,
пуританская система ценностей, а во-вторых, она вскоре вышла замуж за
художника Вильяма Таттела, который боготворил ее и оградил от поклонников.
Он умер в минувшем году, и мне очень жаль, что я не встретилась с ним…
Потом Студия Метро Голдвин Мейер – МГМ - подписала с ней контракт и поработила
ее. Я смотрю фильмы тех лет с ее участием и думаю, как она должна была
страдать, играя какие-то маленькие роли в однообразных картинах, переходя
с одной съемочной площадки на другую.
- И все же список лент, в которых она занята, ошеломляет!
- Да. Прекрасный американский исследователь Бренда Скотт Ройс сложила
книгу, которую назвала «Донна Риид. Био-библиография», в которой коротко
перечислила все известные ленты с участием Донны Риид и награды. Получилось
140 страниц.
- Я знаю ковбойские ленты предвоенных лет, и всегда
диву давалась, как Донна ловко сидит в седле. Я была уверена, что это
голливудский тренинг…
- Нет, это осталось от фермерского детства, где верховая езда была нормой
жизни, забавой. А роли смазливой спутницы героев-ковбоев удручали ее до
такой степени, что Донна чувствовала себя глубоко несчастной. Сохранились
письма, в которых она писала, как она страдает от того, что ее роли не
значимы и не важны ни для сюжета, ни для нее, ни для зрителя.
- А я очень люблю «Портрет Дориана Грея»…
- Трудно сказать, как сложилась бы ее карьера, если бы не мой отец. Голливудский
агент Энтони Охштейн, сефардский еврей, который скрывал своё еврейство
под псевдонимом Тони Овен. Всегда улыбающийся, веселый, душа любой компании,
он увел маму у мужа-художника. Я нашла в одном письме невероятное признание:
«Я буду одинаково несчастна – если выйду за него замуж и если не выйду»,
написала она своей подружке. Это был правильный союз: Антони знал, ЧТО
надо делать, а Донна знала, КАК.
На смену легкомысленным голливудским тридцатым пришли умудренные горьким опытом сороковые. Голливуд замер на какое-то время, а по окончании войны ожил и загудел, как разбуженный улей. О страшной нелепости маккартизма, когда творцы Голливуда принялись доносительствовать и уличать друг друга в симпатиях к коммунизму, написано достаточно. Я смею полагать, что именно унизительные допросы, аресты, слушания и подслушивания, которые разбросали сценаристов и режиссеров взрывной волной подальше от студий, стали причиной того, что Тони Овен покинул студию и страну, на несколько лет отправившись в Англию. А настоящую фамилию и еврейство тщательно скрывал до конца своих дней. Вскоре в Голливуде накопилось недовольство студийными законами, и люди стали объединяться в независимые от студий группы. Режиссер Фрэнк Капра первым в истории Голливуда решил на свои собственные деньги и деньги друзей снять первый независимый от Мейера и Голдвина фильм. Он основал студию Liberty Films и пригласил в партнеры Джорджа Стивенса и Уильяма Уайлдера. Они хотели снимать серьезные и одновременно трогательные фильмы. У Донны Риид был контракт с МГМ и он не позволял работать на стороне. Тони Овен решил вмешаться. Сразу после того, как прочел сценарий, который предлагал Капра.
«Эта прекрасная жизнь»
Так назывался сценарий, который родился из сюжета рождественской открытки,
по которой писатель Ван Дорен Стерн написал рассказ "Величайший дар".
Кино начиналось на небесах и равного по прелести и ясности зачина я не
знаю в истории мирового кино: на черном поле темного экрана помигивала
звезда, и говорила человеческим голосом. И это был голос Бога. Воистину:
«В начале было Слово, и слово было у Бога». Бог Фрэнка Капры смотрел на
землю и призывал ангелов немедленно спуститься с небес, чтобы остановить
на земле отчаявшегося человека. Откликался один старый Ангел, который
вместо того, чтобы безропотно подчиняться Богу, начинал склочно торговаться
и требовать себе за труды… крылья. На черном фоне начинала помигивать
вторая звезда… Бог соглашался и принимался инструктировать Ангела. И весь
фильм был рассказом БОГА о человеке. Бог рассказывал бескрылому Ангелу
Второго Разряда историю Джорджа Бейли, жителя небольшого городка. Бейли
был настолько удручен бесчисленными проблемами, что принимал решение о
самоубийстве и Ангелу требовалось остановить Бейли…
На роль Бейли Фрэнк Капра пригласил никому кроме солдат американской армии не известного настоящего бригадного генерала, прошедшего всю войну, Джеймса Стюарта. Он был и остался первым и единственным в истории Голливуда военнослужащим такого высокого ранга, пришедшим на съемочную площадку. По-божески простой, по-ангельски понятной предстает на экране жизнь Бейли с самого детства. Мы узнаем, что он всегда хотел уехать из родного города, чтобы повидать мир, но обстоятельства не дали ему покинуть провинциальный городок. Джордж Бейли, владелец небольшой страховой компании, честный, отзывчивый, любящий муж и отец, пожертвовал собой ради образования брата, он копил каждый цент, чтобы поддержать на плаву семью, брал взаймы, защищал городок от злого банкира Поттера (Лайонел Бэрримор), женился на девушке, которую любил с детства (Донна Риид) и содержал и эту семью. И вот финал: злые люди и силы победили, он обманут, оклеветан, обобран до нитки и жить ему больше смысла нет…
Бог пунктирно набрасывал жизнь славного мальчика Бейли,
который по бедности рано начал работать – помогать старому Аптекарю. Заметил,
когда старик по ошибке подмешал в лекарство не тот компонент, и тем самым
спас и пациента от смерти, и аптекаря от тюрьмы. В другом случае он катался
с горки с мальчишками и спас младшего брата – вытащил из полыньи, куда
тот провалился. Это всё было замечено на небесах…
Тем временем на экране - Ангел спускался с небес в районе моста через
реку, и зяб в ожидании Героя, который вот-вот придёт топиться.
Красивый мистер Бейли – любящий муж и отец оравы детей – на глазах зрителя
терял чек на смешную по нынешним временам сумму в 8 тысяч, впадал в отчаяние,
грубил самой красивой жене на свете, обижал детей, которые наряжали елку
и готовили ему подарки, хлопал дверью, уходил в кабак, напивался с горя,
садился пьяным за руль, врезался в дерево, но оставался жив, и тогда в
полном отчании выходил на мост…
Авторы не позволили мистеру Бейли броситься с моста – его опередил старый
продрогший Ангел: он первым сигал в воду зимней реки перед носом отчаявшегося
героя, и принялся верещать:
- Помогите!
И жертвенный мистер Бейли прыгал. Еще в отчаянии, с нужного
моста, но уже – СПАСАТЬ другого. И тем - спасал себя.
Несостоявшийся самоубийца спасал второразрядного бескрылого Ангела Кларенса,
вытаскивал его на берег и в какой-то сторожке охранника под печкой они
оба сушили нижнее белье… «Эпохи Наполеона», как бесхитростно объяснял
Ангел, увидев недоуменный взгляд Бейли, которым тот окинул рюшики на его
исподнем. Мужчины знакомились. Бейли мрачно выпытывал, откуда Кларенсу
так много известно о нем, а тот прямодушно представлялся его персональным
Ангелом-хранителем.
- А где ж твои крылья? – щурился Бейли.
- Вот за ними я и прилетел! – радостно пояснял Кларенс.
Этого одного было бы достаточно, чтобы сделать добрую
сказку про рождественские чудеса. Но не только человек тут творил сценарий
- человек водил пером по бумаге, но у него явно был Соавтор, а потому….
Мистер Бейли ронял от досады страшные слова о том, что лучше бы ему было
не родиться. И тогда Ангел вел его по городу и приводил… на могилу младшего
брата Бейли, который погиб в той давней полынье, потому что Бейли его
НЕ спас, так как НЕ родился. Устраивал свидание с Аптекарем, который провел
жизнь в тюрьме, так как неверно смешал лекарства и его пациент умер… И
Бейли в ужасе застывал. Тут-то Ангел с укором указывал ему на то, что
ТАКАЯ прекрасная жизнь, как его, могла и не состояться… Так медленно герой
Бейли прозревает, как трезвеет, к концу фильма, и узнает, какой великий
сюрприз дарован нам небесами: наша собственная священная жизнь. Он бежит
домой и успевает помириться с красавицей-женой и детьми до конца фильма
и до первой рождественской свечи на елке…
Он провалился в прокате – этот великий фильм в далеком 1947 году.
Сегодня американцы хранят, как талисман и передают новым поколениям -
и саму ленту и традицию: в ночь перед Рождеством смотреть этот фильм.
Дома по ТВ, или в кинотеатре. Всей семьей они усаживаются с детьми и внуками
перед экраном и дружно плачут 60 лет спустя после премьеры.
- Как мама относилась к картине «Эта прекрасная жизнь»?
- Для нее фильм навсегда остался важным событием и в личной, и в профессиональной
жизни. Она говорила, что эта роль была самой трудной из всего, над чем
ей приходилось работать, но наряду с этим она принесла ей самое большое
удовлетворение. И нашел эту роль мой отец. Они только поженились и он
подбил ее попытать удачи в независимом кино.
- Ей пришлось расторгнуть контракт?
- Ему удалось договориться, что МГМ даст маму «взаймы» Фрэнку Капре… Роль
Мэри Бейли стала для мамы первой главной ролью в игровом кино. В 25 ей
предстояло сыграть героиню от 18-летней девушки до 40-летней женщины –
жены и матери большого семейства… Она была влюблена во все перипетии,
которые сулила ей эта роль, плюс – события развивались в провинциальном
городке и фильм давал ей возможность наполнить эту роль собственными знаниями
о жизни провинции на инстинктивном уровне… В анналы истории кино вошло
предание о том, как в сцене, где Донна Рид должна была запустить камень
в окошко дальнего дома, Капра заранее призвал специального человека, который
бы по сигналу разбивал стекло. А к великому удивлению группы, прекрасная
хрупкая Донна с первого раза попала и сама расколошматила камнем окно
без посторонней помощи. Ходили легенды о съемке сцены с поцелуем у телефона…
Они оба – Франк Капра и Джимми Стюарт - провели пять лет на фронте, только
пришли с войны и для обеих это был первый фильм после победы. Стюарт почему-то
не хотел вообще играть эту сцену…

- Не хотел целоваться с Донной?
- Да. Капра спрашивал каждый день - готов ли ты, а Стюарт говорил «нет».
Наконец, они оба пришли к маме и спросили, что думает она об этом поцелуе.
Она тут же согласилась и без единой репетиции они сняли сцену с поцелуем
с одного дубля. Но когда Капра восторженно крикнул «кат» - снято, - такой
наблюдатель за тем, чтобы все следовало по сценарию, сказал: «одну минуточку,
тут осталась несыгранной сцена - целых пол-страницы диалога»… Им следовало
сказать что-то про рождественский пирог… В общем, так эти пол-страницы
и пропали с этим поцелуем… И еще, конечно, КОРОВА… Мама любила вспоминать,
как однажды в перерыве между съемками возник разговор, где она обронила,
что росла на ферме. Кто-то услышал, сказал другому, тут же завязался спор
и старый актер - Лионел Барримор - отказался верить тому, что Донна -
фермерская девчонка. Пошли за ней. Она подтвердила ему лично, - что да,
что она еще была и старшей в семье, где было пятеро детей, и наравне с
родителями делала всю работу на ферме. Барримор, который категорически
отказывался верить, сказал, что он спорит на полсотни - после войны это
были деньги! – что она не сможет подоить корову. Мама сказала, - спорим!
Кто-то из съемочной группы отправился на поиски коровы. И, представьте,
нашел и привел корову прямо на съемочную площадку. И красавица-мама, конечно
же, совершенно спокойно села и подоила корову на глазах у съемочной группы…
Все были в шоке. А мама всегда говорила, что это были самые легкие полсотни,
которые она заработала в своей жизни.
- Опыт, приобретенный в независимом кино, когда-нибудь
пригодился маме?
- Конечно: ровно через десять лет после съемок Капры папа и мама сами
основали собственную независимую кинокомпанию и начали производство «Донна
Риид Шоу». Сохранилось письмо мамы к ее подружке по переписке, датированное
11 марта 1946 года. «Только что закончили съемки фильма с Томом Дрейком,
и я ухожу на картину «Эта прекрасная жизнь», где буду несколько недель
работать в паре с Джеймсом Стюартом (это его первая роль после войны).
Это будет мой большой шаг вперед, как я думаю, и Тони и я очень рады.
Пока что мы, как муж и жена, справляемся без сложностей с двумя кинокарьерами
в одной семье. Он прекрасный парень и это действительно прекрасная жизнь!»
- Вы родились одиннадцать лет спустя после фильма. Когда вы впервые увидели
фильм?
- Мой лучший друг Тимоти потащил меня в кинотеатр «Нуар» в Санта-Монике.
«Нуар» был арт-хаусным кинотеатром и вообще единственным местом в Лос-Анджелесе,
где можно было посмотреть независимое кино. Я до сих пор в восторге от
того, что впервые увидела фильм на большом экране, а не по телевизору.
Мне было двадцать…
- Невероятно!
- Тогда не было никакой аппаратуры – ни кассет, ни дисков… Конечно, у
нас дома был свой просмотровый зал и проекционное оборудование. Дома смотрели
кино – папа любил собирать друзей, но смотрели только новые – только что
законченные фильмы.
- И никто никогда не показал вам мамин фильм?
- Мама всегда старалась сохранить свою личную жизнь личной и в семье её
работа не обсуждалась. И так же она не получала никакого удовольствия
от того, чтобы сидеть и смотреть на себя на большом экране. Она очень
критично оценивала все в картинах и часто отмечала детали, которые ей
не нравились, но – нравились другим – сценаристам, режиссерам, руководству
студии… Есть фильмы, в которых даже я помню, что было два финала и снимались
оба, а потом – оставался тот, который нравился руководству, но не маме…
- Вы помните свои ощущения после первого просмотра?
- Первая реакция была шок: какая же молодая она была в ту пору! И как
она была прекрасна! От неё исходило сияние… Она была любящей и ждущей…
И не теряла надежды помочь Джимми Стюарту…
- Насколько характер Мэри Бейли на экране был близок маминому?
- Очень близко. Мамина интеллигентность, терпение и совершенно органичная
природная красота…
- А кто был ваш любимый киноактер в ту пору?
- В мои двадцать мы все обожали Джуллию Кристи, которая играла русскую
- знаменитую Лару из «Доктора Живаго». Ее красота тоже была совершенно
природной…
- Сколько вам было, когда вы узнали, что ваша мама –
кинозвезда?
- Не задумывалась… Это достаточно странно, но где-то до моего тинэйджерства…
Мама начала работать над «Донна Риид Шоу», когда мне исполнился год. Они
с папой делали эту телепрограмму почти десять лет. Она играла жену-домохозяйку
среднего Запада. Её муж – по сценарию – был детский врач-педиатр, который
принимал на дому. По сюжету к моменту выхода шоу в эфир они были уже 15
лет как женаты… У них было двое детей – мальчик и девочка. И позже – по
сценарию, когда дочь выросла и уехала учиться в колледж, они удочерили
еще одну маленькую девочку… Так что, отвечая на ваш вопрос, я могу сказать,
что я была ребенком, когда родители были заняты этим шоу… А семья собиралась
вместе только в четверг вечером, когда мы садились смотреть «Донна Риид
Шоу». И я считала, что мама не звезда, а просто – работает на телевидении.
И однажды в мои 13-14, когда мы все были влюблены в Уорена Битти, мы вошли
с мамой в какой-то ресторан поесть и он вскочил, увидев её, бросился к
ней и я потрясенно спросила её: «Ты знаешь Уорена Битти?» И мама рассмеялась,
представила меня ему и как-то так сказала, что да, но не она, а они все
знают её… Но чтобы быть совершенно объективной, признаюсь, что рассматривать
ее, как отдельного человека, актрису, а не маму, я стала много позже.
И была страшно счастлива узнать, как мама талантлива.
- Когда фильм «Эта прекрасная жизнь» стал обязательным
атрибутом празднования Рождества?
- В начале восьмидесятых фильм его стали крутить снова и снова. Иногда
даже казалось, что уже многова-то… (ту мач!) Наконец, кто-то сообразил,
что нужно прекратить крутить это в течение года и давать раз-другой только
в Рождество. Так родилась традиция. И где-то в начале девяностых я ощутила,
что Рождество не полно, если телевизор не показывает «Эту прекрасную жизнь»…
вне зависимости от того, смотришь ты это или нет, - фильм стал частью
праздника… Увы – к тому времени мои родители после 26 лет брака разошлись…
Помню, как однажды какой-то кусок мы смотрели вместе с мамой… фильм крутился
где-то там – в глубине дома – на втором плане, а на первом были мы – дети,
которые всегда собирались вместе на рождественские праздники. Мама прекрасно
помнила дословно некоторые сцены, но она никогда не была самовлюбленной
актрисой и никогда не выпячивала себя. Знаю, что незадолго до смерти она
получила письмо от зрителя, который написал ей в середине восьмидесятых
– сорок лет спустя после премьеры! – что он был на грани самоубийства,
но, посмотрев фильм, принял решение жить…
- Научил ли этот фильм вас чему-нибудь, помог ли он вам?
- Безусловно! Этот фильм дает надежду. Помню, как в первый раз, когда
я смотрела его на большом экране, он потряс меня очень сильным ощущением
того, как крепки демократические идеалы, даже в те шестидесятые давал
ощущение, что всякая личность – только часть чего-то большего… Он поддерживал
обычных людей и их систему ценностей. Когда я смотрю фильм сегодня, я
думаю, что мистер Поттер представляет корпоративные интересы, с которыми
мы имеем дело сегодня. Правда, сегодня я не уверена, что такие люди, как
герой Джимми Стюарта могут противостоять им, но надеюсь, что я не права…
- Вам дали имя Мэри в честь Мэри Бейли?
- Мне часто задавали этот вопрос… Нет, моё имя – в честь Мэри Мулленжер
– моей прабабушки.
- Фрэнк Капра признавался, что этот фильм - его самый любимый.
- Стюарт тоже говорил, что из всех своих работ в кино он больше всего
любит роль Джорджа Бейли. Два старых друга, они искренне горевали, что
фильм не был принят и понят ни зрителем, ни критиками. И свалили провал
на маму, поскольку для нее это был дебют в главной роли. Она никогда не
проронила ни слова об этой несправедливости. Только в 1966 году - 20 лет
спустя, когда она – звезда! - была приглашена на юбилей ленты, и критики
рассыпались в комплиментах ей, она с горечью сказала корреспонденту журнала
«Голливуд-репортер»: «Теперь все прекрасны, даже я, а двадцать лет назад
они обвиняли меня».
Картина выдвигалась на "Оскар" по пяти номинациям:
лучший фильм, актер, режиссер. И не получила в 1946 году ни-че-го. "Золотой
Глобус" за лучшую режиссуру иностранные журналисты присудили Фрэнку
Капра. А в 2004 году журнал "Таймс" провел опрос на тему "Лучшие
фильмы, которые не получили Оскара". "Эта прекрасная жизнь"
заняла второе место. На первом - "Побег из Шоушенка". Сегодня
- спустя 60 лет - фильм представляет феномен американской киноиндустрии:
он единственный из старых фильмов, который из года в год продается всё
большим тиражом.
- Знаете ли вы, что «Эта прекрасная жизнь» известна в Росии и ее можно
купить на русском языке?
- Понятия не имею об этом. Но мне приятно слышать что русские получат
из этого фильма весточку о том, что жизнь одного человека очень важна
для других людей и что Бог вместе с ангелами работает над тем, чтобы сохранить
жизнь каждого человека. Мама была бы счастлива слышать об этом, потому
что – я знаю это из семейных преданий – во время Второй Мировой она много
делала для поддержки американских солдат, которые были на стороне русских
в борьбе с фашистской Германией. После ее смерти мы нашли корбку писем
солдат с разных фронтов, которые писали ей и просили, чтобы она ждала
их… Или такая, как она…
- Неужели фильм не растащили на цитаты?
- Мне рассказывали, что ленту высоко ценил молодой Стивен Спилберг. И
когда он начинал делать свою картину «И-Ти» - о маленьком пришельце из
космоса, он собрал всех участников проекта и заставил их снова и снова
смотреть этот фильм, объясняя, что он хочет, чтобы его зритель испытывал
те же чувства при просмотре его ленты…
- Какая жизнь была после «Эта прекрасная жизнь»?
- Папа «вернул» маму студии МГМ, как обещал, но она решила расстаться
с ними. Ушла на «Коламбия Пикчерс» и там началась другая жизнь. В ту пору
с одного кадра можно было определить, кто делал фильм – МГМ или «Коламбия».
И в 1953 году вышел на экраны легендарный «Отныне и вовеки» ( From here
to eternity) режиссера Фрэда Зиннемана.
«Отсюда - в вечность» - дословно переводится название фильма, в котором
впервые на экран игрового кино были перенесены события военного времени:
последние мирные дни американских солдат, когда еще есть пиво в кружках,
девочки в борделе, пластинки для патефона, танцы, влюбленности, ревности,
шепотки сплетен, адюльтеры офицерских жен с рядовыми. Но уже рвался из
горла первый в истории кино крик женщины, умоляющей солдата не ходить
на войну…
«И остаться живым!» - кричит красивая Донна Риид.
А солдат – что-то бормочет про долг и уходит. Тут-то
и налетают бомбардировщики и он погибает на крупном плане. Худенький,
беззащитный, возлюбленный самой красивой женщиной на земле… Конец фильма.
В звездную команду входили Берт Ланкастер, Дебора Керр, Монтгомери Клиф
и Фрэнк Синатра. Донна Риид сыграла невероятную для себя роль – девушки
из публичного дома. Сценарий был крепко сколочен, как табурет. Точная
блестящая режиссура и превосходный актерский ансамбль увековечили роман
Джеймса Джонса о событиях на американской военной базе на Гавайях за несколько
месяцев до нападения японцев на Перл-Харбор.
Этот фильм до сего дня считается одним из лучших американских фильмов
50-х годов. Он был номинирован на 14 (четырнадцать!) «Оскаров», но получил
не все… Только ВОСЕМЬ: за «Лучший фильм», Зиннеманн - за режиссуру, Дэниэл
Тарадаш - за сценарий, Бернетт Гаффи - за операторскую работу, Джон П.
Ливадари - за звук, Уильям Лайон - за монтаж, а Фрэнк Синатра и Донна
Риид – за лучшее исполнение ролей второго плана. Плюс – «Золотой глобус»
1954 года тоже ушел Фрэду Зиннеману.
- И только наша семья знала, как Зиннеман, которому студия поручила снять этот фильм, боролся с двумя актерами, – рассказывает дочь Донны Риид Мэри Анна Овен. – Фрэнком Синатрой и Донной Риид. Зиннеман не хотел ни ее, ни его занимать в своем фильме, но победил Хэрри Конн – глава «Коламбия Пикчерс». Он настоял на том, чтобы именно эти актеры были заняты в фильме на этих конкретных ролях. Зиннеман подчинился, но уродовал сценарий и сцены уже на площадке. Я знаю по рассказам, как мама хотела эту роль, потому что это было нечто совершенно обратное тому, что она сыграла прежде. И Донна совершила поступок: на полях сценария она составила список поправок, которые внес Зиннеман в утвержденный сценарий и которыми она была недовольна, плюс – список своих предложений, как улучшить образ своей героини. И пришла к Хэрри Конну. Тот снова велел Зиннеману подчиниться и переснять все, как требует Донна… И - какая насмешка! – оба - и она, и Синатра получили за этот фильм «Оскар», как исполнители вторых ролей. Но – увы – после конфликта с Зиннеманом рассчитывать на следующую приличную роль было смешно. Потому в Голливуде с тех пор «Оскар» за исполнение «поддерживающей» роли – называют смертным приговором для актера или актрисы…

Счастливые стоят они на сцене вдвоем с Фрэнком Синатрой
в кадрах хроники 1953 года с золотыми куколками в руках, и изумленная
Донна произносит без бумажки: - «Осюда в вечность»… Как хорошо из вечности
вернуться сюда!..
И можно понять ее изумление: кроме конфликта с Зиннеманом, в числе претендентов
на этот «Оскар» была номинирована Грейс Келли! Но хроника сохранила кадры
того, как искренне Грейс аплодирует в зале, и Донна счастлива. «Оскар»
за главную женскую роль получила в тот вечер Одри Хепберн – за «Римские
каникулы».
Когда занавес закрылся, Уолтер Бренан, который вручал Донне статуэтку,
спросил за кулисами: - Зачем ты так быстро бежала? Можно было идти и помедленнее…
- Я бежала? – изумилась Донна. - Не может быть!
- Казалось бы – после «Оскара» - дорога открыта!
- Нет. Ни Донну, ни Синатру никогда больше не снимут в хорошей большой
роли. Потому «Оскар» за вторую роль считается с тех пор у актеров скорее
проклятьем, чем наградой. Думаю, именно это и произошло с мамой… И в 1955
году родители зарегистрировали собственную компанию, которую назвали «Тодон»
- по первым слогам собственных имен – Тони и Донна. Они сделали два фильма
в Калифорнии и один сняли в Африке. А в 1957 они решили попробовать себя
в новой незнакомой технике, которая называлась телевидение… Так родилось
«Донна Риид Шоу». Папа стал продюсером, а маме была отдана главная роль.
После СОРОКА фильмов, в которых Донна сыграла в Голливуде, она сделала
275 серий своей программы «Донна Риид Шоу». Еженедельно шоу почти десяток
лет выходило на экран, и не было в стране человека, который не знал Донну
в лицо. «Донна Риид Шоу» служило образцом для многих семей. И мало кто
знал, что соавтором сценариев и редактором зачастую тоже была она. Много
раз шоу было номинировано на «Эмми» и в 1963 году удостоено «Золотого
глобуса».
- Кто были сценаристы и режиссеры этого шоу?
- Очень много талантливых людей оттачивали свои зубы на этом шоу. Я помню,
Ида Лупино поставила несколько эпизодов. Барбара Аведон написала несколько
сценариев для этого шоу, равно как и для других ТВ-серий - все невероятно
удачные постановки. Но продюсер всегда был один – мой отец. Мама тоже
была продюсером, но без указания в титрах. Плюс – они, как независимые
производители, не обязаны были неукоснительно следовать указаниям профсоюза,
а потому приглашали к сотрудничеству многих занесенных в «черные списки»
писателей и режиссеров. Они пользовались золотым правилом: «Не спрашивают
– не говори». И не спрашивали, - запрещенный ты писатель или нет. Конечно,
все всё знали, а потому те, кому отец с мамой давали возможность заработать,
появлялись в титрах под вымышленными именами.
- Почему шоу кончилось, если оно было так популярно?
- Мама на самом деле готова была закончить его после пятого сезона, но
«Коламбия Пикчерс» вмешалась - пришла с предложением, которое нельзя было
не принять… И она отработала еще три сезона… После чего сказала – всё!
- За восемь лет уже выросли те дети, для которых она
была теле-мамой…
- Она была образцом не только для детей. Она безусловно создала образ
идеального материнства и, как говорили некоторые, образ материнства, совершенно
невозможного в реальной жизни… Но она сама говорила, что все шоу было
создано с мужских позиций: она была той, которую мужчина хочет видеть
в роли своей жены и матери своих детей… Когда я смотрю шоу сегодня, я
вижу ее думающей матерью. Она человек, который решает все проблемы в семье,
муж – второй человек. Он занят чем-то более важным. И особенно в первых
сериях я вижу, как сильна она и как… конфидент: это ее шоу, нет больше
никаких ограничивающих ее студий, есть она и ее собственный контроль.
И она контролирует всю ситуацию от начала до конца: как актриса, как бизнес-вуман
и как мать… двух семейств. Она смогла стать на экране мамой, которую хотел
бы иметь любой ребенок, и женой, которую хотел бы найти любой мужчина.
Но не только: с ее теле-сыном хотели дружить все мальчишки Америки, а
ее теле-дочь Мэри стала мечтой всех тинейджеров: девочки хотели походить
на нее, мальчики хотели в невесты такую…
- Было ли, чтобы Донна Стоун – героиня шоу – научила
вас чему-то, что Донна Риид – мама забыла вам сказать?
- Да. Как прекрасна может быть жизнь, когда у тебя есть мама, которая
всегда дома и доступна каждую минуту, в которую она тебе может понадобиться…
Временами казалось, что она уделяет своей ТВ-семье больше внимания, чем
нам – собственным детям… Она была очень близка со своей теле-семьей –
включая всю съемочную группу. Она выросла в семье, где было пятеро детей,
соседи называли ее «маленькая мама», и мне кажется, что она любила быть
занятой заботами о массе народа, который целиком зависел от неё…
- Зрители писали ей письма?
- Конечно. Она получала горы писем, у нее были толпы поклонников. Не знаю,
просили ли у неё какие-нибудь родители родительского совета, но она отсылала
массу подписанных фотографий в ответ, когда ее просили об автографе. Это
была моя работа в семье – помогать ей укладывать фотографии в конверты
и отправлять письма. Она получила массу наград от разных ассоциаций, которые
заботились о семье. От докторов… Была несколько лет подряд номинирована
на «Эмми», получила «Золотой глобус».
- А были ли противники у этого шоу?
- Представьте, да. Феминистки выступали против шоу очень активно, потому
что тот образ матери, который создала мама, их не устраивал. Они не понимали,
что мама была человеком, намного опередившим своё время. Прежде всего
потому, что это на экране она создала образ домохозяйки, а для нашей семьи
– она была день и ночь работающей мамой… Много лет спустя кое-кто из них
понял, что она была гораздо более активным борцом за права женщин, чем
те, кто призывал пренебречь материнством…
- А что она делала, когда закончилась работа над шоу?
- Шоу закончилось в 1966-м. Мои братья – два маминых сына – были призывного
возраста и должны были идти служить, когда во Вьтнаме вовсю шла война.
И мама приняла активное участие в создании организации «Еще одна мама
за мир» и выступала с речами на всяких митингах. Она расцвела во время
этой борьбы - она использовала всю свою власть и влияние, как актриса,
готовая служить своей стране. А дома было невесело: родители разошлись.
Папа женился на другой, а пять лет спустя мама вышла замуж за многолетнего
поклонника, четырехзвездочного генерала, героя войны в Корее и Вьетнаме.
Снялась в нескольких фильмах и была приглашена в невероятно популярный
тогда многосерийный телефильм «Даллас» на роль матриарха – главы большой
семьи. До нее в этой роли была Барбара Геддес. Там что-то случилось, Барбара
ушла, мама вошла в команду, а через год Барбара вернулась, и маму уволили,
нарушив контракт. Она судилась с ними и выиграла процесс. Это была очень
важная победа в истории Голливуда, но в душе она невероятно страдала…
И вскоре заболела и… умерла. Мне всегда казалось, что ее стремительный
уход и болезнь вызваны были склокой с продюссерской группой сериала «Даллас».
Они были ужасные, я знала их – немного работала у них. Это были хамы,
очень «орогант», как многие в Голливуде. И, конечно, после смерти папы,
мама была совершенно беззащитна перед ними. Папа всегда охранял ее…
В канун Рождества 1985 у Донны неожиданно обнаружили
рак поджелудочной железы в последней стадии и 14 января 1986 её не стало.
За две недели до своего дня рождения она покинула планету, оставив после
себя яркий след и свет. Я верю в Бога Кино и надеюсь, что Ангел Кларенс
встретил ее на небесах и распахнул свои крылья пошире, принимая Донну
в свои объятья.
После смерти мамы, дети выполнили ее завет: отвезли ее «Оскар» в Айову
в исторический музей города Деннисон. И там же основали «Донна Риид Фаундейшен»
– Фонд поддержки исполнительского искусства, который помогает стипендиями
детям, готовым пробовать себя на актерском поприще, и ежегодно летом дети
съезжаются на фестиваль, где с ними работают мастера.
- Ваше детство было похоже на детство героев телешоу?
- Конечно, нет. Я росла в Беверли Хиллз, как нормальный ребенок голливудской
звезды. Я младшая, поздний долгожданный ребенок. Моему отцу было 50, когда
я родилась. Наш дом в Беверли Хиллз был таким огромным, что когда я хотела
увидеть маму, мне нужно было звонить ей с одного конца дома на другой
по интеркому, чтобы вообще узнать – дома ли она… Конечно, во всех наших
домах были бассейны. И, конечно, у нас было всегда минимум две машины.
Отец был очень flashy, поэтому он разъезжал на Роллс-Ройсе. Компания Форда
обеспечивала машинами студию, потому дома всегда был еще Форд-стейшен-вагон.
Мама еще сделала пару реклам для Форда, где в одной из реклам были заняты
мы все – четверо детей. Поэтому «Форд» всегда был в семье. Еще было несколько
яхт, катеров. Яхты – это была настоящая страсть моего отца. Он любил рыбачить
и научил этому моего брата Тима. Мои самые любимые воспоминания связаны
с океаном, когда мы всей семьей уходили далеко в Тихий океан – так, чтобы
не было видно берега, чтоб не звонил телефон, чтобы никакие поклонники
не приставали и не просили автографов, - чтоб только небо и океан вокруг.
Папа и мама…
- Вас учили чему-то специальному - музыке-танцам?
- Поначалу - нет. Потом в колледже я занималась виолончелью и изучала
историю искусств, а в детстве – нет… Но к 12-ти годам лошади стали моей
первой настоящей любовью. Мама посадила меня на лошадь и учила верховой
езде. Она – при всей ее занятости, зачастую сама везла меня на тренировки,
которые были в получасе езды. Но в тринадцать я очень плохо упала во время
тренировки… Конь не слушался меня и не хотел брать барьер – доходил до
барьера и останавливался. Но тренер требовал, чтобы я заставила коня подчиняться…
И барьер он взял, но опустился чуть раньше на землю, задел стойку, упал
сам, придавил меня… Была тяжелая операция… С одной радостью: мама была
со мной и не отходила от меня… А дальше – все забылось, как положено в
тринадцать лет, и я снова вернулась в седло и занималась верховой ездой
до 18-ти… Конечно, у меня была моя собственная лошадь. Сеймур. И он спас
меня от всех ошибок юности… Подростки Беверли Хиллз – мои ровесники –
в это самое время много экспериментировали с алкоголем, наркотиками, а
я – с утра до ночи была занята на ипподроме лошадьми… И очень преуспела
в верховой езде. Так удачно совпало, что мамино детство тоже прошло с
лошадьми на ферме ее родителей и ей знакома была это земная привязанность.
Это папе всегда хотелось чего-то шикарного – дом поновее и побольше, последние
марки машин. А мама всегда очень гордилась собой, - что своим собственным
трудом могла заработать большие деньги.
- Мы сидим в нормальной нью-йоркской квартире… Как вам
живется жизнью обычного человека?
- Нью-Йорк всегда был мне интересен, и вот уже три года, как я переехала
и не устаю удивляться этому городу. Такого сочетания несочетаемого нет
даже в Лос-Анджелесе. И, конечно, я совершенно не представляла, как много
в Нью-Йорке русских… Я мало что знала о России, пока лет 20 тому назад
не увидела фильмы Сергея Параджанова и Андрея Тарковского. Они потрясли
меня навсегда – я никогда не видела ничего подобного. Ну и, конечно, абсолютным
шоком было для меня узнать, что Параджанов был осужден у вас за гомосексуализм
и провел много лет в тюрьме и лагере. А Тарковский, который потряс меня
незабываемыми кадрами – начиная от «Иванова детства» и кончая «Зеркалом»…
«Солярис» вообще один из моих самых любимых фильмов… Для меня было полным
ужасом узнать, что последние свои фильмы он сделал вне России, и вообще
- похоронен во Франции…
Тоскую ли я по большому дому в Беверли Хиллз, яхтам, машинам и лошадям? - Нет, на самом деле. Я стараюсь вести такой образ жизни, когда чем проще, тем лучше. Я никогда не смогу заработать такие деньги, как зарабатывали мои родители. И моя жизнь сегодня более насыщенна, чем всё мое детство в Беверли Хиллз. Всякий раз, когда я задумываюсь, что было бы, если бы я жила той жизнью сейчас, - я обнаруживаю, что я счастлива тем, что есть…
История Донны Риид совершенно невероятна.
Звезд такой божественной красоты, такого душевного склада и совершенного
дарования, признанного Киноакадемией, и такой дикой судьбы в Голливуде
нет, не было и не будет. Она позволила себе честно взойти на Голливудский
Олимп, устоять на нем, восстать против него, победить и сойти, не замаравшись.
Дорога, которую она проложила, заросла по ее следам.
Я перелистала много пожелтевших от времени газет - о ней нет ни одной
сплетни, ни одного «желтого» слуха, за чистотой Донны Риид не охотились
папарацци. В жизни и на экране она была равна сама себе, и осталась в
памяти зрителей невестой, возлюбленной, женой. Для многих юношей своего
поколения Донна Риид успела стать символом Родины. Я держала в руках письма
американских солдат Второй Мировой, написанные в окопах Второго фронта,
который Америка с опозданием открыла. И все солдаты хотели выжить, чтобы
вернуться… к ней. Или к такой, как она. Многие вернулись, но таких, как
она, - не было. Но более всего американскому зрителю она запомнилась матерью,
главой большой телевизионной семьи.
«Мать нации зрителей» - назвал ее 50 лет назад известный
критик.
Казалось, знаменитое шоу стерлось из памяти нового поколения зрителей.
Но нет. По случаю 50-летия со дня выхода в эфир «Донна Рид Шоу» компания
«Арт Альянс Америка» выпустила на дисках первый сезон программы.
В середине 2008 года в Лос-Анжелесе в голливудском Рузвельт-отеле состоялась
церемония вручения ежегодных наград лучшим теле-шоу, выпущенным на DVD.
Первую премию получила программа «Сайнфельд». А журналы «Хоум Мидиа Магазин»
и «Голливуд репортер», освещающие это событие, уведомили зрителей, что
к ним возвращается Донна Риид. Жюри конкурса «ТВ на ДВД» удостоило коллекцию
её дисков почетной награды - «За вклад, сделанный актрисой в развитие
мира телевидения и за укрепление роли женщины в масс-мидиа». На церемонии
вручения присутствовали как теле-дети Донны Риид – актер Пол Петерсон,
создавший некогда образ сына, так и родные дети – Антони Овен-младший
и Мэри Анна Овен.
Блистательная актриса, равно незабываемая и забытая:
впечатанная навсегда в память одного поколения зрителей, и выпавшая из
обоймы другого, Донна Риид снова на экране. «Донна Риид Шоу» поступило
в продажу.
…А яркое солнце в Лос-Анджелесе равно роняет лучи и на небольшой камень
на могиле Донны Риид, и на её Звезду на Аллее Славы, и на блестящую коробку
с ДиВиДи, на которых она. Такая красивая, что больно смотреть.
- Как вам кажется, мама была бы рада, если бы дожила до этого дня? - спросила
я у Мэри Анны.
- Я точно знаю, что она рада, - смущенно ответила та. – Потому что в первую
же ночь после церемонии вручения наград она приснилась мне… В том самом
платье, в котором стоит на экране, она вбежала в открытую дверь моей комнаты,
обняла меня и сказала: «Спасибо». А потом быстро заглянула в мою сумку,
где были рекламные буклеты – ей не терпелось посмотреть картинки…
Источник: http://www.newswe.com/index.php?go=Pages&in=cat&id=16
Гертруда Элайон
Эта талантливая женщина, чей день рождения мы отмечаем 23 января, сделала первые шаги к созданию новых лекарств, которые могли активно подавлять или вообще уничтожать болезнетворные клетки, не затрагивая и не повреждая при этом здоровые клетки человеческого организма.

Американский биохимик и фармаколог Гертруда Белл Элайон родилась 23 января 1918 года в Нью-Йорке в еврейской иммигрантской семье. «Я родилась в городе Большого яблока холодной январской ночью, - вспоминала Гертруда, - когда в батареях отоплениях замерзала вода и их буквально разрывало на части. Мой отец эмигрировал в США из Литвы в 12-летнем возрасте, получил высшее образование в Нью-Йорке, окончив в 1914 году зубоврачебную школу при Нью-Йоркском университете. А мама – родом из России, приехала в Штаты в 14 лет и уже в 19 лет вышла замуж за моего отца. Первые семь лет мы прожили в большой квартире в Манхэттене, где у отца был также и стоматологический кабинет».
Но, увы, не отец подтолкнул дочь к учебе по той профессией, которая позже стала ее судьбой. Как призналась Сама Гертруда Белл Элайон в своей Нобелевской речи, «одним из решающих факторов, повлиявшим на выбор профессии, стала болезнь и смерть любимого дедушки, скончавшегося от рака, когда мне было всего 15 лет. Я решила тогда, что, когда вырасту, сделаю всё возможное, чтобы научиться лечить людей от этой страшной болезни».
В 1933 году Гертруда поступила в Хантер-колледж в Нью-Йорке и решила заняться наукой – в частности, химией. По окончании колледжа в 1937 году она получила степень бакалавра, поступила в Нью-Йоркский университет и окончила его в 1941 году. После этого работала лаборантом и учителем химии, пока не стала ассистентом у Джорджа Хитчингса в фармацевтической компании Бороу-Веллкам (сейчас - GlaxoSmithKline).
Именно в этой крупной фармацевтической компании Гертруда Элайон сделала первые шаги к созданию новых лекарств, которые могли активно подавлять или вообще уничтожать болезнетворные клетки, не затрагивая и не повреждая при этом здоровые клетки человеческого организма. Вместе с Джорджем Хитчингсом она сумела подобрать и синтезировать такие сложные химические соединения, которые, по существу, блокировали размножение болезнетворных клеток, а следовательно, и избавляли, лечили человека от таких болезней, как лейкемия и подагра, малярия и лишай и многих-многих других.
И, разумеется, «направление главного удара» – раковые клетки. Они тоже «сдавались» и распадались, когда в бой вступали лекарства, созданные Гертрудой Белл Элайон, не забывшей о том, от какой болезни умер ее дедушка. Вполне заслуженно ее избрали президентом Американской ассоциации по исследованию раковых заболеваний. В течение многих лет Гертруда Элайон была также руководителем Департамента экспериментальной терапии, научным консультантом крупнейших фармацевтических концернов. Ее слово имело решающее значение для рекомендации того или иного лечебного препарата в производство.
В 1988 году Гертруда Элайон и Джордж Хитчингс были удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине «За открытие важных принципов лекарственной терапии». Благодарная Америка также отметила ее выдающиеся достижения: ей торжественно вручили Национальную медаль за вклад в науку, а университет Джорджа Вашингтона присвоил ей почетную степень доктора философии.
Скончалась Гертруда Белл Элайон 21 февраля 1999 года в штате Северная Каролина, США.
23.01.08 12:13
Текст и фото: «Еврейский журнал»
Еврейские жёны
Жены С.М.Кирова, Г.В.Плеханова, М.Г.Первухина были еврейками. Еврейские жены Ежова, Рыкова (сестра архитектора Иофана), Каменева (сестра Троцкого) - были уничтожены Сталиным еще до войны. У Николая Ивановича Бухарина было даже две еврейские жены: Эсфирь Исаевна Гурвич и дочь крупного большевика Ларина (Михаила Лурье) Анна. Молодой Климент Ворошилов в царской ссылке в Архангельске женился на эсерке Голде Давидовне Горбман. Чтобы зарегистрировать брак (браки между православными христианами и представителями иных вероисповеданий в Российской империи были запрещены законом) она формально перешла в православие и приняла имя Екатерина. Брак их был вполне благополучен - репрессиям в сталинские годы ни она, ни, тем более сам Климент, не подвергались. Своих детей у них не было - вырастили пятерых приемных, среди которых и двое детей Михаила Фрунзе.
Судьбы других еврейских жён старых революционеров сложились
более трудно, а некоторых – трагически.
В конце 1948 года по приказу Сталина арестовали жен-евреек его ближайших
соратников. В том числе: жену Андреева - Дору Моисеевну Хазан; жену верного
многолетнего секретаря Сталина Поскребышева - Брониславу Соломоновну (она
была сестрой невестки Троцкого, просидела три года в тюрьме, в конце концов
– расстреляна); арестовали и жену Молотова Полину Жемчужину, родившуюся
в Запорожье (настоящее имя - Перл Карповская. Слово "перл" на
идиш означает "жемчуг" - отсюда и псевдоним. Её история и история
ее брака с Молотовым широко известна, так что подробно я на ней останавливаться
не буду).
В течение многих лет любовницей Сталина (даже их медицинские
карточки хранились в кремлевской поликлинике вместе) была некая Роза –
то ли сестра, то ли племянница Кагановича. По словам сына Берии Серго,
их близость стала непосредственной причиной самоубийства Надежды Аллилуевой.
От Сталина у Розы якобы был ребенок. Звали мальчика Юрой. Он рос в семье
Кагановича.
Женой сына Сталина Якова Джугашвили была танцовщица Юлия Мельцер. После
пленения и гибели мужа она была арестована.
Лиля Брик одно время была женой героя Гражданской войны комкора В.М.Примакова
(в числе прочего, он возглавлял вторжение Красной Армии в Афганистан).
Николай Щорс был женат на еврейке Фруме. Их дочь Валентина
вышла замуж за известного советского физика Исаака Марковича Халатникова.
Еврейками были жены многих классиков советской литературы - Корнея Ивановича
Чуковского (сам еврей по отцу), Леонида Андреева, Аркадия Гайдара, Владимира
Тендрякова. У Владимира Набокова было три серьезных романа с еврейками,
которые могли закончится браком. Третья - Вера Слоним – все-таки стала
его женой. Запись в дневнике Чуковского: "13 мая 1956 года. Застрелился
Фадеев. Я сейчас подумал об одной из его вдов, Маргарите Алигер, наиболее
любившей его (у нее дочь от Фадеева)". Валентин Катаев - жена Эстер
Давидовна. Их дочь Евгения вышла замуж за еврейского поэта Арона Вергелиса
- многолетнего редактора журнала "Советиш геймланд" ("Советская
родина"). Композитор А.Н.Серов был внуком крещеного еврея из Германии
Карла Габлица, ставшего в России сенатором и вице-губернатором Таврической
области.
Жена главного советского официального композитора Тихона
Николаевича Хренникова, главы Союз композиторов в сталинские годы - еврейка
Клара Арнольдовна. В 1997 году в "Международной еврейской газете"
Хренников писал: "В период борьбы с космополитизмом я защищал евреев...
Муж моей старшей сестры - Цейтлин - и сам я женаты на еврейках - скоро
мы с Кларой Арнольдовной отметим 60-летие нашей совместной жизни".
В июле 1992 года советский актер Иннокентий Смоктуновский приехал на гастроли
в Израиль. В одном из интервью он сказал: "Моя жена - еврейка. Ее
зовут Шломит. Она родилась в Иерусалиме, недалеко от Стены плача. В 30-м
году ее, маленькую, мать увезла в Крым, где создавалась еврейская коммуна.
Там их всех обобрали, половину пересажали. Теща моя только два года назад
вернулась в Иерусалим"...
Жена Бориса Савинкова - Е.И.Зильберг.
Женой Сергея Юльевича Витте была еврейская женщина. И
сам он был потомком одной из дочерей петровского канцлера Шафирова.
Потомки Шафирова и других выкрестов петровской и послепетровской поры
- отдельная тема. …Владислав Ходасевич - внук выкреста Бранфмана, автора
классики дореволюционной антисемитской литературы "Книги кагала".
И так далее. Все это очень интересно. Однако прежде чем восхищаться или
возмущаться, необходимо спросить: какая польза от этого евреям?
В лучшем случае, никакой. Принадлежность к народу – это, в первую очередь,
результат сознательного выбора, а не только гены предков (еврейских, в
данном случае). Но только чокнутый антисемит-конспиролог или придурковато-восторженный
еврей-националист может считать, что все перечисленные персонажи - сознательно
или бессознательно - приносили евреям какую-либо пользу. Увы, они были
украшением чужих садов.
Факт рождения от родителей, принадлежащих к определенной нации, не только не делает человека националистом, но и не гарантирует, что от него будет какая-либо польза национальному делу его народа. Для всех еврейских жен их еврейство ровным счетом ничего не значило. Большинство из них не прикладывало не малейших усилий для того, чтобы облегчить участь своих соплеменников. Более того, многие из них не проявляли ни малейшего интерес к судьбе своего народа. Их связь с ним умерла. Необходимо признать: любой чужак, помогающий евреям, значит для них куда больше, чем такие вот "кровные представители".
С другой стороны, такие "евреи в ливреях"
даже не приблизились к тому, чтобы стать частью имперской элиты - их всегда
"держали в прихожей". Некоторые (этнические) евреи стали частью
имперской элиты. Но - ценой отказа от иудаизма и перехода в православие.
То-есть фактически - ценой разрыва с еврейством. Для многих евреев такое
решение было невозможным.
Но и евреев-выкрестов в имперских элитах вовсе не ждали с распростертыми
объятиями. Путь в имперскую элиту был открыт немцам (по известным историческим
причинам), православным грузинам, армянам. Не было "зазорно"
иметь в генеалогии татарские или черкесские корни. Евреи же имели черту
оседлости, норму и прочие "прелести". Какая уж тут "имперская
элита"?..
* * *
И наконец, то, что в Израиле зовется "бонус" – факты-утешение
для национально озабоченных евреев и русских патриотов:
Праправнучка Льва Толстого приняла иудаизм, переехала в Израиль и в 2004
году вышла замуж. Собственно, благодаря этому событию о ней и стало известно
- информация о хупе (еврейском обряде бракосочетания) попала в прессу.
До приезда в Израиль она жила в Италии, куда ее семья уехала после революции.
Иудаизм приняла также дочь композитора Александра Скрябина Ариадна (после
гиюра она получила имя Сара). После революции она жила во Франции, вышла
замуж за известного идишского поэта Довида Кнута. В августе 1939 г . они
вместе принимали участие в работе проходившего в Женеве XXI Сионистского
конгресса.
В ходе немецкой оккупации вместе с мужем она создала
в зоне Виши подпольную группу Еврейского сопротивления, впоследствии преобразованную
в действующую в составе сил Французского сопротивления (F.F.I.) Еврейскую
боевую организацию (Organisation Juive de Combat). 22 июля 1944 года.
ее отряд попал в Тулузе в засаду, устроенную французскими коллаборационистами.
По одной версии, Сарра была убита, когда вела огонь из пулемета, по другой
– была взята в плен французскими милиционерами и расстреляна на месте.
После войны все дети Скрябиной (в том числе и от двух предыдущих браков)
переехали в Палестину. Одна из дочерей входила в боевую организацию Иргун
Цваи Леуми (ЭЦЕЛЬ), воевавшую с англичанами и арабами…
Вот так…
Автор: Авраам Шмулевич, Хеврон (Израиль)
Источник: http://www.newswe.com/index.php?go=Pages&in=view&id=38
Дора Хайкина

Поэт посвящает свои стихи кому хочет. Может и редактору. Но чтобы редактор посвящал стихи автору, которого печатает на своих страницах?! Такого не помню. В разделе "Местечко" газеты "Новости недели", дело было в 1993 или 1994 году, я прочла стихотворение "Бабушкины годы", и одного этого стихотворения хватило, чтобы запомнилось имя автора. Разве так уж много стихов, вызывающих – мгновенно – доверие к поэту, улыбку, желание прочесть кому-то ещё? А для детей ли оно или для взрослых – не знаю. Может быть, для взрослых, которые всегда в душе – дети, а может для умных маленьких внуков:
| Ходит наша бабушка, Палочкой стуча. Говорю я бабушке: - Позови врача! От его лекарства Станешь ты здорова! Если будет горько, - Что же здесь такого? Ты потерпишь чуточку, А уедет врач, Мы с тобой на улице Поиграем в мяч! Будем бегать, бабушка, Прыгать высоко! Видишь, как я прыгаю? Это так легко! Улыбнулась бабушка: - Что мне доктора? |
Я не заболела, Просто я стара! Просто очень старая, Волосы седые. Где-то потеряла я Годы молодые. Где-то за огромными За лесами тёмными, За горой высокою, За водой глубокою. Как туда вернуться, Людям неизвестно… Говорю я бабушке: - Вспомни это место! Я туда поеду, Поплыву, пойду! Годы молодые Я твои найду! |
Я за это стихотворение, как за ниточку, потянула – и весь клубок выкатился – книжка Доры Хайкиной "С кем такого не бывает?", издательство "Малыш". Для старшего дошкольного возраста. Переводы с идиш Владимира Орлова. В той, прошлой жизни, почему-то не читала, не видела, не знала. Прислали мне и взрослые книги Доры Хайкиной – на идиш, украинском, потом на русском - в переводах знакомых и близких людей Юлии Нейман, Льва Озерова и Натэллы Горской.
Два своих перевода из Доры Хайкиной прислал мне Леонид Школьник. А с ними и своё стихотворение, ей посвящённое. Он и есть тот редактор, с которого начался наш рассказ.
| Дора Хайкина из Хайфы Мне пришлёт свои стихи. Строчечки её смешные, Как дыхание, тихи. Незатейливы, негромки – Не услышать их нельзя… |
Так начиналось это стихотворение, тоже незатейливое, доброе и грустное.
К нему мы ещё вернёмся.
Из той же детской книжки:
| Встреча От грохота города, Шума вокзала К зелёному лесу Нас поезд привёз. Я слушала птиц, Я цветы собирала, Я гладила белые Руки берёз. И вот я стою У ручья голубого, Ручей потихоньку О чём-то журчит. Смотрю – На поляну выходит Корова, Корова глядит на меня и молчит. Сначала стояла она И молчала, Рога наклонила, Молчанье храня. Потом она вдруг На меня замычала, Потом замахала хвостом На меня! |
Ведь я не сказала Картошка в мундире |
На лихих солдат. Я гляжу в окошко, Тишина в квартире. Не могу понять я, Не могу решить: Для чего картошке Щеголять в мундире? Кто решил мундиры Для неё пошить? Вот она дымится. Я сажусь на место. Мама улыбнулась: - Ешь её скорей! До чего картошке Горячо и тесно! Снять с неё мундиры Нужно поскорей! Нам такое блюдо Нравится обоим. Я картошку чищу И – скорее в рот! А иначе строем, С барабанным боем Вся моя картошка От меня уйдёт! |
Давно сказано, что для детей надо писать так же, как и для взрослых, только еще лучше. Увидеть необычное в обычном, открывать мир заново, - глазами внуков – это тоже Дора Хайкина. Точнее, одна из граней её дарования. В 1993 году, сразу по приезде в Израиль, известная еврейская поэтесса Дора Хайкина отмечала своё 80-летие. Разумеется, в кругу семьи. А в это время в столице Украины, в Доме литераторов, состоялся торжественный вечер, посвящённый её юбилею. Неисповедимы пути твои, Господи! Какие времена настали! Юбиляр в Израиле, юбилей в Украине! Известно, что Киев в течение более сотни лет был центром еврейской литературы и культуры. Там жил и творил Шолом-Алейхем, там напевал свои песни Марк Варшавский (киевский адвокат и даровитый дилетант, песни которого "Ойфн припечек" и "Ахцик эр ун зибэцик зи" (80 - ему и 70 - ей), да и многое другое стало классикой еврейского фольклора); там, в Киеве, творили Давид Бергельсон, Лейб Квитко, Давид Гофштейн; там был создан научно-исследовательский институт еврейской культуры, среди преподавателей которого был блестящий Макс Эрик, друг Моше Кульбака и Ури-Цви Гринберга, Переца Маркиша и будущего профессора Израильской академии языка иврит Файвла Мельцера.

В этом институте до 1937 года, до его ликвидации, Дора Хайкина работала библиографом, сюда она вернётся в конце войны – машинисткой, когда при Академии наук Украины позволено будет открыть Кабинет еврейской культуры. О том, как прошёл литературный вечер, посвящённый Доре Хайкиной, написал из Киева для "Новостей недели" Михаил Фельдман. Как положено, о творчестве юбиляра говорили известнейшие украинские литераторы, читали её стихи и пели их, ибо композитор Яков Цегляр положил их на музыку. А выбирать было из чего – у Доры вышло свыше 20 книг – поэзия, проза, переводы. За этой корреспонденцией в Израиль пришло письмо из Киевского еврейского культурно-просветительского общества имени Шолом-Алейхема. Не просто поздравление, а документ исторического характера и человеческого самочувствия, некоторые строки из которого заставляют сжиматься сердце:
"Дорогая Дора Григорьевна! – писал от имени правления общества его председатель Александр Бураковский, - на расстоянии чувствуешь всё обострённее и больнее. Вся Ваша жизнь, творчество и Ваше последнее решение многое изменили в нашей жизни. Все мы оказались одетыми в костюмы датского короля. Все наши потуги и намерения, надежды и грёзы оказались наивной побрякушкой. Вернее, не оказались, они такими и были, да вот вдруг упало покрывало… и мы остались на сцене… среди декораций. Впрочем, прозрению научить невозможно, каждый человек прозревает самостоятельно… И, тем не менее, надо жить. Надо надеяться. Надо мечтать о "синей птице", даже если уверен, что она уже никогда не прилетит на эту родную и проклятую Б-гом землю.
И мы живём. И всё, что можно сделать в царстве кривых зеркал, – пытаемся сделать. Мы – это общество им. Шолом-Алейхема. Это "последние из могикан" евреи, которые не хотят быть "украинцами еврейского происхождения", но никак не могут, да и смогут ли когда бы то ни было стать равными со всеми – евреями Украины. Нас много и нас мало. Ибо мы стареем, и мудрость наша всё больше парит в воздухе, нежели твёрдо ступает по земле. Мы – арьегард, а может быть, даже последний разъезд в тысячелетней еврейской культуре Украины, некогда мощной и блистательной, всемирно известной.
Вы, Дора Григорьевна, одна из последних представителей
этой культуры. После нас, судя по всему, наступит вскоре время еврейских
скоморохов, шутов, еврейских "потёмкинских деревень", еврейских
"культурных резерваций", подаваемых как туристическое шоу на
десерт интуристам.
Но сегодня плакать нельзя. Сегодня я хочу по поручению Правления поздравить
Вас с юбилеем. Мы так мечтали вместе с Вами провести этот вечер, посвящённый
Вам и Вашему творчеству… Мы Вас любим, Вы – наша мама, ибо мы чаще приносим
Вам свои горести, нежели радости. Мы чаще опускаем в Ваши ладони своё
заплаканное лицо и реже – смеющееся. Мы чаще приходим с просьбами, чем
с подарками. Простите нас за это.
Сегодня плакать нельзя. Сегодня праздник. Большой праздник евреев Украины.
И мы будем счастливы, если наша любовь и тепло долетят до Вас. Мы желаем
Вам прожить столько, сколько даст Б-г, в здоровьи, в счастьи, в радости.
Вы их заслужили. Мы преклоняемся перед Вами, Вашим творчеством, Вашим
мужеством, скромностью и талантом.
С любовью, Ваш…"
(Мне говорили, что и автор письма покинул Киев - Ш.Ш.).
Поразительный документ! Как последний привет, как последняя
страница в тысячелетней летописи еврейской жизни на Украине. Слышен трепет
этого листочка - трепет еврейского сердца, его писавшего, - слова любви,
сбивающиеся на рыдание. Но есть в нём и другой аспект – о месте юбиляра
не только в еврейской культуре, но и в еврейской жизни, по крайней мере,
на протяжении полувека.
Дора родилась в 1913 году в Чернигове. В годы гражданской войны и после
неё воспитывалась в детском доме. Об этом писала в прозе, об этом и стихи.
| По какой дорожке мне пойти сначала, По пробитой стёжке?.. По тропе глухой?.. Где-то я когда-то детство потеряла, Я рассталась где-то с детскою порой. Может быть, по снежной мне пойти дорожке, К низенькой калитке, где белым-бело?.. Там стоит девчонка! Посинели ножки. Губы у ребёнка холодом свело. Я бы ей дыханьем ножки отогрела, В тёплые сапожки их могла обуть. Нужно, чтоб сапожки в холод были целы, Чтоб дарил игрушки ей хоть кто-нибудь!.. Может быть, зелёной мне пойти дорогой, Где Десна лепечет шёлковой волной? Может, там с девчонкой встречусь босоногой И её за ручку приведу домой? |
Мы её, бедняжку, сразу б посадили За накрытый стол, в круг других детей, Я бы рассказала небыли и были, Сказку бы за сказкой сочинила ей. Чтобы веял вечер тишиною сладкой И казалось небо шторой голубой… Ты потом легла бы в тёплую кроватку, И тепло-уютно было б нам с тобой! Ты в окно смотрела б, как блуждают звёзды… Как прекрасны эти звёздные пути!.. …Детство моё, детство!.. Видно, слишком поздно, Видно, не удастся мне тебя найти. Сколько б ни искала – много или мало, - Самым ранним утром иль к исходу дня… Потому, что детство я не потеряла, Потому, что не было детства у меня!.. |
Первый сборник стихов был издан в Киеве в 1938 году, а второй был уже
отпечатан во Львове, но началась война, и он сгорел. Война, война, она
не забывается, хотя её и не ищут, как детство…
| В лесу ирпенском мне давно знаком Разбитый дот в овраге, у лощины. Давно я знаю трещины на нём, Как знаю на лице своём морщины. Вот проволоки скрученный кусок, Травинка из-под камня просочилась, Со дна пробился маленький дубок, Не знающий того, что здесь случилось. Здесь трещину любую – что ни день Залечивает мудрая природа. Но осень сорок первого, как тень, Присутствует в любое время года. |
Дора прислала мне свои воспоминания, объёмистую рукопись,
сегодня они частично уже опубликованы. Разные эпизоды из разных периодов
жизни. Среди них – яркие, незабываемые картинки, сценки, колоритные образы
людей. Это встреча на радио, где она была с труппой Михоэлса, это любимый
учитель - еврейский писатель Моисей Аронский. Она обожала его уроки, его
самого и его книгу "Нина и Майорчик". Но самое удивительное
было, когда Моисей Аронович "будто невзначай" произнёс: "Вчера
на заседании секции еврейских писателей Давид Гофштейн читал своё новое
стихотворение". Она знала стихи поэта наизусть. Но тут она с восхищением
смотрела в глаза учителя, которые – глаза – вчера смотрели в глаза Давида
Гофштейна. Как будто силилась поймать взгляд великого поэта в глазах своего
учителя. Глубокое преклонение перед талантом, радость открытия, поэтому
так свежи её рассказы о людях, которых она встречала в жизни.
Всё меньше людей, могущих сказать: я помню Соломона Михоэлса, я видел
и слышал Переца Маркиша, Давида Гофштейна, Давида Бергельсона, поэтому
и воспоминания Доры Хайкиной – для нас – как крупицы золота. Среди них
и окрашенные великой горечью и грустью. На мемориальной доске в Киеве,
в Союзе писателей, среди имён погибших золотыми буквами написано и имя
Герша Диаманта – поэта и её доброго друга. Получив повестку из военкомата,
он обошёл за один день почти всех еврейских писателей - от Давида Гофштейна
и Ноаха Лурье до Аврама Гонтаря и Ривы Балясной, а последний визит нанёс
ей, Доре.
- Прощай. Будь здорова. Пиши хорошие стихи.
- Ты неправильно прощаешься, - поправила Дора, - надо говорить "до
свидания".
- Мы больше никогда не увидимся, свидания не будет.
Она не могла оставить его в таком настроении и вышла вслед за ним на вечернюю,
как показалось, слишком освещённую улицу, с чересчур нарядными и оживлёнными
людьми… Дора шла через силу, пыталась шутить:
- Ты придёшь ко мне в порванных ботинках, я скажу: у тебя порваны ботинки,
а ты скажешь, и она процитировала его стихи:
| Майнэ ших зайнэн церисн Фун либэ арумгэйн аф дэр эрд... (Мои ботинки порваны От любви ходить по земле.) |
Предчувствие его не обмануло. Ни в целых, ни в порванных
ботинках Дора его больше не увидела - Герш Диамант с войны не вернулся.
Читаешь воспоминания, а перед глазами – живые кинокадры. Эвакуация. Железнодорожный
состав. Крики, слёзы. Мама и она с трехлетним сыном Самуилом уже в вагоне,
поезд пошёл, а муж, еврейский писатель Ихил Фаликман, бежит за вагоном,
протягивая ей 5-летнюю Зою. Долго-долго, и днём, наяву, и ночью, во сне,
видела Дора бегущего за поездом мужа, в отчаянии протягивающего ей ребёнка.
Ихил всю войну провёл на фронте, был ответственным секретарём редакции
газеты "За разгром врага". О нём, как части самой себя, рассказывала
скупо. "Свою жизнь я не люблю ворошить. Она ничем не примечательна",
- писала она в ответ на мои вопросы. И снова и снова рассказывала о людях,
встреченных в жизни, о поэтах, писателях, забытых, полузабытых…
Я уверена, что мы ещё прочтём книгу её воспоминаний – о Григории Берёзкине,
Пейсахе Новике, Фейге Гофштейн, вдове поэта, Александре Померанце, его
жене Френсис, о польской подруге Кристине Живульской, бывшей узнице Освенцима
(может, Вам доводилось читать её книгу "Я пережила Освенцим"?).
Дора посвятила ей стихи.
Они познакомились в Ялте, в Доме творчества, куда приезжали и польские писатели. Кристина рассказала: вместе с матерью она оказалась в Варшавском гетто. Однажды в каком-то необъяснимом порыве она взяла мать под руку и пошла к выходу – к воротам. И никто их не остановил. Ушли из гетто, как в сеансе гипноза. Маму приютили друзья, Кристина нашла подпольщиков, но была арестована (Живульская – это подпольная кличка). Попала в тюрьму, а потом в Освенцим. После войны Кристина вышла замуж – за поляка. Родила двух сыновей. Стала известной писательницей. В 1968 году, когда Гомулка стал выгонять евреев из Польши, отправила сыновей в Голландию. С мужем, как видно, рассталась. В последнем полученном Дорой письме Кристина писала, что отправляется в Германию "снимать номер". В гостинице, что ли? Нет, тем, кто соглашался вытравить с руки освенцимский номер, Германия платила большие деньги. Больше писем не было. А потрясло меня то, что Дора помнила номер на руке подруги, как дни рождения своих детей. Кристина в Освенциме вела картотеку заключённых. Все 55907 человек из этой картотеки были убиты. Её номер был 55908. Он мог стать первым в другом исчислении. Она перешла в новую эру со старым номером…
| Кристине Живульской посвящается Звёзды на небе считаю в эту позднюю осень. Их пятьдесят пять тысяч и – девятьсот восемь. Берег морской завален камешками, как просом. Их тоже пятьдесят пять тысяч и – девятьсот восемь. И столько же я насчитала иголок на древней ели. Так долго я их считала – даже глаза заболели. ... Мертвых пятьдесят пять тысяч и – девятьсот семь. Она – девятьсот восьмая. Живая. Одна совсем… (Пер. Л.Школьника) |
Где она сегодня? Что с ней стало? Может, кто-нибудь знает?
Пока живёшь, всё помнишь – и травы, и ветер, и морскую гальку, и имена.
Дора была верна памяти друзей и называет их – и про себя и вслух – в стихах
и прозе, чтоб звучали в воздухе Израиля, на еврейской земле.
И другой подруге, талантливой Риве Балясной, не довелось увидеть дорину
любимую Хайфу. Но в Израиль приехал внук Ривы Дима.
| Риве Балясной Мы остались лишь вдвоём с тобой – Поэтессы, давние подруги. Но одна – зимою ли, весной – Выйдет из назначенного круга. А другой, счастливой, дольше жить, Чтоб на мамэ-лошн неубитом Продолжать и думать и творить Вопреки наветам и обидам, Воспевать летящий с неба снег И друзей оплакивать ушедших, |
Смерть свою не только на войне, Но и в стуже лагерной нашедших. Та, другая, будет так же петь О садах цветущих и о звёздах. И сумеет оборвать лишь смерть Эту песню, тёплую, как воздух. Я не знаю, ночью или днём, Но узнают в одночасье люди: В Киеве единственном моём Ни одной из нас уже не будет. (Пер. Л.Школьника) |
Меня остановила строчка "Вопреки наветам и обидам"…
В стихах Дора Хайкина не писала об антисемитизме, разве что в "Песне
о докторе Хавкине":
Помнишь, как камнями
Здесь, на Успенской, в окна бил погром?
Но вот её рассказ, леденящий кровь. Кто это в шесть лет рассказывает ребёнку
о деле Бейлиса? О кровавом навете… Играя с другими девочками, героиня
рассказа, она сама, Дора, порезала пальчик зелёным стёклышком, и так как
остановить кровь было нечем, взяла пальчик в рот. И вдруг случайная подружка
по играм закричала страшным голосом:
- Она еврейка…
- Чего вдруг?.. - встала на защиту другая.
- Но она пьёт кровь… - в ужасе протянула первая.
И когда Дора поведала маме вечером о том, что случилось,
мама усадила её напротив себя и рассказала ребенку о деле Бейлиса… "Жив
курилка", - сказала мама, закончив рассказ, а кто такой курилка –
не объяснила. Через много лет пришло из Палестины печальное известие:
умер Бейлис (Вскоре после освобождения Мендель Бейлис выехал с семьей
в Эрец Исраэль, а в 1920 г. переехал в США, где и умер в 1934 году – «МЗ»).
Есть у Доры Хайкиной ещё один похожий рассказ, уже периода эвакуации,
где хозяйка Фёкла заявляет: "Ты меня обманула. Я думала – вы цыгане,
и впустила вас". А ещё через несколько дней она вынесла из их клетушки
деревянную кровать, разобрала её, забросила на чердак: пусть лучше сгниёт.
И дети и мать спали, кто на полу, кто сидя на чемодане… Когда же немолодой
солдат привёз им кровать, одну на всех, мама сияла от радости – не от
того, что есть уже своя кровать, а что встретила хорошего человека.
И Дора редко вспоминала плохое, от всех бед спасали дети, внуки, литература,
искусство, природа.
| Быть может, и впрямь в облаках я парю, Но всё же я чувствую землю свою, Ту землю, где часто молчит мой язык, Поскольку он зря говорить не привык. О правде молчать мне случалось порой, Но всё ж не звала я долину – горой, И, если когда я не знала чего, Незнанья не прятала я своего. "Паришь в облаках!" – часто мне говорят. Пусть так! Но, охотно же, дней своих ряд Ткала я, как раньше ткала полотно, - Вот здесь, на земле, где светло и темно, Где нужно всё так, как нам руки нужны, Как сердцу – просторы голубизны. "Витаю?.." Но всё ж на земле я своей, Где есть и враги, но где больше – друзей! И пусть я витаю на крыльях мечты, Нужны мне земные деревья, кусты, Нужна мне травинка и малый цветок, |
Вон тот, что на поле стоит одинок И всё же - в сияньи небесных светил… Мне нужно, чтоб ты меня тоже любил!.. Парю в облаках, в небесах я плыву, Но чувствую землю. Землёю живу. Я часто чувствую себя ниже травинки Порою с травинкой я крохотной схожа, Порой ничуть не ниже деревца, Ну, скажем, той берёзы белокожей, Мечтающей у нашего крыльца. Хоть не всегда я буду с нею ровней, Тянуться вверх – присуще с детства мне. Пусть я сейчас молчания безмолвней, Беззвучней рощи – в белом зимнем сне, Но я молчанье разменяю скоро, Не на гроши – на музыку труда, И не на миг – на времени просторы, Надолго, если уж не навсегда! |
Свою радиопередачу о Доре Хайкиной я назвала строкой из стихотворения
Леонида Школьника, посвященного ей: "Эти строчечки на идиш..."
Вот это стихотворение:
| Дора Хайкина из Хайфы Мне пришлёт свои стихи. Строчечки её смешные, Как дыхание, тихи. Незатейливы, негромки - Не услышать их нельзя. В них опять цветут каштаны, Снег идёт, звонят друзья. Дора дорого платила, Да и платит до сих пор, За любую букву в строчке, За немой в глазах укор, За невысказанность боли, За немыслимый исход… Дора Хайкина из Хайфы Мне стихи свои пришлёт. |
Я, в обычной круговерти, К ним не сразу подберусь. Но однажды, как удушье, Подберётся к горлу грусть. И тогда, в бумагах роясь, Я найду листок-другой, А на тех листочках лёгких – Этот почерк дорогой, Незатейливые строчки, Невостребованный свет. Я начну читать, и грусти Словно не было и нет. Нет ни грусти, ни удушья – Снег и звёзды, Киев, свет; Эти строчечки на идиш – Ничего дороже нет… |
У Доры был добрый дом. Замечательные дети – Самуил, Дима и Зоя. Очень
любил Дору и зять Володя Качко, ветеран и инвалид Второй мировой войны,
потерявший в ней огромную семью - 18 человек.
Звоню Доре, поздравляю ее с 90-летием (октябрь 2003). Она говорит: "Передайте
всем людям, что я желаю им покоя". Потом поправляет себя: "Нет,
не покоя, а спокойствия".
Дима рассказывает, что Володя, муж сестры Зои, ушел из жизни в 2002 году.
А ведь именно Володя, позвонив мне однажды из Хайфы, решительно спросил:
"Когда же вы напишете о Доре Хайкиной?"
Спешите делать добрые дела... Володи нет. Как жаль, что мы вечно опаздываем.
Как больно, что я опять опоздала... Но о Доре Хайкиной сказать – успела.
Справка
Еврейская поэтесса Дора (Дебора) Гиршевна Хайкина родилась в г. Чернигове
21 октября 1913 года. В 1919-1927 годах воспитывалась в детском доме.
В 1932 г. окончила Киевский планово-экономический техникум, работала на
текстильной фабрике. В 1941-1945 годах находилась в эвакуации в Кустанае,
Казахстан. Печататься начала в 1931 году в еврейском журнале «Пролит».
Автор сборников, выходивших на идиш: «Лидер» («Стихи», 1938), «Лидер ун
баладес» («Стихи и баллады», 1941), «Фун але майнэ вэгн» («Из всех моих
дорог», 1975), сборников рассказов и новелл «Люциес либэ» («Люцина любовь»,
1983), сборника очерков «Брив цу кумендике дойрес» («Письма к будущим
поколениям», 1988). В переводе на украинский язык изданы поэтические сборники
« Життя іде » ( « Жизнь идет » укр. 1962); « Кінець літа » ( « Конец лета
» укр. 1968); « Квіти засніжених гір » ( «Цветы заснеженных гор» укр.
1975); « Поезії » ( «Поэтический сборник», 1979); « Вдячність » ( « Благодарность
» , 1984); « Вибране » ( « Избранное » , 1983); книга проз ы « Мрійниця
» ( « Мечтательница » , 1981). На русском яз ыке – книга «Верность» (1964),
«С кем такое не бывает», «Волшебная лестница» (1979). С 1993 года жила
в Израиле, печаталась в «Еврейском камертоне», других газетах и журналах.
Скончалась в ноябре 2006 года в Хайфе.
Источник: http://www.newswe.com/index.php?go=Pages&in=view&id=728
Надежда Птушкина
 |
|
Надежда Птушкина:
«Первую пьесу я написала в 14 лет. Поскольку я ленинградка, родилась в Ленинграде, я ее понесла в ТЮЗ. Там еще был Корогодский. К нему меня не пустили, у меня ее взяла дама – то ли завлит, то ли завтруппой, я тогда имела смутное представление. Она прочла, пригласила меня прийти через сколько-то дней. Я пришла. Она сказала, что ей пьеса очень понравилась, было очень интересно. Посоветовала мне срочно исправить букву "р" и поступать к ним в студию на актерский. Я страшно расстроилась, а она сказала, что нельзя писать пьесы, пока ты не работал актером. Тогда все было так основательно. Тогда никто не знал, что пьеса – это "кто говорит слева, а что говорят справа". Этого еще никто не знал, все думали, что это произведение искусства. Я послушалась ее – исправила букву "р", но актрисой мне очень не хотелось быть, и я это не продолжила никак. Я всегда понимала, что не могу быть актрисой, по той простой причине, что я совершенно не в силах без изменений повторить текст трижды, четырежды в спектакле.
Было очень смешно, когда в Москве ставили первую пьесу. Это был такой период – 1995 год, когда у драматурга спрашивали, есть ли деньги на постановку и куда он может вывезти этот спектакль, на какой фестиваль. Мне - как большое одолжение - в Театре Станиславского сказали, что так возьмут пьесу. Я сказала: "А мне деньги?". Все были так возмущены, что даже прекратили репетиции. Там милейший был человек Ланской, он умер, к сожалению, один из самых лучших людей, которых я знала на свете. Прошло две недели, репетиции остановили. Директор Феликс Янович, очень порядочный, вызвал меня и сказал: "Вы знаете, мы никогда себе не позволим из-за какой-то тысячи долларов отказываться от работы". Я сказала: "Как из-за тысячи?!". Достала калькулятор. У него был такой шок! Мы с ним так торговались. Я не помню, насколько я претендовала, но он дал мне на пятьсот долларов меньше, но зато сразу, до всяких постановок. То, что я была с калькулятором, знала вся театральная Москва.
Очень часто пьесы просто придумываю, потому что театр – это вообще игрушка, театр не терпит подлинной жизни. Неправильно переносить ситуации из жизни на сцену. Сцена этого не выдерживает. Видимо, закон сцены, как я его для себя сформулировала, много других есть законов сцены, но мой закон сцены – это всегда придуманная история и подлинные чувства.
Для меня карьера состоялась, если публика эмоционально реагировала на спектакль. Если публика плачет, смеется в зале, то я всегда однозначно считаю это успехом. Если это смех не через какие-то низменные инстинкты, а если это вызывает чувство доброе, то я считаю, что это успех».
По материалам программы "Эпизоды"
А вот что Надежда Птушкина рассказывает о себе сама:
Родилась в Ленинграде. Через некоторое время закончила режиссерский факультет Школы-студии при МХАТ. Но жизнь сложилась так, что я имела отношение к театру только как зритель. Случайно в 1982 году Ташкентский русский ТЮЗ поставил спектакль по моей пьесе "Скомороший царь". И так же случайно, внезапно и неожиданно для меня санкт-петербургский театр "Эксперимент" в прошлом сезоне выпустил два спектакля подряд по моим пьесам "Мажор" и "Ненормальная". И я решила, что пора показать пьесы в московских театрах и увидеть, что из этого получится. Меня поразили дружелюбие и доброжелательность всех, к кому я обратилась: В. Силюнаса, А. Смелянского, И. Вишневской, А. Митникова, Г. Заславского, А. Юрикова, Г. Демина. У Силюнаса я училась в Школе-студии, но все другие услышали впервые обо мне от меня самой. Г-н Александр Хомутовский (завлит МХАТ имени Чехова) очень поддержал меня тем, что нашел мои пьесы профессиональными и увлекательными и предсказал мне успех.
Это меня вдохновило, потому что в моем возрасте больше
уже не к чему стремиться, кроме творческого успеха, все остальное позади.
Г-н Хомутовский стал широко показывать мои пьесы театральным режиссерам
и вообще отнесся ко мне, как рыцарь театра к прекрасной даме-драматургессе.
Г-жа Лана Гарон (завлит Театра имени Станиславского) в период моих сомнений
не ленилась ежедневно ставить меня в известность, что я очень талантлива,
и у меня сложилось о ней правильное впечатление как о человеке образованном,
наделенном безупречным вкусом и литературным чутьем. Театр имени Станиславского
как-то мгновенно поставил спектакль по моей пьесе "При чужих свечах".
И мне показалось, что спектакль сделан В. Ланским с любовью к пьесе, азартно
и страстно.
Меня также растрогало и внимание ко мне драматургов. Александр Образцов,
мой друг, по собственной инициативе отнес мою пьесу в театр "Эксперимент".
Только благодаря этому его поступку пьеса была поставлена и сотрудничество
продолжается. Я заканчиваю уже третью пьесу для режиссера В. Харитонова.
Николай Коляда, с которым я не имела чести быть знакома,
вдруг позвонил мне из Екатеринбурга и попросил дать ему почитать мои пьесы.
От радости и с перепугу я отправила ему сразу шесть или семь пьес. Он
их прочел буквально за два-три дня и тут же порекомендовал их Кельнскому
издательству, которое тоже как-то очень быстро, менее чем через неделю,
заключило со мной договор на мировые права на пьесу "При чужих свечах".
Конечно, мне каким-то образом сразу очень повезло на тех людей, с которыми
я столкнулась в общем-то случайно. И только здравый смысл, жизненный опыт
и недоверчивость характера удерживают меня от соблазна начать воспринимать
театр исключительно в розовых тонах.
Вообще, к Театру я отношусь как к мужчине. Любить его можно как угодно
преданно, умно и поэтично, но навязываться не следует. Театр, как и мужчину,
безнадежно убеждать, что ты ему необходима. Но что-то у меня уже с ним
было, и это прекрасно.
Я искренне люблю лесть и похвалы, особенно чрезмерные. И лицемерно соглашаюсь
с любой критикой.
Источник: www.theatre.ru/drama/ptushkina/index.html
Женщины – летчики боевой авиации Израиля
Неожиданно сама собой написалась эта небольшая статья о женщинах-летчицах.
Поводом для написания послужила случайно найденная фотография первой женщины-пилота
Яэль Ром-Финкельштейн. Захотелось узнать о ней, а заодно собрался материал
о прорыве женщин в израильские Военно-воздушные силы.

Яэль Ром-Финкельштейн - первая женщина-летчик израильских ВВС
В израильских Военно-воздушных силах действуют чрезвычайно жесткие критерии
отбора кандидатов в летчики боевой авиации. Уже в первые годы после создания
еврейского государства популярность приобрел лозунг: « Только лучшие –
в пилоты», и он сохраняет свою актуальность и в наши дни. Летчики боевой
авиации образуют своеобразный элитный мужской «клуб» со своими традициями,
обычаями и суевериями, в который «чужаку», а особенно женщине, практически
невозможно было вступить. Однако и здесь израильские феминистки одержали
убедительную победу в ходе многолетней напряженной борьбы за право женщин
служить в армии наравне с мужчинами.
Яэль Ром-Финкельштейн была первой женщиной, ставшей летчиком ВВС Израиля. В 18 лет, после окончания гимназии в 1950 году, она буквально пробилась на курсы пилотов молодежной военизированной организации ГАДНА. На курсе она была одна девчонка среди 30 парней, однако ей удалось стать одной из 3-х выпускников курса, получивших направление в ВВС. Яэль преодолела жесткий отбор в школу пилотов израильских ВВС. В школе пилотов она прошла курс летчиков-истребителей, а также пилотов бомбардировочной и военно-транспортной авиации. Летала на самолетах "Спитфайр", "Москито" и "Дакота".После окончания школы пилотов, Яэль служила летчиком-инструктором в летном училише.
Во время Синайской кампании 1956 года она совершила ряд боевых вылетов в качестве второго пилота на бомбардировщике. В частности, летала на бомбежку Шарм-эль-Шейха в Египте. В 1962 году Яэль демобилизовалась из армии и служила пилотом в гражданской авиакомпании "Аркия". Надо сказать, что в ВВС ей пришлось несладко - в элитном мужском «клубе», в который входят израильские летчики, тогда весьма косо смотрели на девушку за штурвалом самолета...
Принятый в 1958 году Закон о Воинской Службе на многие годы запретил участие женщин в военных действиях, а значит – и службу женщин в боевых частях и в авиации. Для женщин оставались доступными только должности в наземном персонале ВВС – авиатехники и авиаинженеры, офицеры и солдаты служб тыла и аэродромного обслуживания. Женские организации и феминистки продолжали ожесточенную борьбу за право женщин служить в армии наравне с мужчинами. Но подлинный переворот произошел уже в девяностые годы прошлого века и он был связан с именем молодой израильтянки Эллис Миллер, открыто заявившей о своем праве стать летчиком-истребителем израильских ВВС.
21-х летняя Эллис Миллер была готова на равных соревноваться с мужчинами за право на ношение «серебрянных крылышек» («серебрянные крылья» - нагрудный знак выпускника школы летчиков боевой авиации Израиля) – для этого у нее были все основания: она успешно закончила факультет аэронавтики хайфского Техниона и курсы летчиков-спортсменов. Однако когда в 1994 году она обратилась к командованию ВВС с просьбой допустить ее к экзаменам в Академию Военно-воздушных сил на курс летчиков-истребителей, то получила отказ. Командование мотивировало его тем, что все потенциальные кандидаты в летчики ВВС обязаны подписать контракт на многолетнюю кадровую службу в рядах ВВС, но замужество и последующие роды не позволят женщине полноценно выполнять договорные обязательства.
Отказ не остановил Эллис. Она продолжила свою борьбу за право стать летчиком-истребителем, получив всемерную поддержку со стороны израильских феминистских организаций. В течении двух лет Эллис прошла все инстанции, однако даже встреча с президе-нтом Израиля Эзером Вейцманом не помогла ей. Эзер Вейцман, в прошлом военный летчик и главком ВВС, никогда не был в восторге от идеи увидеть женщину за штурвалом самолета. Когда Эллис Миллер обратилась к нему с просьбой о содействии ее планам стать воен-ным летчиком, Эзер Вейцман сказал ей: « Девочка, я с тобой не согласен. Ты когда-нибудь видела, чтобы мужчина вязал носки?» Высказывание Вейцмана подверглись широкой критике. Его обвинили в сексизме и предвзятости в вопросе положения женщины в израильском обществе.
В ноябре 1995 году Верховный Суд Израиля удовлетворил иск Эллис Миллер. Своим решением Верховный Суд внес изменения в Закон о Воинской службе, разрешившие жен-щинам службу в боевых частях, а также учебу в офицерских школах летчиков и морских командиров. В 1997 году Эллис Миллер стала первой девушкой-кадетом летного курса Академии Военно-Воздушных сил. Однако стать летчиком-истребителем ей так и не пришлось – она была отчислена с курса, так как не справилась с летными перегрузками..Успешная борьба Эллис Миллер открыла путь в боевую авиацию другим девушкам. Вскоре кадетами Военно-воздушной академии стали сразу три девушки: Сара, Моран и Наама.( фамилии их неизвестны, поскульку в Израиле военная цензура запрещает публиковать личные данные офицеров боевых частей). Они успешно закончили Военно-воздушную академию и стали штурманами истребителей-бомбардировщиков F-16. Сара, первой получившая диплом штурмана, выполняла боевые вылеты в 2000 году, прикрывая с воздуха израильские войска, выходившие из Ливана.

Лейтенант Рони Цуккерман - первая женщина летчик-истребитель израильских ВВС
21 ноября 2001 года произошло знаменательное событие – завершила учебу
в Военно-воздушной академии и стала летчиком-истребителем лейтенант Рони
Цуккерман. На торжественной церемонии кадетов-выпускников Главком
ВВС генерал Дан Халуц и начальник Генштаба генерал Шауль Мофаз вручили
ей заветные «серебрянные крылышки» летчика израильских ВВС. Рони Цуккерман
родилась в 1980 году в кибуце, отец ее инженер, мать – микробиолог. У
этой семьи славные боевые традиции: дедушка и бабушка Рони, Ицхак (Антек)
Цуккерман и Цивья Любеткин – герои Восстания в Варшавском гетто. Бабушка
Рони, Цивья Любеткин, была свидететелем обвинения на судебном процессе
в Иерусалиме над нацистским военным преступником Эйхманом.
После окончания Военно-воздушной академии, Рони в течении двух лет служила пилотом истребителя-бомбардировщика F-16. На ее счету много боевых вылетов, в ходе которых она наносила ракетно-бомбовые удары по целям противника. Затем, как пищет газета «Маарив», она стала летчиком-инструктором в Военно-воздушной академии, сочетая преподавательскую деятельность с боевыми вылетами. Один из руководителей Академии говорит: «Только лучшие из летчиков могут заслужить право учить будущих пилотов и Рони, безусловно, отвечает всем этим требованиям. Она действительно выдающийся летчик, она преуспела в своей летной работе, и нет сомнения, что ее ждет успех и в деле подготовки молодых летчиков для израильских ВВС»
Источник: www.jewniverse.ru/biher/AShulman/40.htm
Анна Выровлянская
В недавно завершившемся в Бонне Бетховенском фестивале-2008 участвовала
и наша «двойная» землячка Анна Выровлянская – «русская»
израильтянка, работающая ныне в Германии. Такое «смешение кровей» - России,
Израиля и Германии - мне показалось интересным, да и Анна, родившаяся
в городе на Неве, девчонкой перебравшаяся с родителями в Израиль и отслужившая
там в армии, оказалась человеком действительно талантливым и неординарным.
Она – обладательница ряда престижных национальных и международных премий
(«Молодые голоса» Израиля, 2003), "Neue Stimmen" в Гютерсло
(2003), музыкальных наград в Базеле и Бельведере, приза Земли Северная
Вестфалия 2006 года, а ее имя как молодой исполнительницы занесено в престижный
ежегодник Opernwelt Jahrbuch 2006.

Анна, давай начнем с фестиваля. Твои впечатления о нём, хотя бы вкратце?
"Немецкую симфонию" Азлера я никогда ещё не пела, да и слушать ее не приходилось, так как исполняется она достаточно редко. Это произведение политическое, написано на тексты Бертольда Брехта. В своё время они были очень актуальны и дают возможность почувствовать атмосферу в Германии между Первой и Второй мировыми войнами (симфония написана в 1935 году). Тексты очень тяжёлые: о бедности, голоде, разрухе, о социальном неравенстве между бедными и богатыми. Исполнять такую музыку нелегко, особенно если представить себя на месте этих людей, зная, что их ожидало через несколько лет.
Ты говоришь о трудностях, которые ожидали немцев, так?
Да, конечно. В музыке мне приходится вживаться в самые разные роли, и каждую надо как бы «примерить» на себя. На фестивале я пела о немецких солдатах: "Посмотрите на наших сыновей, лежат они, замёрзшие, у танка… Даже у злобного волка должна быть нора, чтобы скрыться в ней, спрятаться… Согрейте их, им холодно, им холодно...".
Это пела ты, еврейка из России, о немецких солдатах…
Да, это пела я, у которой оба дедушки воевали в Великую Отечественную, да и в Израиле я часто встречала людей с лагерными номерами на руках... Для того, чтобы это спеть, надо внутри себя найти некое прощение, понимание того, что мы отличаемся лишь тогда, когда мы живы, а между мертвыми разницы нет, ведь у каждого из них была мать, жена, сестра, которые их не дождались... Несмотря на сказанное выше, я фестивалем осталась довольна, поскольку мне представилась возможность пройти этот нелегкий путь...

Место твоей сегодняшней работы – Боннская опера. Расскажи, пожалуйста, о репертуаре, коллегах.
Коллег в опере много и все они - из разных стран (Америка, Исландия, Австрия, Россия, Турция, Израиль, Грузия). Мы все действительно очень разные - не только из-за национальности или страны рождения. Скорее, роль здесь играет индивидуальность каждого – именно ею мы публике и интересны, потому что штампы никому не нужны, каждый обязан быть самим собой, а там – кому как повезет. Репертуар - самый разнообразный: музыка времён Барокко (Вивальди, Гендель), Моцарт во всех своих проявлениях, конечно, Пуччини и Верди. Всё очень разнообразно и интересно, поскольку приглашают дирижёров, специализируюшихся на определённом стиле музыки. В общем, и мне, и моим коллегам учиться всегда есть чему.
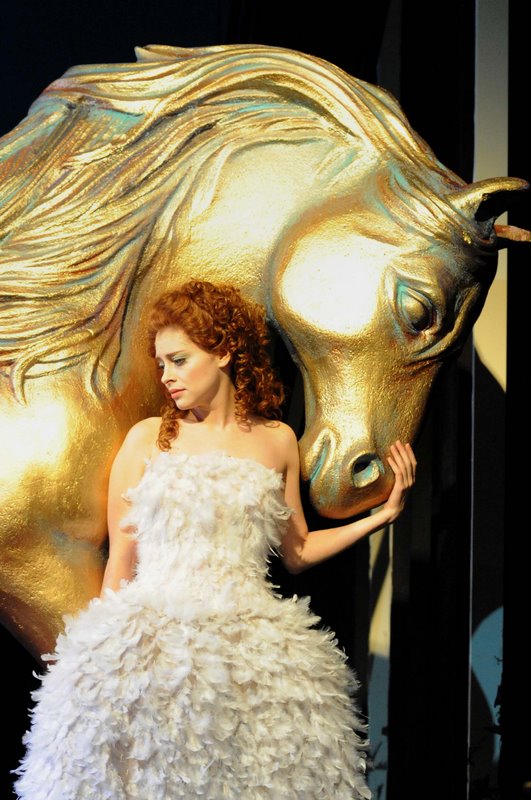
А как ты оказалась в Бонне? И почему?
Попала я в Бонн случайно, но всё же сделала немало для того, чтобы мне повезло.
 |
 |
Расшифруй, пожалуйста...
Меня заметили на конкурсе "Новые голоса" в Гютерсло (Германия) и пригласили на прослушивание. Прослушивалась я в разных театрах и с переменным успехом – кому-то понравилась, кому-то – не очень. Да еще при этом требовалось, чтобы в театре была вакансия, да и еще немало факторов должны совпасть для того, чтобы оказаться «в нужное время в нужном месте». Это почти лотерея, но выкладываться надо на все 100 процентов – лишь в этом случае у тебя есть шанс. Мой голос - самый распространённый (лёгкое лирическое сопрано), так что конкурс был большой. В Бонне меня прослушивал главный дирижёр Роман Исаакович Кофман. Он сразу взял и меня, и Иру Окнину (она пришла из студии Г. П. Вишневской). Я думала, что попасть в оперу - это самое сложное, но, как вскоре выяснилось, работа только начиналась. Ведь я до этого на большой сцене пела лишь одну из шести гризеток в оперетте "Весёлая вдова". А в Бонне первой же моей ролью уже была Норина («Дон Паскуале» Доницетти) - полноценная главная партия. И потом - Памина («Волшебная флейта» Моцарта).

А на каком языке ты поешь, Аня?
Я же в Германии – естественно, на немецком. С тех пор спела много разных партий и всё время продолжаю учиться - и пению, и актёрскому мастерству, и языкам, и стилям. Понимаю, что это необходимо. И еще понимаю: как только остановлюсь - сразу же начну откатываться назад.
Расскажи, пожалуйста, о детстве, - остается ли твоим любимым городом Питер или твое детство связано уже с Израилем?
Когда мы приехали в Израиль, мне было 11 лет. Ленинград я хорошо помню. Это один из красивейших городов в мире, но детство и юность мои прошли в Израиле. И отслужила положенный срок в Армии обороны Израиля. Я люблю эту страну, я была и остаюсь ее частичкой, даже живя в Бонне.

Как ты пришла к музыке, пению, когда это началось? «Виноваты» ли в этом родители, бабушки-дедушки? Расскажи о них хотя бы кратко – кто они по профессии, когда и почему решили уехать в Израиль?
Петь я начинала в Ленинградском хоре радио и телевидения, потом в Израиле искали кого-то, кто мог бы спеть попурри на темы русских песен на детском фестивале. Я спела и после этого мне дали стипендию, чтобы я могла брать уроки пения. Вот так, с 12 лет я и беру уроки пения - как минимум, раз в неделю, уже 18 лет (училась в Иерусалимской музыкальной школе при Академии музыки и танца, а потом, после службы в армии, - и в самой Академии). Учиться пению - процесс бесконечный, идеал здесь недостижим, слушать свои записи не люблю, из выступлений за год нравятся мне самой всего несколько, но на работу (даже не могу это работой назвать) я не иду, а лечу на крыльях мечты, хотя никогда не делала сознательного выбора в пользу пения (только когда уже решила учиться в Академии) - просто так получилось. Мои родители и бабушки всегда были связаны с музыкой, но как любители. По профессии они инженеры, но до сих пор в нашей семье продолжаются горячие споры, в кого я такая талантливая уродилась... (шучу, конечно). Как и у всех репатриантов, у нас по приезде в Израиль всё перевернулось с ног на голову - без денег, без языка, без профессии (процесс переквалификации родителей занял года два). В общем, начинали всё с нуля. Всё это, как ни странно, сформировало меня как человека достаточно стойкого и работоспособного. Музыка стала для меня и отдушиной, и языком, который все понимают без перевода.
А Роман Исаакович Кофман, о котором ты рассказала, откуда приехал в Германию? Он не «по блату» тебя принял, как свою, «русскую»?
Романа Исааковича до приезда в Бонн я не знала и никто меня ему не рекомендовал. Но, возможно, то, что я родилась в Pоссии, сыграло свою роль (он планировал постановки русских опер в Бонне). Понравиться дирижеру или залу - вообще вещь очень субьективная: кто-то после моего выступления рукоплещет и несет цветы, а кто-то фыркает недовольно или просто молчит. Но, кстати, если кого-то и рекомендуют, то это уже, считай, своеобразный "первый тур" конкурса за место – особенно если рекомендует, например, Зубин Мета. К его мнению, конечно, прислушаются, но, опять же, его мнение – это еще не всё, поскольку требуется еще самая малость - надо уметь петь. У меня сейчас за год 50-60 выступлений в 5-6 разных постановкaх, и каждый раз петь надо так, чтобы зрители приходили именно на твои постановки, послушать именно тебя. Только так можно удержаться в театре.
Скучаешь ли ты по дому, по маме с папой? Что чувствуешь, когда слышишь о каком-то теракте в Израиле?
По родителям, конечно, скучаю, стараюсь приезжать домой почаще, но пока что это получается только летом, по окончании театрального сезона. А теракты... Как только слышу что-то подобное, сразу думаю, кого это могло задеть, сразу звоню домой, чтобы узнать, всё ли в порядке. В последнее время, слава Богу, терактов стало меньше, да и обстреливать Сдерот стали меньше. Конечно, статистика войн в Израиле оставляет желать лучшего, но как только в результате «мирного процесса» Израиль идет на очередные уступки, противная сторона требует большего, - и снова гремят взрывы. Словом, замкнутый круг...
Что сейчас в твоем репертуаре – назови любимые роли и те, которые ты хотела бы спеть, но пока не удается.
Любимие мои партии - Сюзанна из «Женитьбы Фигаро», Софи
(«Кавалер роз») и Музетта («Богема»). В будущем хотела бы спеть Травиату
и Дездемону (Верди). На мой взгляд, это красивейшие драматические роли.
Что бы ты пожелала «русским» израильтянам, американцам и всем твоим бывшим
землякам?
Леонид, даже не знаю, что кому пожелать. Откуда мне знать, что кому нужно?
А желать всем нам мира и спокойствия – банально. В общем, пусть каждый
сам для себя решает, что ему важнее.
Автор: Леонид Школьник, «МЗ»
Источник: http://www.newswe.com/index.php?go=Pages&in=view&id=782
Фотографии к этому интервью –
с сайта Анны Выровлянской http://www.annaviro.com/index2.html
и из домашнего альбома семьи Выровлянских из ишува Ган-Нер (Израиль)
Женские лица
Ученые из университетов Глазго и Хертфордшира провели эксперимент, указывающий на то, что женские лица более «информативны», чем мужские. Иными словами, глядя на лицо женщины, можно с довольно большой долей вероятности определить кое-какие черты ее характера, в том время как мужские лица почти абсолютно непроницаемы.
В рамках исследования были проанализированы фотографии анфас 1000 читателей журнала New Scientist. Участники эксперимента также заполнили анкету, в которой их просили оценить четыре свойства своего характера – чувство юмора, религиозность, надежность и удачливость.
Различные фотографии были скомбинированы таким образом, что возникли «усредненные» портрет людей, которые считают себя очень везучими и очень религиозными, или очень надежными, но напрочь лишенными чувства юмора. Далее участников эксперимента попросили определить по фотографиям вышеназванные свойства характера.

Выяснилось, что среди женщин определение степени удачливости на основании внешнего вида безошибочно в 70% случаев, а определение степени религиозности – в 73% случаев. Что касается надежности, то наличие этого свойства у женщин тоже можно угадать с неплохой степенью вероятности – 54%. А вот наличие или отсутствие чувства юмора у женщин никак нельзя определить. Что же касается мужчин, то ни одно свойство их характера не удалось узнать на основании фотографий.
Исследователи не исключают, что дело может быть не только в более «прозрачной» внешности женщин, но и в том, что они более искренне и более точно оценивают свои качества. Так или иначе, ученые выражают надежду, что данное исследование станет важным этапом на пути к выяснению связи между внешним видом и характером человека – ведь и то, и другое отчасти генетически предопределено.
Источник: http://news.israelinfo.ru/health/28300
Рутка Ласкер – польская Анна Франк
В НАЧАЛЕ 2006 ГОДА ВО МНОГИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ И НА НОВОСТНЫХ САЙТАХ
ПОЧТИ НА ВСЕХ ОСНОВНЫХ ЯЗЫКАХ МИРА, НАЧИНАЯ ОТ ПОЛЬСКОГО И ИВРИТА И КОНЧАЯ
ИСПАНСКИМ, АНГЛИЙСКИМ, РУССКИМ И ГРЕЧЕСКИМ, ПОЯВИЛОСЬ СООБЩЕНИЕ ОБ УДИВИТЕЛЬНОЙ
НАХОДКЕ – ДНЕВНИКЕ 14-ЛЕТНЕЙ РУТКИ ЛАСКЕР, ЕВРЕЙКИ ИЗ НЕБОЛЬШОГО ПОЛЬСКОГО
ГОРОДА БЕНДЗИН, ПОГИБШЕЙ В ОГНЕ ХОЛОКОСТА.
Я ПОЛАГАЮ, ЧТО ЧИТАТЕЛИ «МЗ» ХОРОШО ЗНАКОМЫ С ДНЕВНИКОМ АННЫ ФРАНК И КНИГОЙ
ЕЕ СВОДНОЙ СЕСТРЫ ЕВЫ ШЛОСС. СЕГОДНЯ Я С ПОМОЩЬЮ ИЗРАИЛЬТЯНКИ ЗАХАВЫ ШЕРЗ
(ЛАСКЕР), СВОДНОЙ СЕСТРЫ РУТКИ ЛАСКЕР, ПОЗНАКОМЛЮ ВАС С ИСТОРИЕЙ ЖИЗНИ
И ГИБЕЛИ РУТКИ. ДЛЯ ЭТОГО Я ПРОВЕДУ С ЗАХАВОЙ РЕАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ, А С РУТКОЙ
ЛАСКЕР И СПАСИТЕЛЬНИЦЕЙ ДНЕВНИКА ПАНИ СТАНИСЛАВОЙ САПИНСКИ - ВИРТУАЛЬНЫЕ
ИНТЕРВЬЮ, СОСТАВЛЕННЫЕ ИЗ ИХ ВОСПОМИНАНИЙ И ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЕЙ.
(Эти интервью с пани Сапински и Руткой сделаны по английским текстам. Для меня главным в переводе на русский язык было сохранение смысла и выразительности текста при максимальном приближении к оригиналам).

Рутка Ласкер. Такой она была...
Речь идет о небольшом дневнике – о шестидесяти рукописных
страницах, в которых описаны всего четыре месяца из жизни еврейской девочки
Рутки Ласкер. Это были 4 месяца в Польше, оккупированной фашистской Германией,
4 месяца между жизнью в гетто и смертью в Освенциме.
Но прежде чем перейти к интервью, хочу познакомить вас с городом, в котором
развивались события, описанные в дневнике Рутки.
Краткая справка о Бендзине
БЕНДЗИН, город в Силезском воеводстве (Польша). Первыми евреями-поселенцами (в XIII веке) были купцы, бежавшие из Испании и Франции; за ними последовали евреи, гонимые из Германии. Во время революции 1905 г. Бендзин стал центром еврейского и польского социалистического движения. После Первой мировой войны многие евреи Бендзина работали в горнодобывающей и металлургической промышленности. В 1939 году еврейская община насчитывала чуть более 25 000 человек (почти 50% населения Бендзина). 4 сентября 1939 г. Бендзин был захвачен немецкой армией. Пять дней спустя, 9 сентября 1939 г., гитлеровцы при поддержке местных немцев и поляков сожгли синагогу почти с 200 молящимися в ней евреями.
Немцы широко использовали еврейский труд на шахтах и
заводах: в 1942 г. более 50 тыс. евреев Силезии работало на предприятиях
немецкой промышленности. Их положение было несколько лучше, чем в других
районах Польши: евреи-рабочие были необходимы для нормального функционирования
этих преприятий. Но, несмотря на это, в мае-августе 1942 г. тысячи евреев
Бендзина были высланы в Освенцим. Гетто появились здесь позже, чем в других
районах Польши: оно было создано в январе 1943 . В гетто действовала организация
Сопротивления, которая была связана с еврейским подпольем Варшавы. 1 августа
1943 г. началась ликвидация гетто Бендзина, а 3 августа в нем вспыхнуло
восстание, во время которого погибла известная еврейская партизанка Фрумка
Плотницкая.
После Второй мировой войны сведения о евреях в Бендзине отсутствуют.
Из виртуального интервью со Станиславой Сапински
В январе 1943 вся семья Рутки – мать, отец и брат - были переселены в гетто, а точнее – в наш дом, который нацисты конфисковали, потому что он входил в черту, отведенную под гетто. Я посещала этот дом (тогда гетто было еще открытым) для проверки его состояния. Во время моих визитов я познакомилась с Руткой, и мы – 14-летняя еврейка и 20-летняя полячка-христианка - крепко подружились. Вспоминаю, что Рутка хорошо ориентировалась в положении на фронтах и, похоже, знала, что представляет собой «окончательное решение еврейского вопроса».

Станислава Сапински
Понимая, что может погибнуть, Рутка поделилась со мной тайной: рассказала о существовании дневника и попросила помочь его сохранить. И мы решили спрятать его в подполье дома, в котором она проживала. После войны наша семья вернулась в свой дом, я нашла дневник и оставила себе. Пока, наконец, в 2006 году по настоянию моего племянника я не решилась его передать журналисту Адаму Шидловскому, имеющему тесные связи с Еврейским культурным Центром в Заглембе. С этого момента началось быстрое продвижение дневника Рутки...
Жить и не забывать
На мои вопросы отвечает живущая в Израиле сводная сестра Рутки Ласкер, доктор философии Захава Шерз из научно-исследовательского института имени Вейцмана (Реховот).
- Захава, расскажите, пожалуйста, как вы «встретились»
с Руткой?
- Как ребенок польских евреев, которым удалось выжить, несмотря на жестокости
Второй мировой войны, я была хорошо осведомлена о Холокосте. Но вот однажды,
когда мне было 14 лет, я случайно наткнулась на красный фотоальбом, который
хранился в доме родителей. В этом альбоме были собраны фотографии семьи
моего отца, Якова Ласкера, все члены которой погибли в огне Холокоста.
Всё, что я раньше знала об этой семье, относилось к довоенному периоду:
мой отец, его четыре брата и четыре сестры принадлежали к обеспеченной
и всеми уважаемой еврейской семье.
Среди фотографий была одна, которая привлекла мое внимание: на ней была

Рутка и Йохим
изображена девочка, обнимающая маленького мальчика. На вид ей было около восьми лет. С тяжелым сердцем я обратилась к моему отцу с вопросом: «Кто эти дети и кто эта девочка, так напоминающая меня?». И тогда впервые мой отец рассказал мне о Рутке и о Йохиме, детях его первой жены Двойры Хемпель. Все они погибли в Освенциме.
- Это правда, что вы выбрали для своей дочери имя Рут
задолго до того, как вы узнали о существование дневника Рутки?
- От отца я узнала, что когда Рутка погибла, ей было 14 лет, ровно столько
было и мне когда я обнаружила ее фотографию. Это известие очень взволновало
меня и как-то по-особому повлияло на мою жизнь. С тех пор Рутка стала
мне настолько близка, что мы с мужем решили в память о ней назвать нашу
дочь Рут. Я была единственным ребенком, а теперь я узнала, что у меня
была старшая сестра. Пустота внезапно оказалась заполнена, я сразу полюбила
Рутку.
- Когда вы прочли ее дневник?
- Моя жизнь круто изменилась в 2006 году, когда весь мир и я, в том числе,
узнали, что Рутка во время войны вела дневник, который недавно был опубликован.
На его страницах я впервые встретилась с ней: очень талантливой и привлекательной
девушкой, которая, сознавая, что она может не выжить, хотела запечатлеть
события тех дней, в надежде, что будущие читатели ознакомятся с ее жизнью
и поймут ее смерть.
Когда дневник был издан сначала в Польше, а затем и в Израиле, его появление
было оценено как новое слово в освещении еврейской жизни в годы Холокоста.
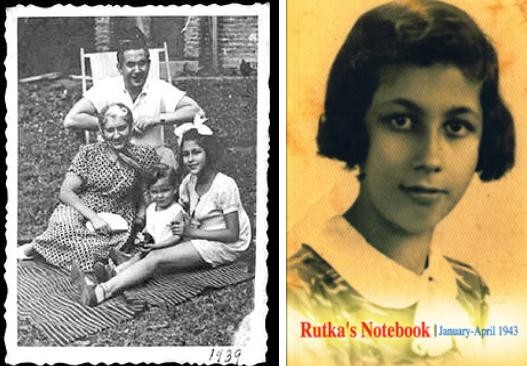
Рутка с семьей; «Дневник» Рутки издан на английском языке, а Рутка делала записи по-польски (странички рукописи - на нижнем фото)
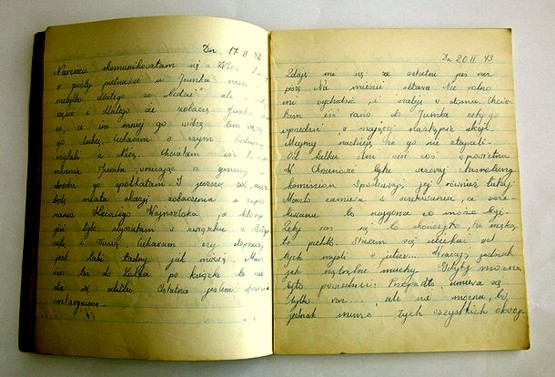
- Пресса сразу назвала Рутку польской Анной Франк. Насколько
схожи, по вашему мнению, дневники Рутки и Анны?
- Несмотря на то, что дневник Рутки намного короче дневника Анны, описание
событий Руткой, так же, как проза Анны, переносит читателя в самую гущу
жизни еврейских подростков на территориях, оккупированных нацистами. Это
мир, в котором жизненное пространство подростков (да и евреев в целом)
все время сокращается до тех пор, пока оно не сводится к конечной остановке
– Освенциму.
- Что еще вы хотели бы сказать о дневнике Рутки?
- Он был написан в 1943 году в так называемом «открытом» еврейском гетто.
Аккуратный почерк рукописи гармонично сочетается с сочным выразительным
языком, что позволило Рутке зафиксировать с удивительной точностью 4 месяца
из полной тревог жизни еврейской общины Бендзина. Рутка описывает ту трудную
и сложную ситуацию, в которой она оказалась – гонения и преследования,
ограничения и запреты со стороны гитлеровцев, а также будни взрослеющей
девочки: размышления о жизни, мечты о мальчике-друге и список прочитанных
книг.
- Как польские тинейджеры относятся к дневнику Рутки?
- Недавно в одной из городских школ Бедзина я встречалась с восьмиклассниками,
которые изучали дневник Рутки с последующей разработкой проекта «По стопам
Рутки Ласкер». Я слушала, как школьники цитировали целые абзацы из дневника
моей сестры и с любовью и состраданием объясняли свой выбор. Более того,
они сказали мне, что они чувствуют свою близость к Рутке и что язык дневника
и поведение самой Рутки очень похожи на язык и поведение современных девочек-тинейджеров.
Я никогда не забуду этот визит, который еще раз доказал, как много могут
значить ее слова для нового поколения поляков.

Захава Шерз (Ласкер)
- Что, по вашему мнению, надо сделать, чтобы не повторилась
трагедия Второй Мировой войны?
- Мы должны чтить память всех погибших от расовых или политических преследований.
И чтить их ежедневно, а не только в Дни памяти жертв Холокоста. Мы не
должны бояться их чтить и вспоминать и, что еще более важно, мы обязаны
рассказывать нашим детям о нашем прошлом. В связи с этим я приветствую
предложение президента Франции Николя Саркози учредить национальную образовательную
программу «Холокост». Он абсолютно прав, что игнорирование Катастрофы
европейского еврейства может быть причиной повторения этого омерзительного
и ужасного явления – независимо от того, базируется оно на антисемитизме
или на любой другой ненависти к людям. Все страны должны последовать примеру
Франции и найти новые пути не только чтить и не забывать свое прошлое,
но и учить людей толерантности.
- Какое влияние на молодое поколение, а также на взрослое
население, могут оказать дневники жертв Холокоста?
- В наше время, когда, к сожалению, геноцид в ряде стран мира остается
жестокой реальностью, дневники Рутки Ласкер, Анны Франк и других остаются
постоянным напоминанием о святости каждой жизни и о тех, кто погиб в результате
массовых преступлений.
- Какое послание человечеству несет дневник вашей сестры Рутки?
- Я уверена, что если бы моя сестра была жива и смогла обратиться к нам
сегодня, она вдохновила бы нас ни на минуту не забывать о горьких плодах
расового и политического фанатизма и сделать всё возможное, чтобы наши
дети хорошо запомнили этот урок. И я позволю себе еще раз повторить, что
в этом смысле Рутка по-прежнему будет жить, чтобы вновь и вновь рассказывать
нам поучительную историю своей жизни на трогательных страницах своего
дневника.
Жестокие будни гетто
Из воображаемого интервью с Руткой Ласкер
(по материалам ее дневника)
- Рутка, расскажи, пожалуйста, как вам живется.
- Во-первых, я не могу представить, что уже 1943 год – значит, прошло
четыре года, как начался этот ад. Дни, похожие один на другой, просто
летят. И каждый из них - такой же морозный и такой же ужасно тоскливый.
(Это - первая запись в дневнике, сделанная 19 января 1943 года. Запомните,
пожалуйста, эту дату - С.Р.). Во-вторых, вспоминаю 12 августа 1942 года,
стадион еврейского спортклуба «Хакоах». Мы (отец, мама, брат и Рутка -
С.Р.) поднялись рано и уже в 5:30 утра направились на стадион. Тысячи
человек шли в том же направлении. В шесть тридцать мы были на месте. Почти
до 9 все были относительно спокойны. В это время я увидела, что за забором
расположились солдаты с пулеметами, направленными в нашу сторону – на
случай, если кто-нибудь попытается уйти. Было очень жарко. Люди страдали
от жажды, но вокруг не было и капли воды. Кто-то падал в обмороке, дети
кричали. Одним словом - Судный день.
В 3 часа дня началась селекция: одних отправляли домой,
других - на работу, третьих ожидала депортация, иными словами – смерть.
Нашу семью вызвали в 4 часа. Маму, папу и братика отправили домой, а меня
направили на работу (и не отпустили домой - С.Р.). Я просто остолбенела:
это направление было даже хуже, чем депортация (так показалось Рутке в
тот день - С.Р.).
Между тем селекция продолжалась. Самое странное, что мы не плакали, ну
совсем не плакали! Мне трудно описать словами, что творилось на стадионе.
Вдруг пошел дождь. Дети лежали на мокрой траве, полицейские били людей
и даже стреляли в них.
Чуть не забыла добавить: я видела, как солдат оторвал от матери младенца
(всего несколько месяцев) и ударом об электрический столб размозжил ему
голову. Мозги ребенка растеклись по дереву. И мать сошла с ума.
- А как ты спаслась ?
- Я просидела до часу ночи, а затем выскочила через окно и убежала. Мое
сердце так колотилось, что казалось вот-вот выскочит. Когда я оказалась
на улице, то столкнулась с кем-то в форме, я почувствовала, что больше
не выдержу. Голова пошла кругом. Я была уверена, что он меня изобьет,
но он, очевидно, был пьян и поэтому не увидел моей желтой звезды и отпустил.
Скоро я была дома. (Так Рутке удалось соединиться с семьей - С.Р.)
- Слушай, это же так страшно, а ты еще выходишь на улицу?
- Да, надо быть очень смелым, чтобы выходить из дома. Но что- то сломалось
во мне. Когда я прохожу мимо немцев, во мне все сжимается. То ли от страха,
то ли от ненависти. Я бы хотела их всех пытать, бить, душить...решительно
и энергично
- Послушай, Рутка, и ты не просила помощи у Бога?
- Я записала в дневнике:
«О мой Бог! Послушай, Рутка, ты что, совсем сошла с ума? Ты обращалась
к Богу так, будто он существует. Если бы Бог был, он бы не допустил, чтобы
живого человека кидали в топку, головы младенцев разбивали прикладами
или их запихивали в мешок и умерщвляли в газовых камерах. На моих глазах
старого человека избили до потери сознания только за то, что он неправильно
перешел улицу. Это звучит как страшная сказка. Тот, кто это не видел,
никогда этому не поверит! Но это не моя выдумка, это все - правда!» (Какие
провидческие слова в эпоху, когда как грибы после дождя плодятся отрицатели
Холокоста - С.Р.)
- Как в это тяжелое время строятся твои отношения с родителями?
- Ничего особенного. Все как обычно, кроме того, что мама часто расстраивается
и кричит на меня из-за брата, Этот маленький интриган очень сладок и в
тоже время иногда бывает просто невыносим. Вообще отношения с мамой становятся
все более сложными. Недавно она меня видела в компании друзей (Юмек, Метек
и Мика) и всё пыталась добиться от меня «отчета» об этой встрече. Она
никак не может понять, что мне очень трудно открыться ей. Даже с подругой
я не могу быть до конца открытой. Но все равно я еще сильнее люблю своих
родителей, хотя иногда они бывают весьма придирчивы, и это очень обидно.
- Как ты проводишь время со своими друзьями?
- Вчера, например, ко мне пришла Мика. И мы отправились погулять. Она
мне нравится. Отношения с Мулеком опять осложнились - ему кажется, что
за ним следят. Я с ним об этом поговорю... Я также должна уладить отношения
с Янеком. Я скажу ему, что если он хочет быть моим другом, он должен быть
вовремя, иначе ...adios! Посмотрю-ка я на выражение его лица.
Кто-то сказал, что я постригла волосы, чтобы понравиться Янеку и что для
этого я даже надела шелковые чулки. Это сплошная ложь. Можно подумать,
что он меня интересует.
(Обычный разговор подростков, необычен он только тем, что идет война и
что все эти подростки – узники гетто - С.Р.)
- А как ты оцениваешь своих друзей? Вспомни, как ты писала
об одном мальчике.
- Да, я писала, что он противный, что он один из тех, кто может убить
тебя в белых перчатках. Что для него важны выглаженные брюки и красивые
ножки девочек. Во всяком случае, он точно не коммунист. (Эта запись Рутки
звучит так: раз он не коммунист, значит - плохой! Рутка еще раз упоминает
о коммунистах в положительном смысле, говоря о том, что она скоро начнет
работать, она пишет: «Я хочу научиться работать. Это не совместимо - быть
коммунистом и не работать!». Трудно сказать что-либо о каких-то особых
связях Рутки с коммунистами: упомянутое выше - единственные записи в дневнике,
касающиеся коммунистов - С.Р.)
- Кстати, как ты относишься к Янеку?
- Думаю, что я очень ему нравлюсь, но это для меня не имеет никакого значения.
Как-то раз я спросила его, приятно ли целоваться. Он засмеялся и сказал,
что ему это тоже интересно ... но я не позволю ему меня целовать. Я боюсь,
что это расстроит что-то прекрасное, чистое.
- Что же было дальше?
- Немного спустя Янек проговорился – он хотел бы меня поцеловать. Я ответила:
«Может быть» и продолжила разговор. И еще я добавила: «Я бы, возможно,
позволила себя поцеловать только тому, кого бы полюбила, а он мне безразличен».
- Рутка, но это не совсем так. Вот ты пишешь, что давно
не видела Янека и признаешься, что соскучилась по нему. Значит, он всё
же тебе нравится?
- Очень трудно в себе разобраться. Я пытаюсь себя убедить, что не влюблена
в Янека, а в то же время я скучаю по нему, а иногда даже страдаю, если
давно не вижу его и не слышу его голос. И сожалею, что бываю с ним так
холодна.
- Ты даже написала об этом стихи... О Янеке... О первом поцелуе...
- Я делаю вид, что он мне безразличен, а в действительности мне трудно
без него. И еще я решила позволить Янеку поцеловать меня. В конце концов,
кто-то будет первым, кто поцелует меня, так пусть это будет Янек, он действительно
мне нравится.
| Что было вчера, то ушло, Что было вчера. Я осталась одна вечером на поле Мои тревоги внезапно исчезли. Когда это было? Вчера? Его губы поцеловали меня, Поцеловали меня. |
- Конечно, он тебе нравится, это же ему ты в дневнике объяснилась в любви
(К сожалению, он, похоже, об этом так и не узнал - С.Р.) «Да, Янек, я
влюбилась в тебя, но я сделала одну непростительную ошибку - я влюбилась
в тебя, когда ты ушел. Я верю, ты тоже любишь меня, но ты очень горд,
чтобы вернуться. Это случилось в гостях у Юмека: ты сказал, что идешь
ко мне, а Юмек вдруг заявил: «Не спеши, Рутка сказала, что она не очень
довольна твоими визитами!». Ты побелел и был очень насуплен весь вечер.
Янек, маленький глупышка, ты обязательно придешь ко мне. Р.»
Рутка – о себе, о книгах и любви
- А что ты можешь сказать о себе? Кстати, ты недавно
была у фотографа. Ты осталась довольна снимком?
- Обычно на фотографиях я получаюсь не очень хорошо. В жизни я очень даже
красивая, привлекательная: высокая, со стройными ногами и очень тонкой
талией. У меня длинная ладонь, большие черные глаза, густые брови и длинные
ресницы, даже очень длинные. Черные, подстриженные коротко волосы, маленький
курносый нос, красивое очертание губ и белоснежные зубы. Вот я и описала
свой портрет.
Для его полноты я опишу еще мои духовные качества. Говорят, что я умная,
образованная. Но бываю иногда взбалмошная.
- И в чем выражается твоя взабалмошность?
- Я, наверное, эксцентрична и, бывает, веду себя вызывающе – мне нравится
говорить людям в глаза то, что я думаю о них, хотя это не рекомендуется
делать публично. Иногда, когда я в плохом настроении, я открываю свой
рот, чтобы кого-то ужалить, но я так поступаю редко, поскольку физические
раны заживают быстро, а моральные продолжают долго кровоточить.
- А книжки ты любишь читать? Если да, то что ты сейчас читаешь?
- Я читаю прекрасную книжку «Юлиан Вероотступник» и еще Анджея Струга
«Могила неизвестного солдата». Эти книги отражают мои мысли..... Я хочу
полностью погрузиться в хорошие философские книги, одна из которых полностью
совпадает с моим настроением - это «Голем» Густава Майринка. [И вообще]
....Мне нравится думать о жизни после смерти и о других непостижимостях.
- Что-то еще о себе хочешь сказать?
- Но это уже совсем по секрету: мне кажется, что во мне просыпается женщина.
Вчера, когда я принимала душ и струи воды били по моему телу, мне захотелось,
чтобы чьи-то руки касались меня... я не знаю, что это было. Я до этого
никогда не испытывала таких ощущений.
- Рутка, почему ты сегодня такая грустная?
- Петля вокруг гетто становится все туже и туже. В следующем месяце мы
будем в настоящем, окруженном стеной гетто. Летом будет невыносимо сидеть
в этой серой замкнутой клетке. Я настолько переполнена жестокостями войны,
что даже самые плохие вести не трогают меня. Мне просто не верится, что
придет день, и я смогу выйти из дома без желтой звезды. И что эта война
кончится... Если это случится, я сойду с ума от радости. Но, может быть,
так и будет – окончится война и не надо будет носить желтые звезды?
- Тебе потому так грустно, что ты что-то предчувствуешь?
- Да, у меня такое чувство, что я пишу в последний раз. В городе проходят
акции, и мне запрещено выходить из дому. Недавно каратели были в Чарнове
(город неподалеку) и их вот-вот ожидают у нас: весь город затаил дыхание
в предчувствии самого страшного. И хотя немцы на Восточном фронте отступают
и это может быть свидетельством близкого конца войны, я очень боюсь, что
с нами, евреями, покончат раньше. Это ужасно, это ад. Я пытаюсь удрать
от этих мыслей, но они, как назойливые мухи, преследуют меня. Если бы
я могла сказать: «Всё. Всё кончено» - и сразу умереть. Но несмотря на
все жестокости и зверства, я хочу жить и встретить следующий день...
- Рутка, ты плачешь?
- Я спрашиваю себя: что случилось, Рутка? Ты не можешь с собой справиться?
Это плохо. Ты должна собраться и перестать мочить слезами подушку. Почему
ты плачешь? Точно, не из-за Янека. Тогда из-за чего? Наверное, из-за свободы!
Я устала от этих серых домов и постоянного страха на лице у всех.
Надежда умирает последней
- Я понимаю, что ты, как и все евреи Бендзина, живешь
в тени смерти, в постоянном ожидании депортации в Освенцим. И всё же скажи:
на что ты надеешься? На какое чудо? Куда уносят тебя твои фантазии?
- Я мечтаю оставить все позади и убежать прочь от всех и от Янека, Юмека,
Метека, и даже от моего дома и от всей этой прогнившей серости. Расправить
крылья и полететь высоко в дальнюю даль, лишь слышать ветер, бьющий мне
в лицо, и ощущать его. Улететь туда, где нет гетто и нет этой страшной
работы.
Последняя запись в дневнике
24 апреля 1943 года Рутка сделала в своем дневнике последнюю
запись:
«Город пуст. Почти все живут в Каменке (пригород Бендзина, в котором организовано
огражденное стеной гетто - С.Р.). По всей вероятности, на этой неделе
переедем и мы. Целый день я хожу по комнате, мне нечего делать».
По приказу Гиммлера до полной ликвидации гетто оставались считаные недели
– 1 августа 1943 года гетто в Бендзине перестало существовать! Почти 400
членов еврейской боевой организации сопротивления погибли в отчаянном
сражении с нацистами. Все остальные, кто остался жив, за исключением 200
человек, были депортированы в Освенцим. Оставленным приказали убрать тела
погибших, очистить гетто, а затем расправились и с ними...
* * *
... ЭТУ ДЕВОЧКУ ЖУРНАЛИСТЫ СРАЗУ ЖЕ НАРЕКЛИ ПОЛЬСКОЙ АННОЙ ФРАНК.
ПОДОБНОЕ СРАВНЕНИЕ НЕ УДИВИТЕЛЬНО. СХОДСТВО СУДЕБ РУТКИ ЛАСКЕР И АННЫ
ФРАНК ПРОСТО ПОРАЗИТЕЛЬНО: ОБЕИМ БЫЛО ПО 14 ЛЕТ, ОБЕ ПОГИБЛИ В ОСВЕНЦИМЕ,
КАЖДАЯ - ВМЕСТЕ СО СВОИМ БРАТОМ И МАТЕРЬЮ; У ОБЕИХ В ЖИВЫХ ОСТАЛИСЬ ОТЦЫ,
У ОБЕИХ СЕГОДНЯ ЖИВЫ ИХ ПОСМЕРТНЫЕ СВОДНЫЕ СЕСТРЫ. И, НАКОНЕЦ, ГЛАВНОЕ
СХОДСТВО - ОБЕ ОСТАВИЛИ СВОИ ДНЕВНИКИ, УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ, ПО
ТРЕЗВОСТИ ОЦЕНКИ ЖИЗНИ В ГЕТТО И ПО ФИЛОСОФСКИМ РАССУЖДЕНИЯМ О ЖИЗНИ И
СМЕРТИ. ДНЕВНИКИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ СОБОЙ СВОЕОБРАЗНЫЕ ПОСЛАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ.
ПОДОБНЫЕ ДНЕВНИКИ ВЕЛИ И МНОГИЕ ДРУГИЕ ПОДРОСТКИ, И ИХ ЗАПИСИ ТОЖЕ ИЗДАНЫ,
И ЯВЛЯЮТСЯ НЕОТДЕЛИМОЙ ЧАСТЬЮ САМОЙ ПРАВДИВОЙ ЛЕТОПИСИ ХОЛОКОСТА. НО ДНЕВНИКИ
АННЫ ФРАНК И РУТКИ ЛАСКЕР, Я УВЕРЕН, ЗАНИМАЮТ В ЭТОЙ ЛЕТОПИСИ ОСОБОЕ МЕСТО
Автор: Сэм Ружанский, Рочестер
Источник: http://newswe.com/index.php?go=Pages&in=view&id=1071
Ципора Шпайзман

Молодой человек приезжает в Нью-Йорк, спускается
в метро, находит в поезде свободное место и спустя мгновение весь превращается
в слух: рядом кто-то говорит на странной смеси английского и идиша. Он
поворачивает голову к сидящей поблизости женщине и не может отвести от
нее взгляда. Не молода, но какой типаж! Сколько страсти в этом тихом голосе!
Электричка мчится. Одна остановка, другая... Незнакомка может в любую
минуту встать и уйти. Смешается с толпой, исчезнет, и он не найдет ее
никогда. Как же ее не потерять? Надо что-то делать…
Он встает и представляется: Дан Кацир, кинорежиссер, из Израиля. Старая
дама молча смотрит на него. Или мимо него? Что в ее взгляде – любопытство
или равнодушие?

Ципора Шпайзман в метро
Она встряхивает вязаной шапочкой, обшитой белым мехом: молодой человек,
если он располагает временем, может проводить ее, она не возражает. Они
выходят, и она доверчиво берет его под руку... И как высший акт доверия:
«Ты сможешь посмотреть мое шоу!»
Вот так примерно, как в кино, состоялось знакомство израильского режиссера-документалиста
Дана Кацира с прославленной актрисой идишского театра «Фолксбинэ» (Folksbienne)
Ципорой Шпайзман в нью-йоркском сабвее… Дан Кацир делит свое время между
Тель-Авивом и Лос-Анджелесом. В Нью-Йорк он приехал в отпуск. Как всякий
«нормальный» сабра (цабар на иврите – колючий снаружи, но сладкий внутри
плод кактуса, так называют тех, кто, как Дан, родился не где-нибудь, а
на земле Израиля), он воспринимал идиш как чужую планету, как далекое
эхо, как нечто давнее, отжившее.
Причины были не только объективные – где сегодня еврей может услышать язык своих бабушек, а в случае Дана – прабабушек? На улице? Я не раз ловила себя на том, что услыхав на улице еврейскую речь, замедляю шаг, чтобы минуту-другую задержаться в том мире, в том воздухе, где еще шутят и смеются мои предки… Радио? Телевидение? Там – для тоскующих – идиш отпускают, как микстуру – по каплям. Что же остается – театр, концерт? И там все реже слышишь литературный идиш, иногда слух режет какая-то «иностранная» дикция актеров и певцов, мало истинной культуры. Главное – публику надо развлекать!
Негативное, а точнее, никакое, отношение к идишу Дан
Кацир объяснит и субъективными причинами. Об этом чуть позже.
Дан Кацир родился и учился в Израиле, служил в боевых частях (1987-92),
став офицером парашютных войск. После службы отправился путешествовать,
побывал в Индии, Непале и других странах Азии, вернулся, поступил учиться
на факультет кино и телевидения Тель-авивского университета (1995-97).
Закончил и Американский институт кино в Лос-Анджелесе (1999-2002).
Интереснейший фильм можно сделать о самой семье Кациров: Его дед, Аарон Кацир, химик, специалист по полимерам, профессор, до последнего дня жизни возглавлявший знаменитый институт имени Х. Вейцмана в Реховоте, был и президентом Международного биофизического Союза. Его исследования в области пластики, биологии известны во всем научном мире, в НАСА его именем назвали один из кратеров на Луне. Жизнь его прервалась в один миг: он умер не от старости и не от болезни – Аарон Кацир погиб в террористическом акте в аэропорту Бен-Гурион в 1972 году, на глазах у своей жены Рины и их сына Авраама. Дану, сыну Авраама, шел третий год. Дед, Аарон Кацир, прожил всего 59 лет. А его убийца – японец Козо Окамото отсидел в израильской тюрьме 13 лет и был обменен в 1985 г. вместе с ещё 1150 палестинскими террористами на трёх наших израильских военнопленных в печально известной «сделке Джибриля»... Авраам тоже стал ученым, занимается прикладной физикой, использованием лазера в медицине, он профессор Тель-авивского университета.
Профессорское звание и у его жены, матери Дана – Яэль. Она историк, специалист по истории эпохи Средневековья. Ее сестра Нурит и брат Миха тоже профессора, каждый в своей области науки. Родной брат деда Аарона, профессор Эфраим Кацир, биохимик по профессии, доктор философии, четвертый президент Израиля. Такая вот семья. Один Дан не пошел по научной линии, выбрав детское увлечение кино своей профессией. Но и его мать по своей второй специальности – киновед, сценарист, режиссер и продюсер документального кино. Разумеется, в старшем поколении, особенно в ее «польско-украинской» ветви, знали и любили идиш. (Эфраим родился на Украине, Аарон – в Польше, их фамилия была Качальские). Но Дана воспитывала бабушка по матери, Циона Рабо, в девичестве Катинская. Мать Ционы, Гута, была родной сестрой Якова Чертока – отца Моше Шарета (Чертока), первого министра иностранных дел Израиля и второго премьер-министра Израиля (1954-1955).
И о личности бабушки Ционы стоит рассказать подробнее. Она, единственная в семье, родилась в арабской деревне Синия, недалеко от Шхема, где ее отец Барух Катинский и мать Гута, вместе с семьей своего брата Якова Чертока, создали сельскохозяйственную ферму и где прожили несколько лет. Горячая сионистка и патриотка Израиля, бабушка, а тогда молодая девушка Циона вступила в «Отряд защитников языка» (Гдуд мегинэй ха-сафа), созданный еще в 1923 году, и «патрулировала» на улицах, чтобы, заслышав польский, русский, идиш, выкрикивать «Еврей, говори на иврите!» («Иври, дабер иврит!»). В 1933 году, в возрасте 29 лет, она вышла замуж за бежавшего из Берлина от фашизма немецкого еврея – врача Эрвина Рабо. Муж называл ее «моя бедуинка». Он ушел первым. Она прожила 88 лет. Утром последнего дня своей жизни «бедуинка» Циона обратилась к сиделке: «Хочу хлеб, масло, соль и лук». После смерти Ционы подруга детства Эрвина Рабо скажет ее дочери Яэль: «Твоя мать была а вилде хае (дикарка), но это и нравилось в ней твоему отцу». Ненависть к Гитлеру и ко всему немецкому привели Циону к неприятию всего «галутного», в том числе, как в легкомысленной юности, и ни в чем не повинного идиша. Иврит это мужество, успех и энергия, идиш – слабость, отчаяние, гетто!
Дан, ее любимый внук, должен быть другим, новым евреем,
свободным человеком в свободной стране, гордым израильтянином, а идиш
остался в том прошлом, которое все они должны забыть, с ним покончено.
Понятно, что и внука она воспитывала так, что он почти не слышал идиша
и был очень далек от еврейской культуры на этом языке. Это о субъективных
причинах оторванности Дана Кацира от своих корней.
…И вдруг эта встреча с Ципорой Шпайзман – «дивой», «примадонной», «легендой»
еврейского театра, как ее называли в Америке.
Не родные и близкие, а чужой человек – пожилая, хрупкая, смешная, иногда
до боли жалкая, но поразительно сильная своей правдой и страстью женщина,
– открыла ему красоту языка его предков, вселила желание любой ценой сохранить
ее театр, который говорит, поет, плачет, смеется на еврейском языке, и
все это ново, глубоко, духовно и прекрасно. Сколько незнакомых прежде
людей, одержимых любовью к искусству и своему пропадающему театру, вошли
в его жизнь…
На витринах частных магазинчиков в Израиле иногда видишь табличку: «Я отлучился на минуту (или поехал за товаром) – скоро вернусь». Подосадуем и пойдем дальше. Но у художника иные зрение и слух. Дан Кацир обыграл эту фразу, назвав одну из своих лент «Я пошел искать любовь – скоро вернусь». Художественный язык этого режиссера отличает совершенно особая интонация, очень личная, задушевная, он любит своих героев, и он доверяет зрителю: его любовь должна дойти до наших сердец и взволновать каждого. Недаром и свою книгу он назвал «Любовь – таков ответ». И названный фильм и другие документальные картины принесли Дану Кациру премии международных фестивалей в Иерусалиме, Сан-Франциско, Лейпциге, Чикаго, Шанхае, на Тайване, в Эстонии, его ленты обошли кино- и телеэкраны более сотни стран.
Но тогда о себе Дан ничего ей не сказал. Ципора не знала, что он давно не новичок в своей профессии. Просто доверилась этому высоченному парню. Рядом с ним она казалась маленькой птичкой (ципор на иврите – птица). А он вообще мало разговаривал. Только слушал, наблюдал, впитывал, думал. Попросил актрису рассказать свою биографию. Вот кого не надо было упрашивать, ни одного вопроса не приходилось задавать дважды. Ципора Танненбаум родилась в Люблине 2 января 1916. В 17 лет пошла учиться на акушерку и работала потом в больнице. Все свободное время отдавала еврейскому театру, сначала как зритель, потом и как актриса. В театре встретила своего будущего мужа Йосефа Шпайзмана, поженились они в 1938 году. Играла рядом с замечательными артистами Ш. Дзиганом и И. Шумахером, училась у них актерскому мастерству.
Жених и невеста, 1938 |
Ципора и Йосеф. Люблин, 1938 |
1 сентября 1939 года нормальная жизнь кончилась. Началась война. Фашисты
убили всю семью Ципоры, более ста человек, родную сестру – на ее глазах,
им же с Йосефом с большими трудностями удалось перейти восточную границу,
и они сразу были отправлены за Урал, в трудовой лагерь. За шесть или семь
лет они узнали и голод и холод, унижение, насмешки, издевательства. Но
все-таки выжили и после войны вернулись на родину. Однако это была другая
Польша. Не найдя в живых никого из родных, видя, как уже знакомые и ненавистные
советские порядки, они называли их исключительно «сталинскими», все больше
укореняются и тут, Ципора и Йосеф уехали сначала во Францию, оказавшуюся
тоже не слишком дружелюбной к беженцам, оттуда – в Канаду и после года
ожидания виз прибыли, наконец, в США. Шел 1954 год. Осели в Нью-Йорке...
Ко времени их встречи с Даном Кациром Йосефа Шпайзмана уже не было в живых.
Он умер в 1997. Ципора оплакала смерть любимого мужа и большого друга
и продолжала работать.

Ципора и Йосеф в США
Все это Ципора рассказывает по-английски. Два еврея – пожилая актриса,
чьей жизнью был идиш, и молодой израильский режиссер, родной язык которого
– иврит, между собой могут общаться только на третьем языке. Печально,
горько, но такова реальность наших дней. Как же в Дане возникла непонятная
ему самому острая вспышка интереса к «запрещенной» бабушкой неведомой
ему культуре на идиш, к такой странной немолодой женщине, к ее театру,
к ее друзьям, к еврейской литературе и музыке, к самому звуку еврейской
речи? Что это – какие-то гены или обычный и естественный для художника
интерес ко всему новому? Он не может дать точного ответа. Влюбился – вот
и весь ответ.
Случайная встреча, и жизнь обретает новую реальность. Все личные планы
режиссера полетели кувырком.
Дан не мог оторваться от этой удивительной женщины. Как гипноз. После короткого знакомства Ципора почти насильно втянула его в создание документального фильма о ее репертуарном спектакле по пьесе Переца Хиршбейна «Гринэ фелдэр» («Зеленые поля»). В ее новом Еврейском Общественном театре шли последние показы. После того, как в «Фолксбинэ» в 1998 году решили омолодить руководство, предложив ей остаться почетным консультантом, она хлопнула дверью и в 82 года решила создать новый театр. И создала его. Это и было ее «шоу»! Дан Кацир сначала возражал: у него нет с собой никакого оборудования, никакой техники, только домашняя видеокамера, которую он возил с собой… Но он посмотрел ее спектакль и на самом деле влюбился – в театр, в его актеров и язык идиш. И уже не мог бросить свою «диву» и уехать. Он готов был слушать актрису часами, ездить с ней и за ней, куда-то ее возить, встречаться с ее друзьями, ходить на репетиции, спектакли, просто наблюдать, как она хозяйничает на кухне и пересыпает свои горькие рассказы остроумными шутками.
Она открыла Дану неожиданный для него мир, познакомила
с такими незаурядными людьми, что всех и каждого хотелось слушать, снимать,
это была сама история! История его народа, которую можно было изучать,
каждый миг находя в ней для себя что-то новое.
И он начинает снимать… Сначала только ее. Как она двигается, как говорит
в камеру или в пространство, как общается с друзьями. Держа в руках газету,
она бросает кому-то в телефонную трубку: «Вы меня видели? Я – во всех
газетах!» И мы видим ее фотографии в рецензиях на спектакль «Гринэ фелдэр»
– с крупными заголовками: «Драма Еврейского театра», «Легенда сцены Еврейского
театра возвращается на место, которого она достойна» ... Успех был громким,
но финансирование кончилось.
…Я сижу в последнем ряду, в самом уголочке, других билетов
не было, а с режиссером я пока не знакома.
Вот одна сценка: Ципора сидит за столом. Вдруг ударяет сразу обоими кулачками
по столу и произносит, глядя мне в глаза: «Я буду бороться, и я добьюсь
своего!» – и я уже понимаю, что ее театр на грани смерти, но и я верю,
что его не закроют, он будет жить, она добьется...
Рядом какой-то мужчина скрипит кукурузной трухой, его подруга мне более
симпатична. Кажется мне или она на самом деле вытирает слезы? Лучше бы
рядом сидела она, чем ее спутник. И этот хруст попкорна, воздушной кукурузы...
Почему-то все дрянное мы усваиваем молниеносно. Но и он как будто затих.
Хочу думать: поддался обаянию актрисы. О том, как складывалась ее жизнь,
как она боролась и выживала, как служила театру, она рассказывает лично,
глаза в глаза, каждому из нас – мне, моей соседке, ее спутнику... Как
будто камеры нет и в помине. Никакой между нами преграды. Она говорит,
ты слушаешь. Грусть в голосе от невеселых воспоминаний, потом долгое раздумье,
снова шутит, иронизирует над собой и сама же заразительно смеется. В фильме
так много трогательного, весь он пронизан тонким юмором.
Другая сцена: сейчас Ципора никакая не артистка, просто старушка, привычно моющая посуду в раковине. Есть ли в ее квартирке гостиная, спальня, неизвестно, когда снимают дома, то это обязательно в ее маленькой кухоньке. Перемыла посуду, расставляет тарелки в подвесном шкафчике. Делает все это автоматически, угадываешь, что мысли ее далеко... Вдруг поворачивает к нам голову, и – еще один страстный монолог: «Мне за восемьдесят, но я все еще молода... Гитлер не мог остановить меня и Сталин не смог... И вода, и мой сон, и всё-всё, что я делаю – это идиш!»... Выражение ее лица постоянно меняется – то строгое, серьезное, то лукавое, и рассказ соответственно такой же – жесткий, печально-житейский, а то вдруг – с хитринкой в прищуре глаз. Ципора вспоминает прошлое, говорит о настоящем, не менее больном, ее монологи, снова и снова – о языке идиш, о культуре на идиш, о театре на идиш… В этом – смысл ее жизни. Всей ее жизни.
Вскоре Дан узнает, что артистка околдовала не только
его, у него есть соперник. Им оказался обаятельный бородач – тоже молодой
человек по имени Дэйвид Ромео – продюсер по профессии, ставший генеральным
директором театра. Они не рассорились, наоборот, объединились в любви
к старой актрисе и к ее друзьям, решив делать документальный фильм вместе
– рассказать историю еврейского театра в Европе и США через судьбы последних
артистов старшего поколения, старшего – потому что в еврейский театр сегодня
приходят и совсем молодые, еще вчера ни слова не знавшие на идиш люди.
К счастью, это явление наблюдается в Америке и в Израиле, в Москве и в
Париже. Мало их, но приходят.
В процессе съемок оба незаметно для себя включились в активную борьбу
за сохранение театра Ципоры Шпайзман. Дан снимает, а Ромео входит в кадр,
как равноправный герой фильма – друг, помощник и провожатый старой актрисы.
Вот уже он сам хозяйничает на кухне актрисы, моет чашки, заваривает чай,
а потом они под ручку преодолевают зимние нью-йоркские сугробы. Он провожает
ее к метро. Они прощаются.

Ципора и Ромео. Скоро спектакль, а ноги увязают в снегу...
Третья сцена. Маленькая одинокая женщина в большой меховой шапке одна на пустом мрачном перроне, как песчинка – и на этой глухой молчаливой платформе, и, кажется, в самой огромной Америке, все такой же чужой для нее, как и 50 лет назад, в середине двадцатого века. Нет, не Америка ей чужая, это она чужая в шумном Нью-Йорке кануна нового 2001 года.

Ципора Шпайзман, 2001
Город блестит, сверкает, искрится – готовится к Новому году. Витрины, стеклянные небоскребы, металлические конструкции. Кто и что она этому блеску, этому месту и этому времени? Действие фильма начинается в первый день еврейского праздника Хануки, совпавшей тогда с христианским Рождеством, и заканчивается днем последним, восьмым, Хануки, и первым днем Нового года. На экране приметы времени и места, создающие атмосферу фильма, – высокая, вся в огнях, елка, но это снаружи, а внутри – из темноты возникает отливающая золотом Ханукия. Картинки современного Нью-Йорка идут под знакомые еврейские мелодии.
Сцена четвертая: Ципоре пора на спектакль.
Встрепенулась, встала, смотрится в зеркало, гримируется, пудрит носик,
оделась, вышла, пришла, то целует молодую актрису, то лукаво спорит со
своим соседом, тоже актером. Каждый раз выпрямляется и – вперед, потому
что спектакль должен состояться. Ну, еще раз попудрить носик, подправить
шарфик... Пошли.

Ципора готовится к спектаклю «Гринэ фелдэр»
Сцена пятая. Пурга, метель в Нью-Йорке. Вихрь накрывает тебя с головой, колючками вонзается в лицо, проникает под одежду. Ловлю себя на шальной мысли: как красива на экране эта метель... Да, но красива она только на экране, на фотографии, на полотне художника. Попасть же в такую «красивую» пургу приятного мало. «Метель со всех сторон. Тут ее царство, тут ее разгул, тут ее дикое веселье. Беда тому, кто попался ей в руки: она замучит его, завертит, засыплет снегом да насмеется вдоволь, а иной раз так и живого не отпустит» (В.А. Соллогуб. Метель). Другая цитата памятна многим еще со школьной парты: «В одну минуту дорогу занесло; окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снега; небо слилося с землею» (А.С. Пушкин. Метель).
И метель в Нью-Йорке начала XXI века ничуть не приятнее той, что описана классиками почти два века назад. Сердце сжимается, когда видишь, с каким трудом этой «железной леди», но такой хрупкой женщине-птичке, ходится по зимней гололедице, как нелегко ей обходить сугробы, пробиваться сквозь метель по дороге на спектакль, со спектакля… Но что нью-йоркская метель для таких отчаянных стариков-артистов, когда они прошли сквозь столько бурь – и в довоенные, и в военные, и в послевоенные времена, на оккупированных фашистами территориях, в гетто, в трудовых лагерях…
Вот такой многослойный ряд – лицо и голос актрисы, скольжение
ее фигурки сквозь непогоду, под снегом и ветром, блики дальних освещенных
витрин, тусклый свет неоновых фонарей, и еврейские мелодии, и бородатый
интеллигентный Ромео, то идущий рядом, то сидящий с телефонной трубкой
в каком-то застекленном аквариуме… Став генеральным директором театра,
Ромео пытается дозвониться до богатых людей…
Драматизм фильма усиливается. Театр должен закрыться через восемь дней,
как раз в канун нового, 2001 года.
На фоне этих расцвеченных витрин, в сердце города, который сверкает стеклом
и сталью, эти старики завладевают твоим зрением, чувствами, ты вместе
с ними ждешь ханукального чуда: успеют ли они до конца праздника найти
того, кто спасет их театр, их жизнь...
Ципора Шпайзман и ее друзья – последние могикане истинно великого искусства, для них еврейский театр – праздник, язык их души, чудный и единственно по-настоящему понятный и любимый мир. Откуда придет помощь? Придет ли? Мы наблюдаем бесконечные, отчаянные усилия по сбору денег, в поисках нового здания, – в театр на окраине трудно собрать зрителей. Ромео не сдается. Еще звонок, еще… Неужели современные евреи стали настолько ассимилированными и равнодушными? С каждым звонком от надежды, злости, отчаяния забываешь, что это всего лишь документальный фильм. Только кино! Однако соседка рядом вытирает слезы. Возможно, и ей хочется немедленно оказаться рядом, помочь этим молодым людям, ведь они не просто снимают фильм о театре, они пытаются рассказать о живой, глубокой и яркой культуре, которая может погибнуть, если ничего не делать...
Дан Кацир вводит в канву фильма разных людей, любящих идиш и творящих в нем. Это профессор Д. Кац, композитор З. Млотек, актеры, вот они – Шифра Лерер («Может, чудо все-таки случится»), Феликс Фибих («Без Ципоры не было бы тут еврейского театра!»), Сеймор Рехзайт – с его горьким, едким монологом на фоне переполненных шкафов в помещении уникального архива еврейского искусства (мелькает фото – Альберт Эйнштейн с артистами еврейского театра). Говорят и бывшие меценаты из числа преданных зрителей, но теперь они постарели и обеднели. А раньше они, да-да, брали ссуды в банке, чтобы помочь любимому театру, любимой актрисе. Однажды после спектакля к Ципоре на улице подошли две женщины: «Вы так плохо одеты, мы принесли Вам кое-что...» Ципору тронули не кофточки или юбочки, а... чулочки! Такие люди не могли не стать родными театру, но и артисты стали им родными людьми. И Дан, и его молодые коллеги тоже становятся близкими, своими людьми в еврейском театре легендарной примадонны. Здесь уместно сказать, что Дану Кациру, кроме Дэйвида Ромео, очень активно помогали и продюсер Равит Маркус, и мать Дана – Яэль Кацир.
Узнав, о ком и о чем пойдет речь в фильме сына, она все бросает и летит
в Америку. Не парадокс ли, ведь и саму Яэль мать воспитывала в анти-идишских
традициях. «Идиш это ведь так важно!» – скажет она в киноролике. Может,
сегодня можно было бы переубедить и ее мать, бабушку Дана?! И Яэль покорена
актрисой Ципорой Шпайзман, и самой темой фильма, и остроумными диалогами
между еврейскими артистами. Они порою забавны, но не циничны. Человечны,
талантливы, неординарны! Создатели фильма, по разному стечению обстоятельств,
но, в целом, случайно, попав в мир еврейского театра, в мир языка своих
предков, каждый своим путем, открыли в нем особое, редкое очарование.
Поэтому «история любви» одной актрисы к своему театру стала и историей
любви всех, кто делал этот фильм, к самой актрисе и ее коллегам, и этой
любовью они делятся с нами.
Волнующая, пронизанная драматизмом история борьбы уникальной женщины,
84-летней актрисы, за свой театр завершается ее победой. В последних кадрах
– огромный зал, счастливая публика, а на сцене – высокое начальство во
главе с губернатором штата Нью-Йорк Джорджем Патаки, неизвестными мне
лицами, наверное, из каких-то еврейских организаций. Вот улыбается и Бен-Ами,
сын Ципоры Шпайзман. До того мы его не видели. Еврейский театр получает
чек на 200 000 долларов!
Все тут, кроме Ципоры Шпайзман. В 2001 Ханукального чуда не произошло.
Театр закрылся. И через год, в 2002 году, она умерла. Ей нечем и незачем
стало жить. Но она так верила в свою победу, что не могла не победить.
И победила, только не дожила до победы.
Надолго ли эта победа, тоже никто не скажет. А если того или иного умного,
широких взглядов губернатора или мэра сменит человек бездушный, малокультурный,
выскочка?
Современное общество поклоняется сегодня только деньгам и молодости,
поэтому 30-летние актеры и певцы ложатся на операционный стол, чтобы выглядеть
15-20-летними. Мало таких, кто не боится сказать: «Мои года – мое богатство».
Какой же мир мы оставим внукам? Еще более пустой и жестокий? Мир деградирует,
и мы вместе с ним. А нам нельзя, нас мало, и за нами – богатейшая и уникальная
культура. Но известно ведь: что имеем – не храним, потерявши – плачем.
Еврейский театр? Нет, это отжившая материя! – так отвечали и на звонки
Д. Ромео.
Но ведь именно так говорили и семьдесят лет назад. Сколько раз хоронили
идиш, еврейскую культуру, еврейский театр! Еще в 1937 году один авторитетный
театральный критик в США писал: «Еврейский театр закончился. Это уже не
просто плохой театр. В нем нет актеров, нет репертуара, никаких директоров
и никаких режиссеров. Профессионализм, талант и амбиция фактически мертвы».
Вытрите слезы, артисты, ваш театр – настоящий. Нельзя
дать ему пропасть, сгинуть, умереть, не быть!
Фильм Дана Кацира вступает в вечный спор между старым и новым, доказывает
бесчеловечность жестокой ломки, вплоть до уничтожения наших национальных
культурных ценностей уже не Катастрофой, а нами самими в благополучное
мирное время.
Нет оправдания нашему пренебрежению идишем и культурой, созданной им и
на его основе – таково резюме фильма молодого израильтянина, режиссера
Дана Кацира. Своей эстетикой, мягким юмором, тонкими нюансами, любованием
актерами, вообще, добротой к людям этот фильм не внушает, а вдыхает надежду,
что духовность победит бездушие. Мы видим молодежь, которой интересно
учиться у старших. Об этом говорит в фильме молодая израильтянка Рони
Нейман. Она приехала в США, чтобы подучить английский, работала официанткой,
увидела объявление о наборе актеров в труппу идишского театра, понравилась
и Ципоре и всей труппе и с восторгом рассказывает об этом периоде своей
жизни. Сейчас она вернулась в Израиль.
Сами создатели фильма учатся смыслу жить, творить и бороться
за свои идеалы у этой вот не желающей ни стареть, ни уходить актрисы…
Только проникшись ее духом, ее верой и невероятной энергией, они почувствовали
и осознали, что не могут отстраниться от тяжелого положения, в котором
оказались сама актриса и ее труппа. Восемь дней агонии и попыток спасения
Еврейского народного театра не прошли и не пройдут для них даром. Они
сами изменились, вступив в неравную борьбу с равнодушием и черствостью.
Да, Ципора Шпайзман, эта удивительная женщина, уцелевшая в Катастрофе,
добравшаяся до Америки, 42 года руководившая старейшим в Америке Еврейским
театром «Фолксбинэ», изо дня в день завоевывала сердца своей бескорыстной
преданностью искусству и идишу. Она продолжала жить, она создала театр,
она сохраняла его живым и хотела, чтобы он продолжал жить.
Конец же всегда горек. Театр закрыли, и у нее исчез стимул просыпаться по утрам. Будь она помоложе, что бы ей стоило подождать всего один год. Но силы иссякли. Ее время истекло. Утешает, что ее театр ожил, возродился и живет. Он называется сегодня – «Национальный Еврейский Театр». В двадцать первом столетии можно прослыть смешным и странным, если готов лезть на баррикады за спасение еврейского языка, за его преподавание в школах наряду с французским, английским... Мы бросаемся на помощь всякому маленькому экзотическому племени, создаем азбуку для аборигенов, сочиняем и развиваем литературу для тех, кто выше односложного фольклора никогда не поднимался... В мире принимаются разные меры для сохранения, изучения, развития языков, на которых говорили эскимосы, ненцы и индейцы, ханты и манси, эвенки, чукчи или нанайцы, нивхи и ульчи, удэгейцы и бушмены, нилоты или папуасы.
Вы не обязательно должны быть евреями (евреи обязаны
по определению!), чтобы встать на защиту языка идиш, стараться изучать
созданную на нем поэзию, прозу, драматургию. Они могут стать вам дороги,
как вот этой группке людей, которые внушили вам такое уважение и такую
симпатию, что вы понимаете: их культуре нельзя пропасть! Ее надо беречь.
Получится? Не получится? Делайте, что можете.
Делайте хоть что-нибудь для сохранения уникального языка – на нем более
тысячи лет говорили мои предки – евреи.

Шуламит Шалит в начале творческой карьеры
Автор: Шуламит Шалит
Источник: berkovich-zametki.com/.../Nomer11/Shalit1.php
Инесса Галант

Ежегодно, несмотря на занятость, Инесса Галант возвращается
в Ригу. Каждое ее выступление становится событием в музыкальной жизни
города, билеты на любой из ее концертов или спектаклей распроданы загодя..
Любовь рижан к ее искусству не умещается в рамки гордости за землячку
или наслаждения от красоты голоса. Люди черпают в ее пении душевные силы.
«Я хочу взять вас в мой мир» - так говорит певица своей публике. В этом
кроется особенность личности артистки, которая раскрывает в каждом слушателе
новые для него способности воспринимать прекрасное.
В одном из интервью она подчеркивает: «Для этого мы и существуем - распахивать
сердца и как бы проникать в мозг и в чувства, задевать нерв, заставлять
погружаться в давно забытые эмоции и ощущения, взлететь над обыденностью,
над этой брутальной жизнью...»
Голос И. Галант, от природы окрашенный особенно тепло, в начале карьеры
легкий и лирический, с годами приобрел драматические краски, стал более
плотным, концентрированным, но не утратил ни полетности, ни характерной
проникновенности. Ее актерская игра привлекает сочетанием искренности
и непосредственности выражения с продуманностью и отточенностью образа.
Каждая ее роль – настоящий психологический портрет героини.

И.Галант родилась в Риге, в семье, где пение высоко ценилось, у ее матери
была прекрасная колоратура, а у отца – бас. После окончания школы поступила
в медицинское училище на фармацевтическое отделение, но уже тогда начала
петь. Ее первым учителем была Рашель Шулова, живущая сейчас в Израиле.
В 1982 году Инесса закончила Латвийскую Академию музыки по классу вокала
профессора Людмилы Браун. С 1982 года была солисткой Латвийской Национальной
оперы (дебютировала в роли Цыганки в опере Сметаны «Проданная невеста»),
где пела обширный лирический репертуар – Снегурочку, Лючию, Джильду, Маргариту,
Адину, Виолетту, Розину, Микаэлу, Прилепу, Магду («LaRondine» Пуччини),
Умницу в одноименной опере Орфа... Именно тогда она была частым гостем
в Мариинском театре в Санкт-Петербурге, но дорогу на Запад ей преграждал
«железный занавес», и даже советы таких метров, как Иегуди Менухин и Зубин
Мета, уехать в США не могли разрушить его.
Но пришло новое время, и в 1991 году Инесса переехала в Германию, где
живет до сих пор и где до 1999 года являлась солисткой оперного театра
в Мангейме (премьерная роль – Памина) и DeutscheOperaimRheinв Дюссельдорфе
(первая роль – Донна Эльвира).

За это время в ее репертуар вошли такие героини, как
Леонора в «Трубадуре», Мими, Эвридика, Недда, Баттерфляй, Лиу, Фрейя в
«Валькирии» Вагнера, Наяда в «Ариадне на Наксосе» Штрауса. Сейчас она
свободный художник, и ее сцена – весь мир. Она поет в крупнейших оперных
театрах Германии, Франции, США, Израиля, в самых престижных концертных
залах Швейцарии, Бельгии, Люксембурга, Австралии, Южной Кореи, Франции
( празднование 70-летия Мстислава Ростроповича в 1997 году, постановка
«Иоланты» в TheatredesChampsElyseesвместе с Гегамом Григоряном под управлением
Василия Синайского), Голландии (концерт в Роттердаме вместе с Хосе Каррерасом
в 2001 году). Стоит отметить ее многочисленные концерты в Лондоне (дебют
в BarbicanHallв 1998 году, cольный концерт в WigmoreHallв 1999 году, дебют
в АlbertHallв 2000 году, сольный благотворительный концерт в KengsingtonPalaceпо
приглашению и в присутствии королевской семьи в 2001 году).
Имеет богатейший оперный и камерный репертуар. Ее излюбленные роли в итальянском
репертуаре, в операх Верди и Пуччини – Мими, Виолетта, Лиу, Джильда, Леонора,
Баттерфляй...
Ее СDDebutудостоен в Голландии Золотого диска (1999) и Платинового диска
(2001) – продано 25 000 экземпляров. CDAriettaпризнан BBCлучшим в номинации
классической музыки (2000). Британская звукозаписывающая фирма Cаmpion
Records, которая выпустила уже 10 дисков И.Галант, считает певицу своей
звездой. В 2002 году число проданных дисков Инессы Галант превысило 200
тысяч. Альбом - Inessa Galante, Maks Goldins:18 Jewish Folk Songs.

Ее записи арий из опер Чайковского (BMG, оркестр театра CoventGardenпод
управлением Нееме Ярви) были признаны исключительно яркими, а Сцена письма
Татьяны названа лучшим исполнением за последние 20 лет.
Инесса Галант сотрудничала с такими выдающимися дирижерами, как Иегуди
Менухин, Кент Нагано, Мюнг Вун Чунг, Валерий Гергиев, Антонио Паппано,
Стивен Меркурио, Мигель Гомес-Мартинес, Владимир Федосеев, Нееме Ярви,
Эри Клаас, Василий Синайский.
В 2001 году И.Галант выступала с сольными концертами в Москве в Оружейной
палате Кремля (концертмейстер Инна Давыдова). В 2002 году дебютировала
в Большом театре России в заглавной роли в постановке оперы Чилеа «Адриана
Лекуврер». В 2003 году с успехом впервые спела партию Аиды и в спектакле
Латвийской Национальной оперы, и во время гастролей ЛНО в Москве. В конце
2003 года состоялся ее дебют на оперной сцене Великобритании: в Королевской
опере Глазго, а также в оперных театрах Эдинбурга и Ливерпуля, она имела
большой успех в роли Аиды. В апреле 2004 года впервые спела партию Лизы
в «Пиковой даме» в оперном театре «Эстониа».
Источник: http://www.hbf.lv/index.php?1&498&view=artist&artist_id=1
Алма Глюк
Рэба Файнзон родилась 11
мая 1882 г. в городе Яссы, Румыния, и в раннем возрасте переехала в Соединенные
Штаты. Вскоре после этого она начала петь. От своего отца Леона она унаследовала
любовь к музыке, а от матери Сары - замечательный голос. Сестра Сесиль
вспоминает, что пение Рэбы, скрашивало серые будни всей семьи, отвлекая
их мысли от нищеты прозябания в Нью-Йоркском Ист-Сайде.
Намеревавшаяся работать до вступления в брак, Рэба была зачислена в то,
что сегодня называется Хантер колледжем, сразу после окончания средней
школы. После обучения стенографии и машинописи, она начала работать в
Манхэттенской юридической фирме. Вскоре она встретилась с Бернаром Гликом,
страховым агентом, на двенадцать лет старше её. Хотя она не любила его,
но вышла в мае 1902 года за него замуж. После рождения их дочери Рэба
всецело отдалась роли домохозяйки и матери, не подозревая о том, что в
один прекрасный день ей уготовано судьбой спеть в Метрополитен Опера.

Глики часто приглашали гостей, увлекавшихся оперным пением. В один из
таких вечеров 1906-го года пение Рэбы услышал один из знатоков оперной
музыки, который дружил с Артуром Бацци-Печчи (известный в Нью-Йорке преподаватель
вокала). Он был поражен качеством её голоса и сказал ей, что она обязательно
должна учиться пению. Но она ответила ему, что не может позволить себе
платить за уроки музыки, так как муж слишком мало зарабатывает. Знатока
это нимало не смутило.
Результат ее встречи с Бацци-Печчи был удачным. Он предложил
давать ей уроки по льготной оплате в неурочное время, и, в конечном счете,
она стала его самой известной ученицей. Уже в первый месяц обучения Рэба
добилась больших успехов. Кроме того, ей удалось взять взаймы сумму, достаточную
для учёбы во время своего ежегодного летнего пребывания в Европе. После
своего первого плодотворного лета Рэбе удалось раздобыть фортепиано и
нанять в качестве аккомпаниатора Альтеа Джуэлла, который со временем стал
ее менеджером и другом жизни.
Три года спустя, в 1909 году, Бацци-Печчи организовал встречу Рэбы с только
что назначенным руководителем Метрополитен-опера Джулио Гатти-Кaзaццa
и дирижёром Артуро Тосканини. После прослушивания они предложили ей подписать
контракт с "Метрополитен-опера» на первоначальную сумму 700 долларов
при условии, что она возьмёт сценический псевдоним Алма Глюк.

Это произошло 29 марта, а уже 19 ноября Алма Глик сделала свой первый шаг к известности в роли Софи в опере Массне «Вертер». Хотя она недостаточно знала роль, ей пришлось заменить известную французскую певицу Кристину Хельен. В конце второго акта, она покинула сцену думая, что она слышит шум дождя по крыше, а это были аплодисменты. На следующий день, она обнаружила, что критика оценила ее выступление с единодушным энтузиазмом. Другие удачи, в том числе ее исполнение роли Oмбры Феличче в опере Тосканини, персонажей Кристофа Глюка в «Орфее и Эвридике» в конце сезона убедили руководство «Метрополитен-опера», что его вера в эту начинающую певицу была вполне оправданной.
Успех Алмы Глюк в пяти вечерних воскресных концертах
Метрополитен способствовали решению тенора Алессандро Бoнчи нанять ее
в качестве участницы в его туре по Кубе летом ее дебютного сезона. И она
поняла главный принцип исполнения: дать зрителям то, что они хотят услышать.
Соответственно, ее аудитория была в восторге, потому что она заменила
французский репертуар на произведения на испанском языке, один из которых,
Хабанера "ТУ" Санчеса де Фуэнтеса, стала первой из когда-либо
исполняемых ею в концертах.
Полагая, что ее карьера развивается слишком быстро, Глюк попросила у Гатти-Казацци
двухлетний отпуск, чтобы попрактиковаться в провинциальных оперных театрах
Европы. Но импрессарио отказался удовлетворить её просьбу, заявив, что
ее навыков «вполне достаточно". Это огорчило Алму, тем не менее,
она вернулась в Метрополитен, усиленно работала над своей техникой, пела
множество малых партий, и в конце концов это принесло свои плоды в виде
несомненных и убедительных признаний ей Недды в «Паяцах» Леонкавалло и
Венеры в "Тангейзере» Вагнера.

Успешные выступления в оперных спектаклях и концертах не вполне удовлетворяли Глюк. Она понимала, что только записи – верный путь к успеху, чем она и занялась в «Виктор фонограф компании» в марте 1911 года. И признание не заставило себя ждать. На протяжении многих лет она снова и снова возвращается в студию звукозаписи для удовлетворения постоянно растущих потребностей своих многочисленных почитателей. Государственные компании и «Виктор фонограф» зачастую выпускали по два или даже три её диска в месяц, в том числе это были дуэты с Луизой Гомер, Павлом Райсмерсом, Энрико Карузо, скрипачом Ефремом Цимбалистом. Ее доходы от этих записей были феноменальными для того времени. Например, между 1914 и 1919 годами она получила гонорары на общую сумму более 600 тысяч долларов, а диск "Отвези меня обратно в старую Вирджинию" стал первым проданным в количестве свыше одного миллиона экземпляров.
Во время своего третьего и заключительного сезона в
Метрополитен, учитывая всё возрастающие заявки на её участие в концертах
и фестивалях, Глюк решила оставить оперу. Работа в театре никогда не интересовала
ее, и она была готова признать, что не является выдающейся актрисой. С
помощью банкира и влиятельного в «Метрополитен-опера» человека Отто Кана,
она освободилась от контракта с театром весной 1912 года и никогда больше
не возвращалась в оперу, не считая пяти воскресных вечерних концертов
в Метрополитен.
В это же время, Глюк освободилась от Бернарда Глика и добилась опеки над
их совместной дочерью. Она была не одинока - Ефрем Цимбалист стал спутником
её жизни.Тем не менее, работа была главным, что её интересовало. Она поехала
в Париж для знакомства с Жаном де Реже, который научил ее уникальному
подходу к французскому искусству и музыке. Для совершенствования своего
мастерства она провела девять месяцев с примадонной Maрселой Сембрих на
её вилле в Швейцарии.
Сольная программа Глюк в Нью-Йорке в январе 1914 были
впечатляющей. Во всяком случае, по отзывам критиков. И она решила начать
гастроли по странам: от восьмидесяти пяти до ста концертов в год в каждом
из государств. Её программы, как правило, представляли лучшее из классического
репертуара, (и этому были всегда рады ее поклонники) а также баллады и
большая часть ее дискографии.
После высокой оценки их концерта в Лондоне, Рэба и Ефрем Цимбалист поженились
16 июня 1914 года. Глюк предполагала выступить с концертами в Европе,
но начало войны заставило ее вернуться домой. Она присоединила свой голос
к оппозиции американскому участию в боевых действиях за рубежом. Однако,
когда Америка вступила в НАТО, она дала несколько безвозмездных концертов
в армейских лагерях, приняла участие в распространении облигаций "Свобода",
и лично пожертвовала 25 тысяч долларов американскому Красному Кресту.
"Я в огромном долгу перед Америкой», однажды сказала она.
Гастролировать было трудно в условиях военного времени, а с рождением дочери Марии в 1915 году, и сына Ефрема-младшего в 1918-м, стало ещё труднее. К этому присоединилось заболевание голосовых связок, и Рэба была вынуждена ограничить число выступлений. Если бы не проблемы с голосом, она бы вряд ли на это пошла, но всё-таки ей пришлось почти через силу принять решение о временной приостановке концертной деятельности. В 1921 году Цимбалист предложил им предпринять концертный тур вместе, и она это приветствовала, сказав журналистам, что она возвращается к исполнению, потому что "обречена петь". Аудитория встретила её восторженно. Яркими были и некоторые статьи критиков, но рецидивы болезни и сопутствующие им вокальные неудачи сделали успех менее чем удовлетворительным.
Глюк продолжала записи, но ни одна из них в период между 1920 и 1924 годами не сохранилась. К сожалению, ее дни в качестве великой певицы были сочтены. Но она не была готова совсем уйти в отставку и спела еще один сольный концерт в оперном театре Манхэттена в 1924 году и один раз по радио в 1929 году. Окружающие, ее семья, и ее друзья утешали её, говоря, что она и так добилась многого, но она была неутешна. Ее дочь Марсия Давенпорт с горечью вспоминает, как видела свою мать прослушивающей записи на старых дисках и содрогавшейся от рыданий.
Отсутствие возможности петь принесло ей много боли,
но Глюк нашла себе по выходе на пенсию другие занятия. Она была счастлива
в браке с Цимбалистом, находила радость в достижениях своих детей, неустанно
трудилась в музыкальных и благотворительных организациях. Только с началом
прогрессирующего цирроза печени, который в конечном итоге свёл её в могилу,
она ограничила свою деятельность. Мужество и сила, присущие этой замечательной
женщине, давали ей возможность держаться до самого конца. Глюк скончалась
27 октября 1938 года в Нью-Йорке, в возрасте 54-х лет. Когда её хоронили,
на одном из венков была надпись: «Трудно сказать, что нам было дороже
– сама Алма Глюк, или её голос. Но оба они были само совершенство»…
© Эдвард Хеглин Пирсон, 1997-й год
Источник: http://www.marstonrecords.com/gluck/gluck_liner.htm
(пер. с англ. мой)
Маша Орлович
Рискую прослыть официальным поставщиком авторов в
ART-галерею «МЗ».
Но, если честно, не представляю себе такого, чтобы на любимом мною сайте
не была представлена Маша Орлович. Познакомились мы во времена нашей репатриантской
юности, которая совпала с моей отнюдь не первой молодостью. А Маша была
и вправду совсем еще молода.
Помнится, я бывал частым гостем в её съемной квартире на улице Цахал в
Кармиэле. Там часто можно было встретить известных бардов или заезжих
московских телевизионщиков, молодых искусствоведов и просто поклонников
её таланта.
В те первые годы репатриации в городе часто бывали разные-всякие знаменитости.
И там мы тоже встречались. Когда Миша Васерман, в прошлом директор Магнитогорского
театра "Буратино", а ныне житель Кармиэля, узнал, что я готовлю
публикацию о Маше Орлович, он прислал мне эти снимки. На одном из них
Маша с Александром Бовиным, на другом - с Булатом Окуджавой. На дворе
стоял 1992-й год…
 |
 |
Подрастали двое мальчишек, Саша и Даня, тыкался в колено
добродушный боксёр Гера. И вся квартирка была заставлена её картинами.
Акварели были просто свалены на столе. А в стареньком потертом чемодане
лежали миниатюры. Сейчас они у коллекционеров стоят большие деньги. А
тогда, помню, приехала к ней из Тель-Авива некая дама и скупила десяток
миниатюр по пять долларов за штуку – и Машка была просто счастлива. Появились
деньги, с которыми можно сбегать на рынок. Благо, что и на рынке всё было
в те благословенные времена по шекелю.
Дети подрастали. И росли признание и популярность Маши на израильской
художественной улице, вообще-то к новичкам относящейся с холодком и предубеждением.
Но Машин талант оказался настолько добрым, открытым и светлым, что просто
не мог не вызвать ответных чувств. И её начали приглашать на выставки
и вернисажи.

Регата в Старом Акко
Помнится, мы тогда вскладчину нанимали микроавтобус, чтобы съездить на
её выставку в Тель-авивской галерее на улице Гордон. Спонсировала её вдова
Моше Даяна, сразу влюбившаяся в работы Маши.
Потом мы вместе выбирались в музей в Кейсарию, потом - в один из музеев
Хайфы. Да и в нашем, тогда еще совсем небольшом, но уже растущем Кармиэле
ей несколько раз устраивали выставки в разных залах.
Ну, а я, как мог, старался в быстро зарождавшихся тогда и столь же быстро
исчезавших изданиях оповестить публику о том, что живет в нашем городе
приехавший из Питера молодой, но уже сложившийся, со своим почерком, художник.
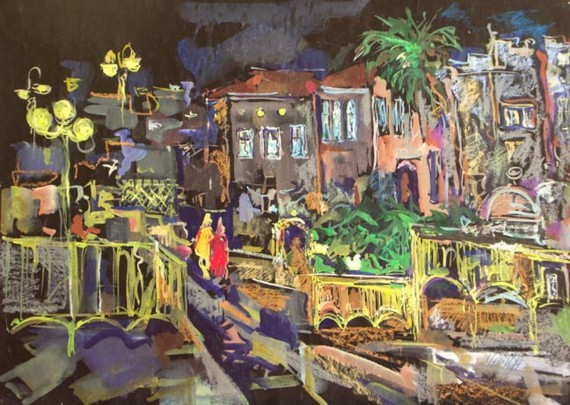
Тверия ночью

Музыканты

Иерусалимские фантазии

Цфат
А потом за дело взялись маститые искусствоведы, и мне
уже можно было не беспокоиться.
Вскоре Маша переехала из Кармиэля под Цфат. А в самом Цфате открыла галерею,
которую так и назвала «Маша». И ни один турист не проходит мимо неё. И
ни один фильм о Цфате не обходится без кадров её картин.
За это время она родила множество новых произведений, написанных в самой
разной технике. Два сына выросли, отслужили в армии. А она возьми да и
роди им братика. Йонатанчику сейчас четыре года. И когда мама проводит
время с этим своим произведением, в галерею едет встречать гостей её верный
друг и спутник по жизни Александр Розенблат. Саша - известный в Израиле
исполнитель музыки барокко на клавесине, реставратор старинных клавесинов
и докторант университета Бар-Илан.
Впрочем, мы сегодня не о нем, а о Маше.
А картины Маши Орлович - перед вами. Адрес её сайта – тоже: http://www.masha-orlovich.com
Так что, кто с ней уже и так знаком, может порадоваться встрече со старой
знакомой. А тех, кто не знает, милости просим - знакомьтесь.
Краткая справка о художнике
Маша Орлович родилась в Санкт-Петербурге (Ленинграде) в 1960 г. Рисует
с пяти лет. Выпускница Ленинградского художественного училища им. Серова.
Работает в различных техниках: графика, акварель, смешанная техника, включающая
элементы энкаустики (горячая восковая живопись). Она пишет в жанрах городского
пейзажа, натюрморта, обнаженной натуры, портрета и межжанровых композиций.
Член Союза художников и скульпторов Израиля с 2000 г. Картины Маши Орлович
- в частных коллекциях в Израиле, России, Европе и США (например, у Максима
Венгерова, Даниэля Баренбойма), а также в музее городской скульптуры Санкт-Петербурга.
Автор: Леонид Сорока, Кармиэль
Источник: http://www.newswe.com/index.php?go=Pages&in=view&id=251
Берта Рейнгбальд
Имя этой пианистки и педагога в 30-е годы прошлого
столетия было известно всей огромной стране – СССР. Все центральные газеты
писали о ней и помещали её портреты. Она воспитала целую плеяду молодых
пианистов, чьё творчество было известно далеко за пределами страны Советов.
Начиная с середины 40-х и вплоть до 80-х гг. о ней не писали. Только один
из её учеников великий Эмиль Гилельс писал и говорил о ней постоянно:
«Это мой единственный учитель!».
В последние годы имя и деятельность Берты Михайловны Рейнгбальд постепенно
поднимается из забвения.

Она родилась в 1897 г.( по другим сведениям в 1899г.) в городе Одесса в семье известного архитектора, автора многих интереснейших зданий в городе. С детства ей прочили карьеру архитектора, но она выбрала музыку, хотя у нее был интерес к математике, живописи, архитектуре. Её семья была очень культурная и интеллигентная. Она была очень образованным человеком. Берта Рейнгбальд в 1914 г. окончила гимназию с золотой медалью.А в 1919 г окончила Одесскую консерваторию также с золотой медалью по классу Б. И. Дронсейко-Миронович, но, как она сама говорила, её основным педагогом была Э. А. Чернецкая-Гешелина, с которой она занималась частным образом. Сама Чернецкая-Гешелина была ученицей выдающегося русского пианиста и дирижёра, директора Московской консерватории В. И. Сафонова. Таким образом, Рейнгбальд как бы «педагогическая внучка» Сафонова.
Она сформировалась как музыкант и пианистка в высокопрофессиональной музыкальной среде. Тогда Одесса блистала талантами, это был один из культурнейших городов России, его называли «Маленький Париж». Рейнгбальд вспоминала: «Мне кажется, в Одессе обучались музыке почти все... Будучи учащейся консерватории, я дружила со многими высокоодарёнными студентами. Тогда же я приобрела педагогический опыт, так как ко мне... обращались за помощью, а многие и занимались со мной – композиторы Б. Шехтер, Зара Левина и др.». Большое влияние оказали на Рейнгбальд дирижёр И.В.Прибик, скрипач Наум Блиндер и ,главным образом, великий педагог и скрипач, профессор П. С. Столярский. Она была артистической натурой, но на эстраде выступала очень редко. Её призванием была педагогика. С 1921 г. она преподавала в Одесской консерватории, в 1933 г. стала её профессором, а в 1938 г. возглавила кафедру специального фортепиано. Её педагогический дар был несомненен.
В основе её работы был положен принцип: не обучай, не изучив своего питомца и не поняв его. Она сама писала: «Рано я осознала, что не нужно «тянуть» учеников к моему пониманию, а следует глубоко изучить их возможности, особенности, их личность, перспективы... Некоторое время я не учила ученика, а изучала его... Настоящий педагог приспосабливается к данным каждого ученика и раскрывает его индивидуальность». У Рейнгбальд было огромное педагогическое терпение, выдержка. Она умела выжидать и не торопить события. Как писал позже Э. Гилельс: «Рейнгбальд была не только превосходным учителем музыки, но и воспитателем..., и это сочетание – главное в её деятельности». За годы работы в Одесской консерватории она воспитала много замечательных пианистов. Среди её учеников были выдающиеся музыканты. Это, конечно, Эмиль Гилельс , сестры Татьяна и Ида Гольдфарб , Мария Гринберг , Берта Маранц, и ныне здраствующие Лидия Фихтенгольц и Людмила Сосина .Все они были украшением советской школы пианизма ,лауреатами всесоюзных и различных международных конкурсов.
Гилельс пришёл в класс Рейнгбальд в 13 лет, и она упорно вела его к пониманию глубины музыки, развивала его мышление, «воспитывала привычку играть при публике».Рейнгбальд писала: «Эстрада правдива, поэтому и жестока. Она открывает талант, но и беспощадно отражает бесталантность. Самая сложная психологическая задача: воспитать правильное этическое отношение к эстраде». Есть интереснейший отклик на игру Гилельса, когда он занимался у Рейнгбальд , Якова Зака, будущего профессора Московской консерватории, соученика Гилельса по Одесской консерватории: «Уже тогда Гилельс поражал нас своей игрой. Я помню, как он играл Моцарта, Шуберта, этюды Шопена. Впечатление от его игры было очень сильное. Это было что-то непостижимое. Конечно... в этом сказалась большая заслуга его педагога Рейнгбальд. Она в развитии Гилельса сыграла громадную роль».
В мае 1933 г. шестнадцатилетний Гилельс принял участие в Первом всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей и одержал там блестящую победу. И никому не известный юноша и его педагог стали в одночасье известны всей стране. После конкурса Гилельс стал широко выступать с концертами, Берта Михайловна стала разъезжать с ним по городам, следила за его репертуаром, «но вместо того, чтобы спокойно продолжать обучение, я стала вести борьбу с бесконечными вызовами на концерты». Берта Рейнгбальд, как педагог, стала известна всей стране, её наградили в 1937г. орденом Трудового Красного Знамени, а в 1935г. она получила в подарок от правительства Украины роскошный рояль «Бехштейн» в связи с победой её ученика Гилельса на всесоюзном конкурсе. Она проводила большую методическую работу, помогала Николаевскому и Херсонскому музыкальным училищам, участвовала в организации Молдавской консерватории в г.Кишинёве. Рейнгбальд была депутатом Одесского горсовета трёх созывов, а в 1939г. стала депутатом облсовета. Она была в течении пяти лет председателем исполнительной секции Одесского отделения Союза композиторов СССР.
Она не порывала связи со своими учениками, следила за их успехами. И позже, когда Гилельс учился в аспирантуре Московской консерватории у знаменитого профессора Г. Г. Нейгауза, он часто приезжал в Одессу и советовался с Рейнгбальд. Дружба и творческий союз с ней продолжался долгие годы. Она всю свою жизнь посвятила музыке и своим ученикам, а её личная жизнь не удалась. Она была замужем за врачом, у неё родился сын Алик (Алексей), но вскоре она рассталась со своим мужем. У неё были три сестры- Софья, Генриетта и Антония. Все они были педагогами музыки. В феврале 1941г. широко отмечался двадцатилетний юбилей педагогической деятельности Рейнгбальд. В годы Великой Отечественной войны она с сыном (он с детства обучался игре на виолончели) жили в эвакуации в Ташкенте, где она работала в находившейся там же Ленинградской консерватории. По просьбе кафедры специального фортепиано консерватории Рейнгбальд сделала доклад «Как я обучала Эмиля Гилельса». Он гораздо позже был издан в сборнике «Выдающиеся музыканты-педагоги о фортепианном искусстве» («Музыка», М.-Л., 1966 г.). Этот замечательный труд, к сожалению, недооценённый до настоящего времени.
В статье о каждом из своих учеников: Миле Гилельсе, Берте Маранц, Тане и Иде Гольдфарб и др. – она пишет с большой любовью, тонко разбирая их возможности и описывая свою работу с каждым из них. В Ташкенте её наперебой приглашали работать после войны Киевская и Ленинградская консерватории, но она рвалась в освобождённую Одессу. Вернувшись в 1944 г. в родной город с сыном, Рейнгбальд столкнулась со страшной бюрократией и даже враждебностью. Её квартира в центре города, где она родилась и прожила около 44 лет, была занята работником НКВД и ей отказывали предоставить жилплощадь. Консерватория и её ректор композитор К. Данькевич также были настроены враждебно. Рейнгбальд дали для временного проживания угол в консерваторском коридоре, где стояла её кровать, а её рояль марки «Бехштейн» забрал себе ректор Консерватории и отказывался его вернуть. Конечно, это было начало антисемитской компании, которая позже охватила весь город и страну. Рейнгбальд не давали жилплощади и прописки, и, следовательно, отказывались трудоустроить. Отчаяние охватило её, никто не протянул ей руку помощи, её здоровье было подорвано после недавно перенесённого сыпного тифа. Всё это привело к трагическому финалу: она выбросилась с лестничной клетки четвёртого этажа дома, где помещалось горжилуправление.
Так оборвалась жизнь замечательного педагога, воспитавшего великих музыкантов международного класса , и, главное, давшая «путёвку» на концертную эстраду великому Гилельсу. Самоубийство Рейнгбальд было воспринято руководством Одессы чуть ли не как антисоветский выпад. Ученики Рейнгбальд не были восстановлены на работе в Консерватории, где они трудились ещё до войны. А памятник на могиле своего Учителя установил по своему эскизу самый любимый её ученик Эмиль Гилельс с надписью: «Дорогому учителю-другу». Все понимали объём трагедии, и многие московские музыканты помогли сыну Рейнгбальд, Алексею Рубинштейну. Профессор Е. Ф. Гнесина настояла на переезде мальчика в Москву, и он стал учиться в музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных, а известный педагог-виолончелист Семён Козолупов стал его учителем. После окончания института, сын Рейнгбальд играл в оркестре кинематографии, а затем в джазе Эдди Рознера. Позже он эмигрировал в США, поселился в Лос-Анжелесе, успешно работал там на радио и в Голливуде музыкантом. К сожалению, он недавно скончался.
Перед отъездом в США он передал Э. Гилельсу оставшийся архив своей матери, который хранится в его семье и поныне. О своём учителе вспоминает Людмила Сосина, закончившая Одесскую консерваторию по классу Рейнгбальд в 1939 г., поэже профессор Московской консерватории и Академии имени Маймонида. «Я попала к Рейнгбальд в Одесскую консерваторию прямо из семилетки.Мне посоветовал учиться у неё Миля Гилельс. Берта Михайловна – большой музыкант , талантливый педагог. Она сделала из меня музыканта, я ей всем обязана.Её метод обучения отличался тем, что она ничего ученикам не играла , так как не хотела , чтобы мы копировали её игру .Она рассказывала,объясняла , вдохновляла и заражала учеников.Она нас всех очень любила , а Гилельса просто обожала, и следила за нашими успехами В последнем письме ко мне из Ташкента, она писала, что её приглашают работать в Киев, а я ей ответила,что не представляю Одесскую консерваторию без профессоров Столярского и Рейнгбальд. И какой ужасный конец её жизни».
Осенью 1974 г. исполнилось 30 лет со дня гибели Берты Рейнгбальд, и Гилельс приехал в Одессу дать концерт памяти своего Учителя и хотел, чтобы это было отражено на афише. Руководство города отказалось это сделать. Дело дошло до обкома партии, который категорически был против упоминания имени Рейнгбальд. Тогда Гилельс заявил, что концерта не будет. В обкоме поняли, что будет скандал и отступили. Концерт состоялся, на афише было написано: « В память профессора Б. М. Рейнгбальд». Гилельс вышел на сцену с чёрной траурной повязкой и играл любимые произведения своего учителя. Но в местной прессе не было ни одной рецензии: не было велено! Гилельс говорил: «Слово учитель – высокое слово. Таких учителей-музыкантов, которые шли бы на самопожертвование в истории педагогики единицы. Я учился у трёх педагогов. Один из них был истинным учителем: этим Учителем с большой буквы была Берта Михайловна ». Великий Гилельс был верен своему Учителю всю свою жизнь. К сожалению, труды Б.Рейнгбальд до сих пор не собраны и не изданы, а они и сейчас представляют большую ценность.
Автор: Яков Коваленский
Источник: www.alefmagazine.com/pub1340.html
Буня Маркс
Буня Абрамовна Гиршберг родилась в 1914 году в Лиепае (Либаве) в многодетной семье. Родным языком был идиш, хорошо знала также немецкий и латышский. Сначала была активисткой сионистского молодежного движения, в подпольной комсомольской ячейке, и даже позже – членом горкома комсомола, за что властями буржуазной Латвии была арестована и осуждена на полтора года. В 20 лет оказалась в тюрьме, отсидела полгода (а по версии ее знакомого, – все полтора года). После освобождения из заключения окончила медицинское училище по специальности физиотерапевт, работала в еврейской больнице Лиепаи.

Буня Маркс
В ноябре 1940 года вышла замуж за директора банка Гирша Маркса. Ее замужняя
жизнь не продлилась и года. С приходом в Латвию немцев Гирш пошел в ополчение,
но фашисты, схватив его, повесили как еврея и коммуниста. Однако свою
жену Буню он успел до своей гибели посадить в Риге в эшелон и отправить
вместе с другими беженцами в Киров (бывшую Вятку). Мать Буни и две сестренки
попали в гетто и погибли там. Брат бежал из гетто и чудом спасся. По приезде
в Киров Бунечка отправилась наниматься на работу в Ленинградскую военно-морскую
академию, эвакуированную в начале войны в Киров. Русского языка она совершенно
не знала, но спрос на медсестер был так велик, что, несмотря на ущербность
биографии (иностранка, не знающая русского), ее приняли, да еще присвоили
звание младшего лейтенанта…
…В начале 1944 года, а может быть, это было в конце 1943-го (точная дата мне неизвестна – Е.Л.) Эмиль Гилельс, гастролируя с концертными бригадами по воинским частям на Урале, в Сибири, Казахстане и других районах, прибыл в Киров. В это время у него разболелась кисть руки. Ему сказали, что в городе есть только один человек, способный ему помочь: в военной академии работает отменный массажист. Его привели к Буне Маркс. И так начался их роман.

Буня Маркс в форме лейтенанта

Эмиль Гилельс с сестрой Лизой, в будущем известной скрипачкой
Москва, 20/V 44г. (сохранена орфография автора).
Мой дорогой друг! Я был очень огорчен, когда узнал, что Вы не получили
моей открытки с дороги. Не пойму, почему она не дошла до Вас. Но в вознаграждение
получил от Вас письмо, моя дорогая, которое читал несколько раз, и оно
меня обрадовало.
К сожалению, московские условия не позволяют мне часто звонить, как это
было в Свердловске, а то бы я Вам надоел своими звонками. Я очень скучаю
по Вас и был бы бесконечно рад получить Ваше изображение какое-нибудь
на фото. Я сейчас буду писать довольно сумбурно, т.к. время не позволяет.
Вы себе не можете представить, как я теперь занят, и все-таки нет дня,
чтобы я не думал о Вас. Завтра уезжают в Киров мои приятели, и я постараюсь
это письмо передать через них.
Свое обещание насчет радиопередачи я выполнил, но, вероятно, Вы не слушали.
Это было 7 мая, в 4.30 московского времени.
Сегодня получил довольно огорчительные сведения относительно Ваших дел,
но надеюсь в недалеком будущем снова возобновить.
А пока, не откладывая в долгий ящик, я хочу устроить поездку в Горький
- Молотов и, конечно, через Киров. Мне бывает очень обидно, что нет Вас
поблизости, моя чудная собеседница. Вы умница и мне с Вами хорошо...
12/VI, Молотов, центр. гостиница.
Милая Буничка!
Очень тоскливо мне, оттого что встречи наши мимолетны и так редки. Вот
сейчас я бы отдал многое, чтобы можно было быть вместе, но судьба так
безжалостно разъединяет нас. Я теряю надежды насчет моей поездки в Горький,
а это было бы очень кстати. Жаль, что Вы не имеете возможность получить
командировку в Молотов. Если бы Вы могли сюда приехать, то была бы возможность
хорошо провести время.
Я здесь совершенно одинок. Путерман еще не приехал. Сегодня утром я звонил
к Вам, но Вас еще не было. К сожалению, расписание здесь таково, что можно
звонить до 8 утра по-кировскому, или вечером, или поздно ночью. Простите
меня за назойливость. Надеюсь все-таки Вас увидеть скоро.
Целую нежно, Ваш Э.Г.
10/VII 44 г. Казань.
Мой родной дружок!
Вот уже три длинных дня, как не слыхал твоего голоса по телефону, и, чтобы
как-нибудь успокоиться, пишу тебе. Это занятие облегчает мне разлуку.
Мне кажется, что ты меня слушаешь, и ты возле меня.
Итак, я вчера пришвартовался к берегу, взошел на казанскую землю – новые
впечатления, новые люди. Вчера же вечером я был занят.
Сегодня – встреча с местными властями и артистами. Завтра (11), а затем
12 и 13-го я буду занят. 14 надеюсь выехать в Москву.
Живу я в военной гостинице. Не успеваю даже как следует отдохнуть, т.к.
дел очень много.
Дела всякие – поэзия и проза. Это письмо, вероятно, пойдет с оказией,
и ты при получении его поймешь, чем я, конечно отчасти, был занят.
Девочка моя, я конечно, далеко не всемогущ, но если я добьюсь разговора
с тобой, правда, не знаю, застану ли тебя, т.к. мне могут дать тогда,
когда тебя не будет, то это будет замечательно. Я опять услышу твой голосок.
25/VII Родная моя!
Пишу тебе кратко. Сегодня слышал твой родной голосок. Я уже не дождусь
встречи с тобой. Постараюсь звонить тебе часто, но иногда твой телефон
не отвечает. Мне столько хотелось тебе сказать и спросить, но все вылетело
из головы.
Неужели мы снова скоро встретимся?!!!
Я каждый день мысленно с тобой. Я перечитываю твои письма и каждый раз
мне тепло и радостно от мысли, что ты такая хорошая.
Девочка моя, почему ты мне сказала, что рвешь письма. Неужели есть какие-то
у тебя упреки или сомнения. Родная моя, пиши мне часто. Это для меня сейчас
все. Я не могу ничего делать. Я хочу тебя видеть!!!
5/IX, Москва
Моя маленькая волшебница!
Я сам себя не могу узнать. Никогда я так много не писал, как тебе. И это
не потому что ты мне напоминаешь, а само по себе, правда, ты тех писем
не получила в Ленинграде. Я это еще объясняю тем, что ты в своих письмах
так хорошо и чутко все описываешь. Для меня большое наслаждение читать
твои письма, в них я слышу твой голосок и вижу твое личико.
Сегодня я получил одно письмо от тебя и перечитываю его, и радуюсь в душе,
что обрел такого дружка.
Интересно то, что в отправленном вчера мною письме есть те же выражения
и мысли, которые написаны тобою в этом письме.
Да, моя родная, каждый день, проведенный без тебя, проходит у меня как-то
бесцветно. Иметь такого дружка и быть так жестоко наказанным… как от Москвы
до Кирова…
8 октября 1944г. Москва.
Родная!
Только что вернулся от Д.Ф. (Ойстраха. – Е.Л.), где провел сегодняшний
вечер. Сейчас очень поздно, ты уже, вероятно, давно спишь и видишь хорошие
сны, а я бодрствую и, видя тебя в мысленном экране, опять беседую с тобой,
моя единственная и любимая.
Тишина прерывается шуршанием автомобилей и свистками постовых милиционеров,
которые останавливают, проверяя документы у поздних прохожих…
13/X. Москва. Родная Масин!
Какой сюрприз! Я сегодня получил твое письмо и карточки, а главное, что
такие хорошие.
Что касается писем, то для меня такие письма - прямо бальзам. Вот читаю
и поглядываю на фото, и как будто ты рядом со мной. Мне так хорошо. Забываю
обо всем на свете, и только с тобой...
12/ XI, 1944 г. Воскресенье.
Моя единственная Масин!
Только что вернулся от Нейгауза (вернее, от той особы, где он бывает,
а мы соседи с ней). Сейчас уже 3-й час ночи. Не удивляйся, что я так поздно
не сплю, т.к. меня напоили там большим количеством кофе и мне «море по
колено». Спать абсолютно не хочется, но почерк говорит красноречиво о
позднем часе...
23/III. 45г. Моя дорогая и крепко любимая Масин!
Я думаю, что все наши московские неудачи ты мне простишь, как и многие
мои ошибки.
Мне было очень больно, что я не мог создать тебе той обстановки, которой
мне очень хотелось. Я очень часто вспоминаю эти дни, и мрачный осадок
у меня на душе, не говоря уже о том, что, как ты уехала, я очень по тебе
начал скучать и живу мыслями о нашей очередной встрече.
Мне хочется тебя видеть и твоей ласки, моя единственная дорогая девочка.
Лиза просто без ума от тебя...
Но вернемся к любовному роману пианиста. В течение полутора лет (с 1944-го до первой половины 45 годов) в орбиту взаимоотношений этих людей были втянуты многие известные музыканты и композиторы, в том числе дирижер Курт Зандерлинг, сыгравший ей потихоньку за кулисами «Атикву» в год создания Израиля. По сути, очень многие музыканты знали о романе. Их услугами пользовался Эмиль в качестве посыльных и посредников в передаче писем и посылок. Так, через Давида Ойстраха не раз передавались послания, он продолжал общаться с Буней и в 1949 году. Сохранились две фотографии, подаренные Буне, с такими надписями: «Очаровательной (видите, как я послушен!) Буничке на добрую память от «Папы», а на другом фото надпись: «Милой Буничке с чувством искренней нежности и пожеланиями счастья и радости в жизни. От Давида Ойстраха».
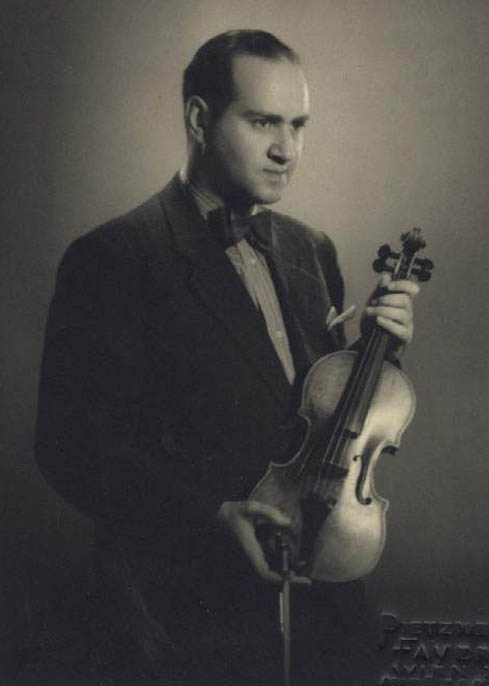
Давид Ойстрах
С Буней были знакомы мать Эмиля – Эсфирь Самойловна и сестра Лиза. Вот
отрывки из письма Лизы к Буне от 23 марта 1946 года, присланного из Москвы:
«Милая Буничка! Как я сожалею, что Вы ничего не сообщаете
о себе мне. Ведь я Вам послала поздравительную телеграмму с Новым годом.
Потом Миля, когда вернулся из Ленинграда, передал, что Вы напишите мне.
Мои надежды и терпение лопнули. Решила написать Вам…
…Буничка, я очень бы хотела Вас повидать. Неужели отношения с Милей могли
повлиять на наши с Вами отношения? Я искренне привязалась к Вам, когда
вместе ехали в Ленинград. Как Вы живете? Вам не хочется быть откровенной
со мной? Очень прошу, напишите мне. Что хорошего в Ленинграде? Где Вы
работаете? Где бываете...? Привет от мамы. Мы Вас часто вспоминаем. Целую
Вас. Лиза».
На последнем, 19-м письме переписка Эмиля Гилельса и Буни Маркс прервалась. Через много лет на вопрос дочери Буни: «Почему ты не связала свою жизнь с Гилельсом?» мать ответила: «У него был сложный характер, и я побоялась…». Возможно, были и какие-то другие причины, однако всю жизнь она с теплотой вспоминала о нем, пристально следила по прессе за его деятельностью, а когда узнала о смерти, очень грустила, и даже сохранила некролог.
В последующие годы жизнь каждого из героев романа потекла
по своему руслу. Буня Маркс познакомилась в военной академии с военным
хирургом Исааком Айзманом, пятидесятилетним вдовцом, отцом 20-летней дочери.
Он был участником трех войн, кавалером ордена Ленина, почти доктором медицинских
наук. «Почти» – потому что защита диссертации совпала с периодом «дела
врачей», и академия предпочла отправить докторанта из Ленинграда в Свердловск.
В 51-м году Исаак женился на Буне и вместе с ней отправился в своеобразную
ссылку. Интересно, что в семейном архиве Иры хранятся и любовные письма
ее отца к матери. Немолодой полковник писал любимой в момент разлуки такие
же пылкие письма, как и молодой пианист (Эмиль на два года был младше
Буни).
В сорок лет Буня родила дочь Ирочку, а в 1977-м семья Айзманов вернулась
из Свердловска снова в Ленинград.

Исаак Айзман и Буня Маркс с дочерью Ирочкой
По рассказам Ирины, в начале 60-х годов Эмиль Гилельс, будучи на гастролях
в Свердловске, разыскал телефон Буни и пытался с ней встретиться. Но она
отказалась. Спустя годы мать объяснила любопытствовавшей дочери причину
отказа: она очень располнела, и хотела, чтобы у Эмиля в памяти сохранился
ее прежний облик. Эмиль в тот приезд предлагал также послушать ее Ирочку,
которую она отдала в десятилетку учиться игре на фортепиано с пяти лет.
Но и в этом Буня отказала ему...
Автор: Евгения Ласкина
Источник: Альманах «Еврейская старина», №4, 2008-й год
(сокращено)
Лия Владимирова
Отца ее звали Владимир Львович Дубровкин, он был еврей, а мама – детская писательница Галина Евгеньевна Ганейзер – русская.
| Моя тарусская Россия, Моя владимирская ширь, Моя возлюбленная Лия, И Руфь, и нежная Эсфирь! И блещет двуединым светом Крыло у каждого плеча, И две судьбы, как два завета, В меня вошли, кровоточа. |
Этот "двуединый свет" не раз и не два отразится как в ее характере, так и в ее творчестве. "И как же ты необычайно, / Двойное "я" - / Два мира у тебя, две тайны, / Два бытия". В сборник на тему "Евреи и Россия в современной поэзии", изданный в Москве в 1996 году (под редакцией Евгения Витковского, составитель Михаил Грозовский) вошли стихи более ста поэтов, а название его "Свет двуединый" – из приведенного выше стихотворения Лии Владимировой.
В России она начинала как поэт Юлия Дубровкина, поэтому
и муж и близкие друзья и в Израиле продолжали ее называть этим именем,
хотя с самого дня приезда в Израиль, в 1973 году, большинство людей знали
ее как поэта, а потом и прозаика, по новому имени – Лия Владимирова. Этот
псевдоним накануне их отъезда из Москвы придумал муж, Яков Хромченко,
боясь, как бы она, свободолюбивая, с ее последней прямотой, не навредила
своими стихами родственникам, остававшимся в России. Она о тех временах
писала: "Стихи светились глуше, глуше / Сквозь лица, поздние уже,
/ Как зов – спасите наши души, / Как свет на дальнем этаже".Так что
его опасения были не на пустом месте. "И тот же край зову в молитвах.
/И тот же край зову тюрьмой".
Он знал, откуда он увозит жену.

Яков Хромченко, 1924 года рождения, воевал, трижды был
тяжело ранен, после третьего ранения, выйдя из госпиталя в 1944 году,
поступил во ВГИК и на двадцатый день учебы был арестован "за попытку
создать молодежную антисоветскую организацию". В ГУЛАГе провел почти
12 лет. В 1956 году, сразу после реабилитации "за отсутствием состава
преступления", он снова поступил во ВГИК. Стал сценаристом и режиссером.
Очень любил поэзию и сам писал, но долго ничего не печатал, поэтом себя
не считая. Это Лия, как она впоследствии рассказывала, в какой-то миг
озарения поняла, что и он – поэт настоящий, и стала собирать и перепечатывать
его стихи. И вышел сборник его стихов "Берез весеннее вино"
(Иерусалим, 1998).
Сто страниц чудесной лирики. Из надписи автора (посвящение Л.Н.): "Дебют
мой – тоненькая книжка – / Могла б полнее быть, умней, / И запоздала,
может, слишком... / Листая, не ищите в ней / Модерна модную игрушку, /
А тихо выпейте до дна / Мой скромный дар – простую кружку / Берез весеннего
вина".
Во вступлении поэт Елена Аксельрод писала: "Читаешь стихи, будто ведешь разговор с добрым, чуждым суеты собеседником, и улыбаешься ему, и зорче видишь деревья, цветы, травы, которыми так богаты стихи Якова Хромченко – словно и они доверились поэту: "Застыв столбом у тротуара – / Так, не назад и не вперед, / Гляжу, не что несут с базара, / А как акация цветет"... Я рада знакомству с поэтическим миром Якова Хромченко. Уверена, что эту радость разделят со мной многие любители поэзии". Ее надежды не оправдались. Первую – и такую замечательную книжку поэта Якова Хромченко плохо покупали, да и рецензий могло быть побольше. Лия была огорчена. И это мягко сказано. Тогда она села и написала свои "Заметы сердца" – три эссе о творчестве Якова Хромченко! И как написала! Только поэт может так прочесть другого поэта! Как проникла в каждый поэтический образ, как сумела донести до нас "чувство свежести, первооткрытия, чуда". Ей, неистребимой поборнице справедливости, хотелось, "чтобы все люди... оценили эту лирику самой высшей пробы".
Благодаря её пылкой любви к поэзии мужа, родилась и вторая
книга Якова Хромченко "И сад в снегу, и даль в цвету" ((Иерусалим,
2003). Так автор и режиссер многих документальных и художественных фильмов
(уже в Израиле он снял документальный фильм "Дети ГУЛАГа") стал
Поэтом. Стихи и переводы Якова Хромченко (из израильских поэтов он переводил
Рахель, Лею Гольдберг) вошли в оба тома известной антологии "Строфы
века". Я думаю сегодня, какое счастье, что все это произошло еще
при жизни Якова! Поэт Наум Басовский пишет о них: "Два мастера, два
чистых и звучных лирика. Странно устроена наша жизнь: издаются многочисленные
газеты, журналы, альманахи, наконец, книги. Печатаются рецензии, статьи
и обзоры. А подлинные поэты, редкие, как всякое чудо, остаются почти безвестными".
И это горькая правда!
Где только ни публиковалась Лия Владимирова – да по всему миру!
После презентации в Нетании журнала "Галилея" ее главный редактор Марк Азов сказал (из дневника М.Лезинского в интернете): "И как тут не поверить в призраки, когда перед тобой легендарная Лия Владимирова, чьи стихи облетели Израиль, Россию, Америку, Францию, Германию, о ком писал Фазиль Искандер, а в статье Солженицына, напечатанной в " Новом мире" под названием "Четыре современных поэта", она – одна из четырех". Вот названия ее книг: "Связь времен" (1975), "Пора предчувствий" (1978), книга "Соль и свет" – переводы с иврита Натана Ионатана (1980), "Снег и песок" (1982), книга стихов Л.Владимировой на иврите (пер. Мордехай Север, 1984), "Стихотворения" (1988), "Письмо к себе" (проза, 1985), "Стихотворения" (1990), "Мгновения" (1992), "Заметы сердца" (2001).
Возможно, названо не все. Но даже многие из тех, кто
знает и любит ее поэзию, в последние несколько лет ничего о ней не слыхали.
Я видела их вместе – Лию и Яшу Хромченко – в последний раз в декабре 1998
на литературном семинаре в кибуце Рамат-Рахель под Иерусалимом. В перерыве
мы вышли с ней погулять. "Юля, надень куртку, ветер, простудишься!
– Яша бежал за нами. – Не хочу, не буду!" Как ребенок. Да он и был
для нее всем на свете, отцом – тоже. Потом позволила надеть на себя верхнюю
часть спортивного тренинга на молнии. Яша тоже был в спортивном костюме.
Сели рядом на скамейке. Яша обнял ее за плечи. Она доверчиво притихла.
Так я и сфотографировала их.

Мы изредка перезванивались. А в 2005 году Яши, поэта,
прозаика, сценариста и режиссера Якова Хромченко, не стало. Звонки от
Лии участились, монологи были длинные, трагические. Потом она пропала.
Исчезла и все. У кого ни спросишь, никто ничего не знает.
И тут письмо. Его авторы – давние друзья семьи – Зоя Клугман и Малка Школьник.
"Со смертью Яши Юля лишилась главной опоры в жизни. А она к трудностям
была плохо подготовлена..." Так я узнала, что Лия Владимирова-Хромченко
находится в Центре гериатрии в Пардес-Хане. Еще из письма: "Внимание
со стороны общественности благотворно повлияло бы на судьбу Юли и на отношение
к ней персонала... 18 августа Лии Владимировой исполнится 70 лет!".
| ...Прижмись покрепче: пусть считают Удары сердца ход весны, Пусть пальцы переплетены, Пускай дыханья не хватает. Как медлит предрассветный час! Неслышный звук – и тот погас. Лишь кажется, что плещет море. Давай до света подождём: Чуть пахнет завтрашним дождём И травами. Все звёзды в сборе. |
"Земля Израиля — вся храм, / Вся светом памяти жива” – так написала,
значит, так считает Лия Владимирова.
Мне очень хочется, чтобы ее снова прочитали, чтобы о ней вспомнили.
Именно ей принадлежит один из первых и лучших переводов знаменитой песни
Наоми Шемер "Золотой Иерусалим". Поздравляя Лию Владимирову
с днем рождения, мне захотелось закончить именно этим переводом, чтобы
Лию - пели:
ЗОЛОТОЙ ИЕРУСАЛИМ Вина прозрачней воздух горный, |
Иерушалаим золотой, Я лишь струна в твоём кинноре, Я отзвук твой. К тебе приду – других смиренней – Твой сын и твой певец, Сложу псалом, склоню колени И протяну венец. Мой город света, город чуда, Ты жжешь мне сердце вновь, Я это имя не забуду, Как первую любовь. Мой город светлый и святой, Иерушалаим золотой, Я лишь струна в твоём кинноре, Я отзвук твой. Вернулись мы к колодцам старым, Вот площадь, вот базар, С горы святой – вослед фанфарам – Уже трубит шофар. Сто тысяч солнц над Мертвым морем, В пещерах ветра звон... И мы спускались, ветру вторя, Дорогой в Иерихон. |
Автор: Шуламит Шалит
Источник: http://newswe.com/index.php?go=Pages&in=view&id=554
Дина Калиновская
Как писатель Дина Калиновская не просто талантливый мастер слова и тонкий психолог. Она – оптимист, но без розовых очков, она добра, но без тени сентиментальности. Она любит красоту, но не знаменитые архитектурные шедевры, а старые дворы с облупившейся лепниной особнячков, она умеет любоваться всклокоченными воронами, мокрой галькой, где обточенные морем стекляшки зеленеют рядом с бледными сердоликами, и особенно подробно и настойчиво она видит красоту старых лиц ее любимых персонажей. Любовь к красоте у Д.М. активна. Она ищет ее и дарит нам, - она ради этого стала писателем. Найти и подарить – это сущность ее характера, основа ее отношения к людям.
Поиском и «реанимацией» красоты были и все увлечения, хобби, весь ее быт. Она шила себе пальто из старого голубого пледа, варила дивные джемы из «газонных яблок» и рыжей московской рябины, собирала букеты из одуванчиков, пыльной сурепки, репейников. И еще – Дина любит помойки и свалки. О, сколько сокровищ выбрасывает легкомысленный человек! И эта чистоплотнейшая, изящная, черноглазая красавица спасала из груд мусора то бронзовую завитушку от подсвечника, то изломанный гамбсовский стул – мечту Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова, то бесформенные останки дамской сумочки, то одинокую красную перчатку… Расправить, распороть, отмыть, вглядеться – и ее золотые руки возвращают этим отбросам не только красоту, но – нужность, способность снова служить людям. Так появилась коллекция коробок, баулов, футляров, коробочек и рамок для фото и картин из обрезков старой разноцветной и разнофактурной кожи и замши.

Дина, клея эти коробки, думала не только о второй жизни
отслуживших вещей – она думала о тех людях, старых и малых, кому нечем
себя занять, чьи руки уже отслужили государству и семье, и чьи души соскучились
по нужности и полезности. Коробка для носовых платков, коробочка для лекарств,
футляр для губной помады, коробка для старых писем, для шерстяных шалей,
переложенных лавандой… Сделайте своими руками подарок своим близким, или
торгуйте такими коробками на блошином рынке, или придумайте сами и сделайте
что-то очень нужное и хорошее…
Дина, размышляя о свалках, помойках и «вторсырье», написала сценарий для
мультипликационного сериала, где в каждой коротенькой серии персонажи
– вороны, бродячие коты, бомжи и ребятишки рассказывают нам, что делать
с комками фольги, с лоскутками кожи и меха, с отходами мебельной и домостроительной
индустрии…
Как об этом рассказать наглядным экспозиционным языком? Давайте работать, как работает Дина Мешелимовна Калиновская: конструктор, литератор, рукодельница, красавица, фантазерка и труженица. Соберем десяток ее портретов, пяток увеличенных фотографий живописных свалок, ворон, городских старичков и старушек, отсканируем и укрупним несколько страниц ее рукописей, найдем ее книги, журнальные и газетные публикации, заглянем в интернет – там столько теплых благодарных отзывов.Главное – коробки. Для них «построим» из подсобных материалов – досок, реек, картона и драпированных тканей угол комнаты, тексты и фото в Дининых рамках, среди коробок помогут нам осуществить то, что сейчас из-зи тяжелой болезни она не может рассказать сама – как много красоты, смысла мы теряем в суете и небрежении, как много радости приносит любовь к творчеству.
Автор: Л.В.Абрамова
Источник: http://jcc-nikitskaya.livejournal.com/39052.html
Вот ещё один рассказ о писательнице:
Роман Дины Калиновской «О суббота!» (почему-то так, без запятой), впервые опубликованный еще в 1980 году в журнале «Дружба народов», – скорее не роман, а прозаическая поэма из 25 глав. Это феерия будничной романтики, воззвание к каждодневному, гимн субботнему дню. Здесь суббота мыслится не столько как понятие религиозно-иудейское, сколько как житейский праздник свободы, как долгожданный в череде прочих дней – выходной. «Суббота, суббота! За плечами целая неделя жизни – бездельное, как младенчество, воскресенье, сытое и сонливое; резвый понедельник; буйный вторник; озабоченная, с первыми морщинками среда; озадаченный, подбивающий итоги четверг и пятница, перекинувшая мечтательный мостик в неторопливое утро субботы…»

Нехитрая фабула разматывается песенными стихопрозаическими периодами, раскутывается в узорище одесской жизни, пахнущей разными запахами, полной печального очарования. Три еврейские кровнородственные семьи ждут давным-давно неожиданно исчезнувшего и теперь внезапно решившего навестить их из далекой Америки брата Гришу. Он сбежал на турецком торговом судне рыжим мальчиком, а возвращается побелевшим и еле узнаваемым стариком. И любившая его безмужняя Мария Исааковна, и ее несчастливый в семье брат Саул, и родные строгие братья Гриши – Моня и Зюня, и жены их, и дети, и зятья – все находятся в оцепенелом ожидании призрака прошлого, гальванизированного силой поисков Марии Исааковны и чудесным образом восставшего из загробной жизни.
Саул Исаакович, раненый в Гражданскую войну в пах и лишившийся взаимопонимания, связи с женой, переживший и ее страдания, и ее измену, и постоянные упреки и тычки, и ураганную хозяйственность, омолаживается предстоящей встречей с другом юности. Моня, когда-то секший Гришу розгами, из-за чего тот и сбежал, истерит и плачет, Зюня, вечный средний брат, беспокоится за карьеру сына-военного, попавшую в тень нежелательно возникшего родства с иностранцем. Гриша появляется с неуместными подарками, с фотографиями жены и приемных, спасенных из гитлеровского концлагеря детей, с дореволюционным правописанием, с детским испугом перед старшим братом.
Родные не расспрашивают его о Европе и Америке (заграница им по-советски чужда), для них окружающая мелочная реальность – с базарным Привозом, работящим портом, со скудными улочками и дворовой женской бранью – гораздо интереснее, ближе. И Гриша с их точки зрения не любопытный иностранец, а возникшая из тумана связь с далеким прошлым, с детским житьем, с Гражданской войной, с первыми взрослыми решениями и проступками, с тем, что было в начале их жизни. Гришу встречают обильным обедом, во время его приезда умирает жена Мони, а сразу после отлета назад, в Америку, – Мария Исааковна. Гриша приезжает еще два года подряд, а затем снова пропадает, и нет сомнений – куда. Но жизнь не обрывается. Герои и в грустном видят веселое, Саул Исаакович лежит в больнице и шутит над тем, что только там можно возлечь между двух кандидатов наук, у него рождается правнук. Повествование жизни не знает точек.
Дина Калиновская вложила в этот милый, домашний, немного грустный роман что-то очень личное и очень искреннее. Поэтому он и получился лиричным и притягательным. Слог ее насыщен эмоцией, богатыми определениями, восклицаниями и безответными риторическими вопросами: «Ах, какая же это чудная улица, где живет Моня, где трамвайная колея течет зеркальными ручьями в густой нетоптанной траве, где бугель бренчащего бельгийского трамвая пробил в непроницаемых кронах тополей зеленый и высокий свод, где старые дома больны надменностью!.. О, блеклые фасады! О, выпавшие кое-где балясины балконов!».
Вот так вот, с этим восторженно-благоговейным «О!» Дина Калиновская обращается к предметам, казалось бы, самым ничтожным – к фасадам, балясинам, тротуарам. Автор книги «О суббота!» – воспевательница и плакальщица, возносящая звуком высоких нот басы жизненной прозы, оживляющая бледную советскую Одессу и влюбляющая в нее читателей. Этот лирический, написанный еще в 70-е годы прошлого века роман – самое известное из Дины Калиновской. Так что она может считаться автором одного произведения, которое и сейчас, будучи переизданным в виде книги, не стало анахронизмом.
Автор: Алиса Ганиева
Источник: http://www.kuschtewskaja.ru/index_126.htm
Женя Файерман
Авторы некоторых художественных произведений дают
своим героям “изобразительные” имена, отражающие их сущность. А бывает
и так, что реальный человек носит фамилию, как нельзя лучше соответствующую
своему характеру и роду занятий. В еврейской культуре я знаю два таких
случая. Один - это кишиневский (родом из Рашкова) прозаик Ихил Шрайбман
(дословно “пишущий муж”, “пишущий человек”), недавно отпраздновавший свое
90-летие (до 120!) и по-прежнему регулярно публикующий свои новые миниатюры
на страницах нью-йоркской газеты “Форвертс”. Второй - это живущая в Рамат-Гане
(Израиль) эстрадная певица Женя Файерман (“человек-огонь”).
Женя из тех людей, с которыми “не соскучишься”. Всё у нее как бы и в шутку,
и всерьез. Символично, что лишь пару лет назад она узнала точное место
своего рождения - а, значит, словно вновь появилась на свет.

Всю свою сознательную жизнь Женя Файерман думала (и сообщала чиновникам и журналистам), что родилась в подмосковном городке Павловский Посад, куда в послереволюционные годы перебиралось немало евреев из бывшей “черты оседлости”. А недавно через дальних родственников выяснилось, что под Москву Женю привезли грудным младенцем из Каменец-Подольского, что на Украине. И в этом, наверное, был особый знак. Почти всю жизнь Женя Файерман проводит в разъездах. За это, а также за веселый эксцентричный нрав ее прозвали “Женька-цыганка”. Со своими программами, в которые кроме еврейских входят характерные произведения почти всех народов мира, Женя объездила вдоль и поперек Северную и Южную Америку, Австралию, всю Европу. Четырежды совершила турне по странам бывшего СССР.
В Израиле Женя Файерман живет и работает более двух десятков лет. Недавно вышла видеокассета с записью избранных номеров из репертуара Жени под названием [майн Идише лид] (“Моя еврейская песня”). Куда ни приедет Женя Файерман - у нее находятся старые друзья и появляются новые. Везде у нее берут интервью, снимают телесюжеты. Причем Женя, знающая не менее десятка языков, всегда только на этом языке - принципиально! - общается с прессой. А там, если нужно, ее переведут... В августе-сентябре 2003 года Женя демонстрировала свою новую программу “Идиш - это мой мир” еврейским общинам Северной Америки (Кливленд, Питтсбург, Торонто, Вашингтон, Нью-Йорк), в октябре-ноябре она выступила в нескольких еврейских центрах Парижа (библиотека имени В. Медема, центр им. Ефройкина), а в декабре дала концерт в Нюрнберге (Германия). В 2004 году в творческом расписании певицы преобладают выступления и записи в различных городах Израиля.
Вот что пишет в очерке “Блуждающая звезда Женя Файерман” журналистка нью-йоркской газеты “Еврейский мир” Лидия Ширко: “При первой нашей встрече меня в Жене привлекла ее легкость, открытость, дружелюбие. Она будто излучала некий свет. Наша дружба с Женей длится уже около десяти лет. Каждое ее появление в Нью-Йорке заканчивается долгими посиделками за полночь. Она с удовольствием вспоминает встречи со зрителями и знаменитыми актерами, у нее огромный запас трогательных и веселых историй, но о превратностях судьбы она говорит лишь под настроение. Поэтому каждый раз я узнаю какие-то новые подробности ее жизни”.
А вот отзыв сотрудницы другой нью-йоркской газеты “Форвертс” Леи Мозес: “Концертные программы Жени Файерман - не просто театрализованные шоу: это настоящие спектакли, спектакли одного актера. Вернее, это целый букет маленьких спектаклей со множеством актер и героинь. С той же легкостью, с какой она носится по миру, Женя перевоплощается из юной девушки в озабоченного отца семейства, из маленького попрошайки - в торговку бубликами, из колоритной цыганки - в старую обнищавшую актрису”. Хотя Женя говорит и поет на многих языках - иврите, русском, польском, французском, немецком, английском, испанском, итальянском - центральное место в ее творчестве всегда занимает идиш. В ее репертуаре и народные песни, и песни на стихи выдающихся еврейских поэтов Ицика Мангера, Йосефа Паперникова, Мордехая Гебиртига, Гальперна Лейвика, Давида Гофштейна.
- В семье я была девятым по счету ребенком, - рассказывает Женя. - После меня появились на свет еще двое братьев. У нас была очень веселая, жизнерадостная семья. Отец, будучи религиозным человеком, любил, когда мы пели и танцевали. И я пропадала в Доме пионеров в танцевальном кружке. Схватив кусок хлеба, обмакнув его в подсолнечное масло и посыпав солью, я спешила на репетиции. Там я исполняла песни и танцы едва ли не всех народов СССР, но позднее меня потянуло к еврейскому фольклору, еврейским мелодиям, которые я впитала вместе с субботними синагогальными напевами отца и с обворожительным, сочным, звонким, емким и многогранным языком идиш, с которым я не расстаюсь всю жизнь.
Родители, как сейчас принято говорить, вели семейный бизнес. Мама с папой варили дома леденцы, и отец продавал их на базаре. Старшие дети помогали... С этого жила вся семья. Не самое сытое детство... Поэтому особо яркие детские воспоминания - наступление субботы или еврейских праздников, которые справлялись в родительском доме шумно и весело. По субботам мама зажигала свечи, отец произносил молитву на не понятном для меня тогда языке, а многочисленная детвора радовалась ароматной хале и праздничной обстановке. Я любила Пурим - он совпадал с моим днем рождения. А день рождения каждого из нас дружно отмечала вся семья. А затем грянула война, разметавшая нашу большую семью. Во время эвакуации я и еще две сестры потерялись. Мы оказались в Казахстане, а родители с остальными детьми - в Узбекистане. Многое пришлось пережить, пока родители не нашли нас.
Всех старших братьев забрали в армию - остались только девочки, маленькие мальчики, родившиеся после меня, и пожилой отец. Выжить нам помогло умение отца варить карамельки. Советская власть посчитала это “большим бизнесом” и потребовала уплаты налогов. Семья и так еле сводила концы с концами - платить было нечем. Отца арестовали, судили. Последний раз я видела его в зале суда. Печальные беспомощные глаза старого человека. Он передал нам записку. Главное, что его заботило: что будет с нами? Больше мы его не видели. Не знаю даже, где его могила. После войны Женя с мужем Абелем - выходцем из Польши, с которым она познакомилась в эвакуации в Самарканде, - покинула “доисторическую”. Убежденный польский коммунист, Абель бежал в СССР в начале Второй мировой войны и попросил политического убежища. Убежище ему тут же предоставили, да еще с охраной - в одном из лагерей ГУЛАГа в Архангельской области, но вскоре выпустили отправили на поселение в Среднюю Азию. Там они с Женей и познакомились.
В 1946 году Женя с Абелем поженились и поехали на родину Абеля, в Ново-Родомск. Увы, розыски уцелевших членов его семьи оказались тщетными. Абель не захотел оставаться в городе, где погибла вся его семья. Уехали в Краков и... попали в эпицентр еврейских погромов.
- Думаю, все слышали о Кельцких погромах, - говорит Женя. - Мы оказались свидетелями одного из них. Поезд, в котором мы ехали, остановили бандиты и стали выводить евреев из вагонов. Нас спасло только то, что мой муж не был похож на еврея - он был блондином, а меня принимали за цыганку. Всех, кого вывели из поезда, расстреляли на наших глазах.
Женя предложила вернуться в Москву, но не тут-то было, советский паспорт у нее уже отобрали... А под сердцем она уже носила ребенка. Решили двигаться на запад. В чешском местечке их радушно встретили и помогли отправиться дальше, в Германию. Там Женя по понятным причинам тоже рожать не хотела. Наконец добрались до Парижа (Абель вспомнил, что один из братьев отца жил в Париже), где Женю прямо с поезда отвезли в роддом.
- То, что издали казалось беженцам фатой-морганой, на поверку оказалось жизнью, полной лишений: без документов, без работы, без средств, без крова. Поселились на окраине Парижа в каморке, не было даже электричества. Об отоплении, газе и воде и говорить не приходилось. Перебивались случайными заработками. Денег не хватало даже на еду и лекарства. Родился наш первенец Лео, затем дочь Сильвия и второй наш сын Жоэль. Сейчас Жоэль - известный в Париже композитор, пишет музыку к кинофильмам. Несколько песен на его музыку исполняю и я. А тогда - изнурительная работа, чужой город, никого из близких, кто бы мог поддержать. Был даже такой момент, - Женя опустила глаза, - когда я стояла с коляской на берегу Сены, не зная, кидаться в реку вместе с детьми или одной. Все мои родственники остались в России, а я тут, среди роскошных витрин - и без средств к существованию. Подняла глаза к небу - и вдруг мне показалось, что слышу мамин голос: “Не надо. Мы еще увидимся”.
- Вам довелось встретиться?
- В 1959 году мама заболела. Рак. Я прилетела в Москву, пристроившись к делегации французских коммунистов. Жила в гостинице, чтобы родным не навредить. Мама понимала, что я с ней прощаюсь. Худенькая, вся иссохшая, она позвала меня и сказала: “Сядь ко мне на колени”. Обняла своей худой рукой, другую руку положила на мою голову и сказала: “Готэню, защити мою девочку, дай ей немного счастья. Дай ей талант нести счастье другим”. Она благословила быть Человеком. Этот завет я стараюсь выполнить.
В память о маме в репертуаре Жени почетное место заняла трогательная и величавая песня [майн мaмэс шaбэс-лихт] (“Субботние свечи моей мамы”).
- Не могу исполнять ее со сцены, у меня мороз по коже продирает от этой песни. Вижу маму среди свечей; ветер не может их погасить; мама просит у Б-га счастья для своих детей и для всего народа Израиля... Она скончалась в 1970 году в Малаховке: местные жители помнят ее, Малку Брановер, они называли ее “наша ребецн”.
Мне кажется, до сих пор в душе Жени Файерман горит субботняя свеча, зажженная ее мамой... Однако вернем наше повествование в Париж. Жизнь понемногу налаживалась, Абель начал работать, ведь его профессия не требовала особого знания языка, - портной. Почти все роскошные Женины сценические туалеты выполнены прекрасным модельером-дизайнером Абелем Файерманом.
- Абель очень тонко чувствовал музыку, был моим первым режиссером и критиком, вселял в меня веру в успех, стимулировал меня при малейшей возможности учиться вокальному и театральному искусству. Вначале поступила в музыкальную школу Сан-Плиель, где преподавали вокал, а затем занималась в знаменитой парижской музыкальной академии “Вю Колобе”, где учились все известные французские певцы: Ив Монтан, Шарль Азнавур, Мирей Матье...
Женя пела в хоре, выступала с сольными номерами на французском и русском языках. Приехавший поработать во Францию из США еврейский актер и режиссер Герман Яблоков (1903-1981) - автор песни “Папиросн” - как раз искал знающую идиш молодую актрису и взял Женю в свой театр. Ей выпала честь стать первой исполнительницей “Папиросн” - первого шлягера (в лучшем смысле слова) еврейской эстрады. Затем режиссер Яков Ротбойм приглашает молодую актрису на роль Бейлки в шолом-алейхемовском спектакле “200.000” и на роль Миреле в пьесе Аврома Гольдфадена “Сон”. В итоге она стала примой театра, сыграла практически все роли молоденьких героинь классического еврейского репертуара.
Порой сказывалось отсутствие специального образования (после освобождения Ростова-на-Дону там открыли кинотеатральный техникум, и Женя туда поступила, но арест отца и нужда вынудили оставить занятия), и ей пришлось учиться профессионально петь, танцевать, двигаться на сцене. Чтобы заработать на уроки актерского мастерства (которым Женя владела лишь чисто интуитивно), Женя стала выступать в ресторане “Распутин”. Там ей довелось работать с замечательными профессионалами, у которых она многому научилась. Легендарный исполнитель цыганских романсов Алеша Димитриевич, скрипач-виртуоз Поль Тоскано, оперные певцы Саша Розанов и Борис Поляков - вот какие у нее были коллеги! Женя Файерман познакомилась здесь со звездами театра и кино, поэтами, музыкантами, писателями. Достаточно назвать лишь несколько имен: Жан Маре, Робер Оссеин, Юл Бриннер, Евгений Евтушенко.
- Кроме русских эмигрантов, многие французы любили посещать этот ресторан. Я выступала с цыганским репертуаром, пела русские, французские, итальянские песни. Здесь произошло множество знаменательных встреч. Выделю знакомство с Рудольфом Нуриевым. Когда он бывал в Париже, он всегда посещал наш ресторан. В традицию вошли долгие беседы в перерыве между моими выступлениями. Он остался на Западе без гроша за душой, но прошли годы - и его слава превзошла славу самых известных в мире звезд. Но он по-прежнему оставался милым, добрым, воспитанным человеком. Сюда любил приходить послушать мои песни. Приходил Жан Марэ - его любимой песней был романс “Отвори потихоньку калитку”. Мы были дружны с актером Робером Оссеином. С ним мы говорили по-русски: его отец из России. Всех не упомнишь, с кем приходилось встречаться, общаться, дружить за 35-летний парижский период нашей жизни.
- Итак, в Париже произошло становление Вас как актрисы и певицы. И вдруг вы все бросаете и уезжаете в Израиль.
- Да, Париж - это особая страница моей жизни, это особый город, неповторимая атмосфера. Может быть, я бы никогда его и не покинула. Но к тому времени моя дочь впервые поехала в Израиль. Там осталась в киббуце, где пробыла около восьми лет. Старший сын Лео, электронщик, работал на телевидении. В каком-то разговоре один из сотрудников ему сказал “вы, евреи!” и т.п. Он заявил, что оставаться в антисемитской стране не намерен. Сейчас он в Израиле, работает в крупной электронной компании. Двое наших детей оказались в Израиле, а мы с мужем, как нитка за иголкой, потянулись за ними. Дочь потом вернулась во Францию, где счастливо живет с семьей. Она косметолог. Ну, а мы остались в Израиле. Для певца, актера не существует границ - и я, живя в Земле обетованной, объездила весь мир.
Второй сын Жени Файерман, Жоэль, стал музыкантом, композитором - работал с известными французскими певцами, начал писать музыку для фильмов о природе. В репертуаре Жени есть несколько песен на его музыку. Недаром она в свое время урывала от семейного бюджета каждый день по несколько франков, чтобы водить его к учителю музыки. Итак, дети устроены. И Женя пускается в новое плавание. Режиссер Залман Колесников познакомил ее с комиком из Аргентины Йослом Гримингером. Он искал партнершу для гастролей по всему миру. Женя оказалась именно тем человеком, кто был ему нужен. Где только ни побывала Женя, работая с Гримингером!.. Пока не оборвалась жизнь актера - прямо на сцене, в скетче, где он играл пациента, пришедшего к врачу. Любой актер, наверное, хотел бы уйти из жизни именно так. Вскоре Жене пришлось вынести еще более сильный удар: не стало Абеля.
- После войны нашелся его брат, который воевал в Советской Армии, был множество раз ранен. Побывал он и в плену, бежал - и снова воевал. Однажды они захватили в плен группу немецких солдат и всех их расстреляли. Его психика не выдержала ужасов войны. Мы уже жили в Израиле, когда вдруг раздался звонок из Парижа. Сообщили, что брат застрелил свою 28-летнюю дочь, а затем жену и себя. Абель в тот же день вылетел на похороны. Через неделю после возвращения у него произошел обширный инфаркт, его прооперировали, а через месяц его не стало. У меня осталась только сцена...
Последние выступления в США давались Жене тяжелее, чем прежде. Психологически давила обстановка на исторической родине. Каждое сообщение о теракте - как нож в сердце.
- Театральные номера с характерными персонажами я отодвигаю к концу представления, а первая его часть посвящена Израилю, я пою на иврите. Моя любимая песня - о Стене Плача. Она сложена из камня, но ведь в камни могут превратиться сердца, и камни могут чувствовать боль сердец. У Стены стоят девушка, потерявшая любимого, солдат, единственный оставшийся в живых из своего отряда, мать, одетая в черное, которой кажется, что свечи в Стене - ясные глаза ее сына...”
В Париже и других городах Франции, рассказывает Женя, в последние годы все активнее изучают идиш. На курсах, в университете... Некоторые из учащихся почти не знакомы с еврейской культурой и традицией, но им нравится звучание языка идиш, они слышат в нем что-то генетически родное - и посредством мамэ-лошн возвращаются к корням.
- А в Америке, - спешит поделиться своей радостью актриса, - молодые уже составляют преобладающую часть моей публики! Летом для молодых любителей идиш в США устраиваются специальные лагеря (я называю их “детские садики”). Нет, я имею в виду не говорящих на идиш ультраортодоксов, которых тоже становится всё больше, а вполне светских людей!
Повсюду наши соплеменники живо интересуются обстановкой в Израиле: “Мы с вами!” А Женя Файерман для них - посол еврейского государства и еврейской песни. Несколько лет назад в Москве к Жене за кулисы пришла незнакомая женщина и передала письмо. После обычных слов похвалы певице она написала: “Мне хочется сравнить Вас с героями Шолом-Алейхема - блуждающими звездами. Так же, как они, вы несете людям еврейское искусство, столь необходимое всем нам”. Среди зрителей Жени Файерман - не только евреи. Однажды в Виннице после концерта на сцену поднялась старенькая женщина в украинской косыночке и по-украински сказала: “Дочка, я не поняла многих песен, которые ты пела, но ты так разбередила мою душу, напомнила мне о моей маме, о моем детстве. Спасибо тебе!” - и протянула скромный букетик цветов. “А завтра, - сказала она, - я пойду в церковь и зажгу свечку, и помолюсь за тебя, чтобы ты много лет могла нести нам свои песни”.
- Что вы чувствуете, приезжая теперь в СНГ?
- Тепло отчего дома, бескорыстную детскую дружбу... В 1991 году я впервые приехала туда на гастроли. Проехала от Кишинева до Биробиджана. Это был не просто теплый прием, это была встреча с родными и близкими людьми. На сцене я никогда не фальшивлю. Живу жизнью моих героев и оголенными нервами воспринимаю своего зрителя. В Москву я прилетела по приглашению на фестиваль еврейской песни. Кремлевский Дворец съездов, стадион “Динамо”, Театр эстрады, благотворительный концерт в доме инвалидов. Когда я впервые вышла на сцену Кремлевского дворца, я не могла унять волнение, хотя до этого выступала на самых известных сценах многих стран. В голосе моем чувствовались слезы. Я сказала: “Дорогие друзья! Приветствую вас от имени народа Израиля. Мы с вами дожили до того времени, когда вы можете приехать к нам, а мы - к вам!” - и начинаю петь “Ам Исраэль хай!” (“Народ Израиля жив!”)
Последний аккорд песни. В зале гробовое молчание - и вдруг задрожали стены. Это были не аплодисменты, это был рев стихии, ураган. Я стояла потрясенная и уже не сдерживала своих слез. На сцену полетели цветы. Вначале попыталась их собрать, а затем просто стояла на “ковре” из букетов. После одного из выступлений к сцене подошла женщина. Я наклонилась, чтобы ее услышать, но она молча сняла кольцо и надела мне на палец. Не зная, как поблагодарить ее за порыв души, я протянула ей букет цветов. Вернувшись в Израиль, я получила письмо. В нем моя слушательница написала, что на следующий день она посетила могилу Сиди Таль и от моего имени положила цветы у надгробия. Это колечко всегда со мной, как самый дорогой талисман.
- Вы были знакомы с Сиди Таль? Честно говоря, впервые побывав на Вашем концерте, я вспомнил именно эту великую еврейскую актрису...
- Да, это моя любимая певица. Помните ее песенку “Пинтэлэ” (“Изюминка”)? В ней рассказывается о судьбе девушки, владеющей этой изюминкой. Благодаря изюминке она испытала много счастливых минут в жизни, многие ее любили. Мне кажется, что и я овладела этой “пинтэлэ” в актерской профессии. Если я пою песню умирающей мамы - мое тело мертвеет. Я чувствую холод, как будто меня обложили льдом, и я знаю, этот холод ощущают и мои зрители. Разъезжаю по миру, пою свои песни - и неважно, понимают язык люди или нет, но они чувствуют их душой.
- Давайте заглянем в будущее. Как вернуть языку идиш его былое величие? Как сделать так, чтобы на нем охотно заговорили широкие массы молодых евреев?
- В 1999 году я гастролировала в Австралии. Журналист мельбурнской русскоязычной газеты “Горизонт” Илья Буркун (недавно издавший книгу “Мельбурнские встречи”, в которую включен и очерк обо мне) рассказал мне, что французские студенты во время одной из забастовок выбросили лозунг: “Будьте реалистами, всегда требуйте невозможного!” Думаю, надо взять его на вооружение! Ну, а если конкретнее - сейчас я готовлю новую программу на идиш с участием детей. Моя подруга - поэтесса и композитор Сара Зингер - открывает студию, надеясь обучать детей языку через песни. Есть на израильской - и не только - эстраде относительно молодые и просто молодые голоса. Пятидесяти-, сорока-, тридцати-, даже двадцатилетние вокалисты... Называть имен не буду, чтобы не обидеть остальных. Не все исполнители одного уровня, но интерес к идиш и желание совершенствоваться, бесспорно, есть.
Черная накидка на голове. Женя исполняет песню-предупреждение Мордехая Гебиртига (1877-1942) о грядущей беде, которая обрушится на местечко. Когда в зале зажигается свет, многие зрители вытирают наворачивающиеся слезы. Эта песня cложена в 1930-х годах, перед самым Холокостом. А звучит так, будто написана сегодня. Дай Б-г нам не повторить ошибки того поколения...
Автор: Шломо Громан
Источник: http://www.7kanal.com/article.php3?id=202683
(сокращено)
Клара Рокмор
Клара Рокмор (en. Clara Rockmore, урождённая
"Рейзенберг "; 9 марта 1911, Вильнюс — 10 мая 1998, Нью-Йорк)
— американский музыкант, исполнительница на терменвоксе. Сестра Нади Рейзенберг.
Девочка-вундеркинд, Клара Рейзенберг начала учиться игре на скрипке в
Санкт-Петербурге, в пятилетнем возрасте, у самого Леопольда Ауэра. Однако
в дальнейшем (как утверждается, из-за проблем с формированием костей,
возникших в детстве в голодной революционной России) Клара по состоянию
здоровья отказалась от карьеры скрипачки. С 1922 г. семья Рейзенбергов
жила в США. В 1927 г. Клара Рейзенберг познакомилась с Львом Терменом,
изобретателем терменвокса, который в это время работал в США, и непосредственно
у него научилась игре на новом инструменте.
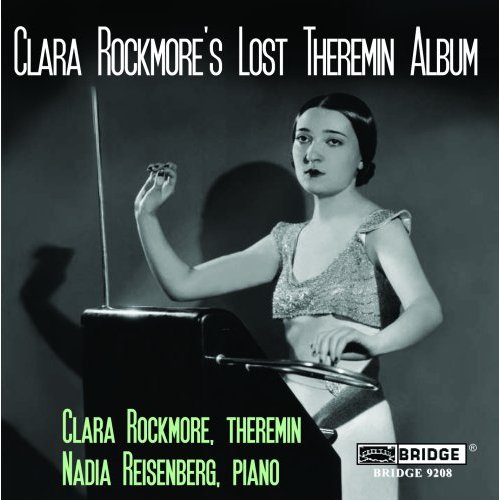
Скрипачка-виртуоз, она быстро овладела искусством исполнения на терменвоксе, а Лев Сергеевич не чаял души в своей новой ученице. На её 18-летие подарил ей торт, который раскрылся и заиграл, когда к нему приблизилась его Клара. <...> Клара стала выдающейся «терменвоксистской». Благодаря ей изобретение Термена приобрело в США широкую известность. Она увлекла великого дирижера Леопольда Стоковского, он написал концерт для терменвокса с оркестром, который Клара исполняла в сопровождении Филадельфийского симфонического оркестра. [http://theremin.ru/termen/thkhark.html]
Имея, в отличие от самого Термена, профессиональное музыкальное
образование, она во многом способствовала усовершенствованию самого инструмента
и техники игры на нём, стремясь к исполнению классического репертуара
(вокализы Рахманинова, «Лебедь» Сен-Санса и т. п.).
Клара Рейзенберг-Рокмор концертировала в США и других странах на протяжении
многих лет (иногда вместе со своей сестрой Надей в качестве аккомпаниатора),
оставила ряд записей.
Источник: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/28720
Ещё один материал об удивительном музыкальном инструменте и выдающихся исполнителях:
Терменвокс — самое известное творение русского инженера Льва Термена, музыкальный инструмент, увековечивший имя своего изобретателя. Лев Термен, получивший как музыкальное, так и техническое образование, открыл принцип работы этого нового электронного музыкального инструмента в первые годы после Октябрьской революции. Терменвокс сразу после своего рождения пользовался вниманием самых разных людей, от политиков и музыкантов до обычных слушателей и энтузиастов радиоэлектроники, и продолжает жить до сих пор, звучит в современных концертах и альбомах, используется в музыке самых разных стилей и направлений.
Клара Рокмор по праву считается первопроходцем электронной музыки, а кто-то из современных музыкантов даже назвал ее “Джими Хендриксом терменвокса”. Именно она была первым музыкантом на Западе, освоившим этот непростой инструмент. Игра Клары Рокмор поистине виртуозна, потрясает своей музыкальностью и экспрессией. Кларе потребовалось около 7 лет, чтобы овладеть игрой на терменвоксе. Она выступала с Нью-Йоркским симфоническим оркестром под управлением Леопольда Стоковского. В качестве музыканта Клара сотрудничала с Львом Терменом, помогая ему улучшать первые модели инструмента. Она разработала свой собственный стиль игры, который и поныне является образцом для многих современных терменвоксистов.
Американка Памелия Курстин, по ее собственному признанию, не собиралась становиться терменвоксисткой. Она получила основательное музыкальное образование (скрипка, виолончель, контрабас), играла в составе джазовых коллективов, но в 1997 году, посмотрев документальный фильм с участием Клары Рокмор, она настолько заинтересовалась этим инструментом, что решила попробовать поиграть на нем. Терменвокс понравился ей прежде всего тем, что его звучание чем-то напоминало скрипку. Памелии посчастливилось лично познакомиться с Кларой Рокмор и Бобом Мугом, и это определило ее дальнейшую судьбу.
Источник: http://www.1000tracks.ru/termenvox/
Хэди Ламарр

В 1999 году некая дама подала в суд округа Орандж (шт. Флорида) иск,
в котором она потребовала выплаты 15 млн. долл., из них половину - как
10% от объема продаж программы CorelDraw 8, а другую половину - в качестве
компенсации за моральный ущерб за использование в рекламных целях компанией
Corel небольшой цифровой иллюстрации, созданной художником Джоном Коркери.
Компания Corel использовала ее для рекламы CorelDraw, поместив изображение
на коробку, обложку руководства и титульное окно программы. Женщиной,
подавшей иск и изображенной на цифровой иллюстрации, была Хэди
Ламарр.
В годы Второй мировой войны эта блистательная красавица изобрела сигнальное устройство, с помощью которого обеспечивалась секретность военной связи. Без ее изобретения – технологии "прыгающих частот" – не летали бы сейчас военные спутники, не работали бы радиоуправляемые торпеды и не было бы сотовых телефонов стандарта GSM. Женщина и такое? Кто-то и не поверит, а зря.
Эта знаменитая киноактриса появилась на свет в столице Австрии в 1915 году в семье банкира, и звали ее тогда Хедвиг Ева Мария Кислер. Там же, в Вене, она ходила в театральную школу и рано начала сниматься в кино. Скандальную известность принесла ей чехословацкая кинолента "Экстаз", один из немногих тогда художественных фильмов с откровенными эротическими сценами. Первая в истории художественного полнометражного кино десятиминутная сцена обнаженного купания в лесном озере в 1933 году она вызвала бурю эмоций. Картина была запрещена к показу в ряде стран и была выпущена в прокат через несколько лет с купюрами цензуры.
 |
 |
После съемок "Экстаза" Ева Мария Кислер вышла замуж за фабриканта – производителя оружия, австрийского миллионера Фрица Мандла. Одно из крупнейших состояний в Европе Мандл нажил, продавая в нарушение Версальского Договора новейшие системы вооружений Германии и Венгрии. Новоиспеченный муж оказался невероятно ревнивым и попытался скупить все копии скандального кинофильма, чем только подогрел к нему общественный интерес. Жизнь Евы в Зальцбургском замке в окружении многочисленных слуг, среди шикарных драгоценностей и модных нарядов со стороны могла показаться безоблачной. На самом деле, прославившаяся актриса стала очередным выгодным приобретением Мандла наряду с породистыми лошадьми и дорогими автомобилями.
 |
 |
Супруг не отказывал себе в удовольствии похвастаться красавицей женой не только перед сливками австрийского общества, но и перед своими деловыми партнерами. За неимением других интеллектуальных занятий Хеди присутствовала на производственных совещаниях, внимательно слушала и вникала в сложнейшие технические вопросы. "С детства мне все вокруг было интересно", – писала она в воспоминаниях. Лаборатории Мандла работали над созданием управляемых вооружений различного рода. Вариант управления по проводу, опробованный на пушечных снарядах, оказался неприменим в водной среде, поэтому для торпед было предложено использовать радио. Австрийские специалисты так и не смогли преодолеть технологические недостатки классической радиопередачи. А природного ума молодой женщины, не имевшей специального образования, как выяснилось позже, хватило на то, чтобы понять суть проблемы, пронести информацию через годы и, в конце концов, предложить простое до гениальности решение.
 |
 |
После четырех лет неудачного замужества, подсыпав снотворного
горничной, фрау Мандл совершила хрестоматийный побег из замка, принадлежащего
супругу. Дело обошлось без веревочной лестницы – переодевшись в униформу
упомянутой горничной, Ева просто вышла через служебный ход. Вращаясь в
окружении мужа, она, вероятно, лучше других представляла масштабы фашистской
угрозы и не рискнула остаться в Европе. На пароходе "Нормандия"
она храбро отправилась в путешествие из Лондона в Нью-Йорк.
Актрисе не пришлось обивать пороги Голливуда, так как ее дебют был настолько
громким, что забыть его кинематографистам было бы трудно. Чтобы своим
именем не вызывать ассоциаций с эротическими сценами у пуританской публики
США, Ева взяла псевдоним, и Хедвиг Кислер превратилась в Хеди Ламарр,
которая сразу же подписала выгоднейший контракт с основателем студии MGM
Луисом Мейером.
За свою кинокарьеру в Голливуде актриса с успехом сыграла во многих популярных
фильмах, таких, например, как "Опасный эксперимент" и эпическая
лента Сесиля де Милля "Самсон и Далила" В общей сложности Хеди
Ламарр заработала на киносъемках 30 млн. амер. долларов. Личная ее жизнь
также была бурной, во всяком случае замуж она выходила шесть раз.
Когда началась Вторая мировая война, ненавидящая фашизм актриса, переполненная
техническими идеями, обратилась в созданный в рамках мер по укреплению
обороноспособности США Национальный совет изобретателей и предложила свои
услуги. Реакцию Совета угадать нетрудно: ей с улыбкой порекомендовали
использовать обаяние для продажи облигаций оборонного займа. Она действительно
собрала 7 млн. – каждый купивший облигаций на 25 тыс. получал поцелуй
красавицы, и таких было немало!
Недюжинный интеллект Хеди Ламарр оставался невостребованным до встречи
с Джорджем Антейлем, американским композитором-авангардистом. Наиболее
известное его произведение – "Механический балет" для симфонического
оркестра, двенадцати механических пианино и авиационного пропеллера. Мало
кто воспринимал его как серьезного композитора – в Голливуде он писал
музыку к кинофильмам и подрабатывал обозревателем в бульварном журнале
"Эсквайр".
Летом 1940 года Хеди Ламарр встретила его на вечеринке. Разговор быстро
сместился на интересовавшую их обоих тему: как помочь стране в войне с
фашистами. Не совсем чуждый техники композитор был первым человеком, внимательно
выслушавшим Ламарр. Они договорились о встрече, и вскоре идея перескока
частоты (frequency hopping) получила техническое решение. При полном отсутствии
микроэлектроники единственным доступным программируемым устройством было
механическое пианино! Валик со штырями и приводом от хронометра выглядел
достаточно компактным, чтобы поместиться в корпусе морской торпеды.
Система могла использовать набор из 88 радиочастот – число клавиш фортепиано.
Детали изобретения отрабатывались еще несколько месяцев, и в декабре 1940
года заявка на изобретение была направлена лично председателю Национального
совета изобретателей Чарльзу Кеттерингу и в августе 1942 года патент США
2.292.387 на "Систему секретных сообщений" был наконец получен.
Соавторы подарили его правительству, отказавшись от всех возможных выплат.
Руководство Военно-морских сил США скептически восприняло патент. Он был
засекречен и на долгие годы положен под сукно. Концепция перескока частоты
опередила свое время и была востребована только с развитием электроники
после войны, тогда и появился термин "широкополосный сигнал".

Джордж Антейл скончался в 1959 году, так и не узнав о судьбе изобретения.
После еще пяти неудачных браков Хеди Ламарр потеряла все свое состояние
и вынуждена была провести остаток дней в доме престарелых во Флориде.
Энтузиасты беспроводных компьютерных сетей, случайно раскопав ее невероятную
историю, пытались представить Хеди Ламарр к Медали Чести Конгресса и к
награде IEEE, но их усилия не увенчались успехом. Только в 1997 году награда
нашла своего героя...
А что же иск? Адвокаты же Corel доказывали, что изображение актрисы представляет
собой "цифровое подобие", а не фотографию. В результате стороны
пришли к соглашению, по которому Corel получила пятилетнюю лицензию на
право использования внешности актрисы на коробках со своим продуктом,
а сама Ламарр – "кругленькую" сумму.
Последний год жизни Хеди Ламарр также ознаменовался скандалом: она подала
иск на 12 млн. долларов против винной компании «Галло», которая использовала
в телерекламе своего продукта экранный образ актрисы. Судья посчитал,
что эти рекламные ролики не вторглись в ее частную жизнь и не создали
у зрителей ложного впечатления о ней как о человеке.
19 января 2000 года в возрасте 86 лет Хеди Ламарр скончалась в доме престарелых.
Источник: http://terrao.livejournal.com/873036.html
Маргарита Эскина
Родилась 22 декабря 1933 года в Москве. Отец – Эскин Александр Моисеевич (1901–1985), создатель и первый директор Дома актера имени А.А. Яблочкиной, заслуженный работник культуры РСФСР. Мать – Зинаида Сергеевна, балерина, танцевала в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, на эстраде. Сын – Игнатов Алексей, окончил Институт связи, работает генеральным директором в американской фирме. Дочь – Зарина Александра, окончила медицинский институт, работает в медицинской фирме. Внуки: Дарья (1982 г. рожд.), менеджер в фирме «Орифлейм»; Александр (1986 г. рожд.), студент Российского государственного гуманитарного университета; Георгий, студент МГУ.
|
 |
М.А. Эскина вспоминала: «Решил мою актерскую судьбу Иван Николаевич Берсенев. Когда я, изображая маленького сыночка Норы, попыталась уйти со сцены через нарисованную дверь, Иван Николаевич взял меня за шкирку и легким пинком отправил за кулисы. Так был поставлен крест на моей артистической карьере, но я нимало об этом не жалею». После переезда в Москву Маргарита поступила сразу во 2-й класс. Училась средне, была послушным, ничем не выдающимся ребенком. Характер резко изменился в 8-м классе: по ее собственному выражению, из «клуши» она превратилась в лидера, стала секретарем комитета комсомола школы. Маргарита обожала младшую сестру, воспитывала, читала ей стихи. Мечтала стать педагогом.
Отец воспитывал дочерей безо всякого морализаторства, никогда не запрещал что-то читать или смотреть. Не требовал особой дисциплины. Но умел он быть и устрашающе строгим. Если Маргарита с друзьями слишком шумели у нее в комнате, он входил и произносил всего одну фразу: «Что здесь происходит?!» Но тон был таким, что всех как ветром сдувало. Роль отца и его главного дела – Дома актера в жизни Маргариты Эскиной трудно переоценить. Даже в годы сталинской эпохи в Доме сохранялась атмосфера творческого вольнодумства и непринужденной игры. «Капустники» и «посиделки» отличались дерзким юмором и остросовременным подтекстом. В числе постоянных участников и сочинителей «капустников» – знаменитые актеры, «законодатели мод» М. Миронова, В. Топорков, О. Абдулов, И. Раевский, Н. Дорохин, В. Канделаки, Р. Плятт, Р. Зеленая, драматурги – В. Масс, М. Червинский, М. Слободской, В. Дыховичный.
«В искусстве театра папа понимал далеко не все, – вспоминает Маргарита Александровна. – В театре он был не профессионалом, а зрителем. Но интуитивно чувствовал многое. Выводил на сцену Дома актера никому не известных талантливых артистов, представляя их театральному миру. Ему было свойственно благоговение перед актерами. Казалось бы, он общался с ними ежедневно на протяжении многих лет и тем не менее с такой радостью и гордостью порой сообщал: “Знаешь, Маргуля, мне сегодня звонил Станицын!”. Он очень гордился всеми нашими достижениями. Обзванивал друзей: “Леонид Осич (Утесов. – Ред.), это Эскин. Как у вас? А Маргуля (Маргарита Эскина. – Ред.) сегодня получила повышение!” Потом набирал следующего – Плятта, Менакера… Позже он так же гордился внуками. Сам же был чрезвычайно скромным человеком. На пленках с записью передачи “Театральные встречи” папа всегда – в самой глубине кадра».
Окончив школу в 1952 году, Маргарита Эскина решила поступать в педагогический институт на исторический факультет. На собеседовании ректор спросил, не эстонская ли у нее фамилия? Она ответила: «Нет, еврейская». Ректор поинтересовался: «А на каком языке вы говорите дома?» Стало ясно, что, несмотря на незнание еврейского языка, поступить в институт вряд ли удастся. Через несколько дней Маргарита сама забрала документы и отнесла их в приемную ГИТИСа. Экзамены Маргарита Эскина сдала успешно, поступила на театроведческий факультет. Училась с упоением. В то время в ГИТИСе преподавали такие знатоки театрального искусства, как А. Дживелегов, С. Мокульский, Г. Бояджиев, А. Аникст, П. Марков. В студенческие годы умопомрачением всего курса был Александр Вертинский. Если его концерты случались в ЦДА, студенты, во главе с Маргаритой Эскиной устраивали настоящие набеги. Пока она расточала улыбки знакомым билетерам, ее однокурсники один за другим просачивались в зал.
ГИТИС М.А. Эскина окончила в 1956 году. Волею судьбы дальнейшая ее жизнь на протяжении почти четверти века оказалась связана с телевидением. Маргарита Эскина еще сдавала последние выпускные экзамены, когда ее друг Сергей Муратов, работавший тогда на телевидении в отделе программ, неожиданно предложил ей подменить его на время отпуска. Так в 1956 году М.А. Эскина переступила порог телестудии на Шаболовке. На телевидении тогда работало всего человек 200, вместе с теми, кто обслуживал технику. В обязанности Маргариты Эскиной входило составление программы, которая тогда не публиковалась. Вскоре М.А. Эскина стала старшим редактором, а затем и заместителем главного редактора Молодежной редакции ЦТ.
Тогда на телевидении все только начиналось: первые «Новости», первые внестудийные передачи, первые телеспектакли. Пришедший директором на ЦТ Георгий Александрович Иванов стал для Маргариты Эскиной лучшим руководителем в жизни. Установка, которую они вместе провозглашали: телевидение должно быть независимым от кино и театра. Маргарита Александровна вспоминает: «Если я приносила ему программу, где стояли три фильма в неделю, был скандал. Мог идти один, все остальное должно быть собственного производства». При Маргарите Эскиной стали выходить в эфир передачи «Алло, мы ищем таланты», «А ну-ка, девушки!», «Аукцион», «От всей души».
В те годы атмосфера на ТВ была удивительная. Все жили как одна большая семья: царили дружелюбие, взаимопонимание, творческий подъем. Маргарита Эскина не сомневалась, что проработает здесь всю жизнь. Однако в 1979 году председателем Гостелерадио стал С. Лапин. Началось гонение на неугодных. Вскоре Маргариту Александровну перевели в Телерадиофонд, откуда она вскоре ушла сама. Ее деятельный, творческий характер пришелся не к месту в размеренной, давно устоявшейся архивной жизни. Расставание с телевидением стало настоящей трагедией, казалось, что жизнь кончена. В течение 10 лет Маргарита Эскина неоднократно меняла место работы: работала в журнале клуба «Художественная самодеятельность» в период его расцвета, в Оргкомитете «Олимпиады-80» – руководила отделом подготовки церемоний открытия и закрытия, заместителем директора в оркестре у В. Дударовой, художественным руководителем в ДК МАИ, в «Союзгосцирке».
В конце концов, А.В. Эфрос пригласил ее работать в Театр на Таганке завлитом. До этого Маргарита Эскина не была знакома с Анатолием Васильевичем, имела смутное представление о театре, но, поговорив с Эфросом, она поняла, что за человеком с такими глазами она пойдет туда, куда он скажет. Работать было непросто: отношения с труппой не ладились, должность незнакомая. Но из этого недолгого периода запомнились на всю жизнь репетиции «На дне» – невероятно захватывающая работа Эфроса и замечательных актеров Театра на Таганке. Почувствовав, что не может быть поддержкой Эфросу, Маргарита Эскина вскоре ушла из театра. В середине 1980-х годов М.А. Эскина работала директором Генеральной ассамблеи Объединения детских художественных театров. Потом ее пригласили заведовать репертуарным отделом Управления культуры Мосгорисполкома.
С началом перестройки Маргарита Александровна внезапно становится очень востребованной. В 1987 году М.Ф. Шатров приглашает ее в только что созданный Союз театральных деятелей. Маргарита Эскина начинает заниматься созданием Бюро пропаганды советского театра. Но судьба вела ее другим путем. Буквально в те дни, когда С.Ю. Лавров уже был готов подписать приказ о ее назначении генеральным директором вновь созданной организации «Союзтеатр», М.А. Ульянов несколько раз настойчиво приглашает Маргариту Эскину прийти в ЦДА. И в итоге она соглашается.
М.А. Эскина вспоминает: «Оглядываясь на прожитое, понимаю – все в жизни не случайно. Видимо, линия судьбы неуклонно, хотя и кружными путями, вела меня к истокам – к любимому, до боли знакомому Дому Актера… После папиной смерти я получила в наследство, как теперь понимаю, самый бесценный дар – его доброе имя. Оно служило мне и визитной карточкой, и характеристикой, и лучшей рекомендацией. В первое время после моего назначения директором ЦДА многие актеры, хорошо знавшие папу, приезжали на Тверскую только для того, чтобы увидеть меня и порадоваться: в кабинете Александра Моисеевича – его дочь Маргарита Александровна Эскина! Подобное отношение трогало меня до глубины души и одновременно ко многому обязывало». Маргарита Эскина пришла в Дом актера с убеждением, что никогда не сможет там достичь того, что сделал ее отец. Но помогло горячее желание продолжить его дело, пригодился и многолетний опыт работы на телевидении. Началось возрождение Дома Актера. За три года многое удалось сделать.
Но 14 февраля 1990 года случилась трагедия. Здание Дома актера на Тверской сгорело. За этим последовал один из самых трудных периодов в жизни Дома. Полтора года после пожара приходилось работать на чужих сценических площадках. Театры, Дом архитектора, Дом кино, Дом ученых, Музей имени М.Н. Ермоловой – все предоставляли помещения. Из этого бездомного периода запомнились: творческий вечер Ю. Кима, встреча с ансамблем «Кохинор и Рейсшинка», привезенный из Ленинграда «капустник» «Четвертая стена», вечер, посвященный Международному дню театра… Вопреки всему, Дом актера продолжал жить творческой жизнью. Лишь в конце 1991 года Министерство культуры СССР приютило Дом актера в своем здании на Арбате. После распада СССР началась напряженная борьба ЦДА за право владения домом. Наконец благодаря участию и усилиям многих театральных деятелей здание на Арбате, 35 Указом Президента России Б.Н. Ельцина было передано Дому актера в безвозмездное пользование. Огромную роль в разрешении этого вопроса сыграли директор Дома Маргарита Эскина, народные артисты СССР Мария Миронова, Евгений Евстигнеев, Элина Быстрицкая, Олег Табаков, Ольга Лепешинская и многие, многие другие. Дом актера отстояли, несмотря на мощное противодействие и все официальные комиссии.
На новом месте Маргарита Эскина начинала все с начала. Постепенно Дом начал жить полной жизнью. Достаточное количество помещений позволило проводить в один день несколько мероприятий, возникли новые секции и клубы. Среди них – клуб ветеранов сцены «Еще не вечер», клуб «Дорогого стоит» – увлекательные рассказы о домашних театральных архивах, клуб русского романса «Хризантема» и другие. Продолжают жить и многие существовавшие раньше формы работы Дома: творческие вечера, встречи со зрителями, чтецкие «Третьи понедельники», презентации книг. Но главным достижением Маргарита Эскина считает то, что удалось перенести в новое здание атмосферу «папиного» Дома, сохранить традиции бескорыстия, патриархальности, домашности, камерности. В 1993 году ЦДА учредил свою актерскую премию имени А.А. Яблочкиной. Лауреатами стали Юлия Борисова, Игорь Охлупин, Олег Ханов, Мария Миронова, Вера Васильева, Михаил Ульянов, Николай Анненков.
В Доме действуют три гостиные, Камерный зал на 80 мест, реконструирован Большой зал. В 2001 году на первом этаже построен новый Малый зал, оснащенный по самым современным требованиям. Малый зал открылся премьерой Э. Олби «Три высокие женщины» (режиссер Р. Мархолиа, в главной роли – Зинаида Шарко). ЦДА – соучредитель и соучастник проведения ряда крупных международных и всероссийских акций: Международный фестиваль театральных школ «Подиум», Международный фестиваль моноспектаклей, конкурс актерской песни имени А. Миронова, Всероссийский фестиваль «капустников» «Веселая коза» в Нижнем Новгороде. В 2003 году к юбилею М. Эскиной прошел великолепный вечер в ее честь, а 14 февраля 2007 года в помещении Государственного академического Малого театра отмечалось 70-летие Дома актера.
М.А. Эскина – автор многочисленных интервью на радио, телевидении, в журналах и газетах. С 1999 года – на ТВ «Культура» – автор и ведущая регулярного телецикла «Дом актера». Она – лауреат премии Правительства Москвы (2000), международной премии «Афина» (1993), международной премии «Оливер», «За гуманизм сердца» (1999). Награждена медалями «За трудовое отличие», «Ветеран труда». В 2001 году ей было присвоено звание академика Международной академии театра. Эти годы были очень сложными для Маргариты Александровны - она боролась за НАШ ОБЩИЙ ДОМ - Дом Актёра оставался Домом для всех. Издевательства "сильных мира сего" (один лишь суд, назначенный на 27 марта, в День Театра, чего стоит) не прошли, как мы видим, без последствий... Маргарита Эскина скончалась в феврале 2009-го года.
Источник: http://community.livejournal.com/chtoby_pomnili/274901.html#cutid1
Вера Каралли
 |
 |
Вера Алексеевна Каралли (1889 —1972), известная русская балерина, хореограф и актриса немого кино. Вера Каралли родилась в Москве 27 июля 1889 г. В 1906 г. Вера Каралли окончила театральное училище. С 1906 г. Вера Каралли была солисткой Большого театра, участвовала в "Русских сезонах" в составе труппы Сергея Дягилева за рубежом. В 1914 г. Вера Каралли дебютировала в кино в фильме П.И.Чардынина «Ты помнишь ли?». Партнерами Каралли по этому фильму были сам Чардынин и Иван Мозжухин. За короткий промежуток времени Вера Каралли стала одной из ярчайших кинозвезд эпохи немого кино. Артистам Императорских театров было запрещено сниматься в кинематографе, но Каралли была уверена, что московский балет нуждается в ней больше, нежели она в нем. Очевидно, так считало и руководство Императорских театров. Большую часть ролей Вера Каралли сыграла у Чардынина, а также у еще одного известного русского режиссера Евгения Бауэра. Блистала она и в фильмах Ханжонкова. Современники хвалили её за "сильную игру".

Снималась в фильмах: «Война и мир», «Смерч любовный», «Умирающий лебедь» и др. Вместе с сестрой Феликса Юсупова принимала участие в убийстве Григория Распутина. После революции 1917 г. Вера Каралли уехала из России. Некоторое время она работала в Литве, Румынии, Франции и Австрии. Потом обосновалась в Вене, где давала уроки балетного мастерства. Умерла Вера Алексеевна Каралли 16 ноября 1972 г. в Австрии.
Источник: http://botinok.co.il/node/50209
Мария Пуаре
Маруся выходила замуж не по своей воле. Родственники торопились пристроить 16-летнюю невесту за «удачного» жениха, инженера Михаила Свешникова. Не молод, почти 50 лет, зато скромен и уважителен. Его кандидатура всех устраивала. Особенно старших сестер Марии, Евгению и Александру, которые все никак не могли найти себе женихов. Обе были крупного телосложения и чрезвычайно невыразительные на лица. Мария их всегда раздражала. Невысокая, стройная блондинка с голубыми глазами. Вся в мать, такая же красавица! К тому же, как оказалось, талантливая. Хорошо поет, пишет стихи…

Мария Пуаре родилась в Москве 4.01.1863 года (145 лет
назад), она была 7-м ребенком в семье. Убежать из дома Маруся мечтала
еще в детские годы. Ее мать, Юлия Андреевна Тарасенкова, дочь фабрикантов,
торгующих сукном, умерла, едва Марусе исполнилось восемь лет. Отец, Яков
Пуаре, француз, основавший в Москве школу гимнастики и фехтования, погиб
на дуэли несколько лет назад. Теперь Марию больше никто не мог удержать
здесь. Да и дядя, живший в их семье, настаивал на браке племянницы. Он
был с самого начала против поступления Марии в консерваторию, где она
мечтала учиться пению. Но у девушки, к счастью, был неуступчивый и упрямый
характер. На доводы старого мужа, который поддерживал во всем родственников
жены, Мария только хмурилась и требовала не просить от нее невозможного.
Дядя и муж говорили что, если Мария не станет их слушать, то лишат ее положения в обществе (которого к тому времени она и так еще не имела), приданого (за ней дали 10 тысяч рублей!) и даже отправят… в сумасшедший дом. Молодая женщина не находила себе места от возмущения, она то плакала, то смеялась. Но родственники не шутили. И очень скоро это юное и неопытное в житейских делах создание очутилось в больничной палате с остриженной головой. Впоследствии освободиться из этого ада ей помог брат подруги, известный в Москве антрепренер Михаил Валентинович Лентовский. Он ласково называл Марию «Лаврушка», а она от стыда за свой «наряд» расплакалась… В театре Лентовского Мария Пуаре (сценический псевдоним «Марусина») играла 10 лет. Она с блеском выступала во всех оперетках. Была на сцене живой и веселой, лихо пела, сводя с ума своих поклонников. Мог ли он тогда предположить, что его «Лаврушка», став богатой и известной, будет поддерживать его материально до конца жизни, не жалея ни денег, ни своих дорогих украшений.
Вскоре на страницах газеты «Новое время» были напечатаны
ее первые стихи. Мария радовалась этому, как ребенок. А в Царском Селе
Марию Пуаре как исполнительницу романсов восторженно принимала публика.
Мгновенно становится известным ее романс «Лебединая песнь». К тому времени
Мария Яковлевна уже играла на сцене Александрийского театра. Ей 35 лет,
она полна надежд и желаний. Это было самое замечательное время в ее жизни.
Мария влюблена. Ее поклонник - князь Павел Дмитриевич Долгоруков. Они
оба умны, красивы.
В 1898 году Мария Пуаре родила дочь Татьяну. Единственное, что омрачало
ее жизнь, это невозможность выйти замуж за князя. Ее бывший муж не давал
согласия на развод. Мария сама едет к нему, уговаривает его, но он неумолим.
Старик Свешников, поселившейся в скиту, недалеко от Троице-Сергиевской
Лавры, предлагает Марии Яковлевне записать дочь на свою фамилию. Татьяна
лишь унаследовала отчество родного отца, которое Пуаре попросила вписать
в метрику девочки при крещении.
Спустя 10 лет, отношения у Марии Пуаре с князем становятся
натянутыми, нет прежней любви и тепла. Мария с дочерью переезжает в Москву.
Она мечтает создать свой театр. Но у Марии Яковлевны не было нужной хватки
для такого дела, верного и деятельного помощника, как Лентовский. Она
поступает в Малый театр и продолжает участвовать в концертах. Мария Пуаре
пела романсы, в том числе собственного сочинения. Среди них романс «Я
ехала домой, я думала о Вас…» (1901 г.). Романс подхватывают другие певицы,
и вот он уже популярен.
Ей хочется что-то делать, действовать. Мария чувствует дыхание нового
времени. С благотворительными концертами она едет на Дальний Восток, где
идет русско-японская война (1904-1905 г.). Успевает писать стихи и корреспонденции.
В 1904 году Мария возвращается в Москву с большим желанием выступить перед
публикой с новыми стихами.
Совсем скоро судьба пошлет Марии Яковлевне новое испытание.
В Москве она познакомилась с графом, членом Государственной думы, состоятельным
помещиком, Алексеем Анатольевичем Орловым-Давыдовым. Ей казалось, что
она влюблена. А может, приближающееся одиночество волновало ее… Бывший
муж Марии к тому времени умер. Орлов-Давыдов ушел от жены, баронессы Де
Стааль, оставив троих детей. К несчастью, его сын и будущий наследник
всего состояния был серьезно болен. Мария обещает родить ему наследника.
Ей 50 лет, но граф верит в ее фантазии. И однажды она объявила супругу,
что ждет ребенка… Маленький Алексей, названный так в честь отца, появился
на свет к приезду графа из длительной командировки. Только узкий круг
людей знал, что Мария Пуаре взяла ребенка в одном из приютов. Но покой
в их семье был недолгим. «Добрый» человек выведал тайну Марии Яковлевны
и стал шантажировать то графа, то графиню, требуя взамен молчания денег.
Многие исследователи странной судьбы певицы писали, что это был некий
статист Карл Лапс. Якобы, он впоследствии склонил графа начать дело в
суде против супруги. Задолго до суда Орлов-Давыдов шептал жене: «Маша,
не волнуйся. Все будет хорошо. Я не пожалею для этого ни денег, ни связей».
И она, как всегда, наивно поверила.
И вот настал это злополучный день. Когда она подходила к зданию суда, услышала слова: «Мы вас любим! Мы с вами!» Но Мария Пуаре только низко опустила голову. Но тут послышался свист, и совсем рядом раздался чей-то хриплый голос: «Аферистка! Ишь ты, графиня Маруся! На миллионы позарилась!» Узнав, что истцом по ее делу является граф Орлов-Давыдов, Мария Пуаре едва не потеряла сознание. Она почти не слышала, о чем говорили в зале. Мария Яковлевна не могла поверить, что супруг при всех называл ее «авантюристкой, выскочкой, пожелавшей пролезть в высшее общество!» Тут же напомнил, что первый муж ее в сумасшедший дом отправил за несносный характер. Мария, не обернулась на его слова, она будто окаменела. Только подумала о том, что никогда не стремилась к богатству, ее не привлекали его титулы. Она хотела любви, счастья… В итоге длительного разбирательства суд оправдал Пуаре, а ребенка взяла себе его родная мать, крестьянка Анна Андреева.
Кто знает, сколько бы еще судачили об этом скандальном
случае в городе, если бы не события 1917 года, изменившие жизнь участников
этой драмы. Бывший супруг Марии Пуаре, Орлов-Давыдов, бежал за границу.
В 1927 году был расстрелян Павел Долгоруков. Петербургскую квартиру Марии
Пуаре большевики превратили в руины. В пенсии бывшей артистке Императорских
театров, да еще и графине Орловой-Давыдовой, отказали. Спустя какое-то
время по ходатайству В. Мейерхольда, Л.Собинова и Ю. Юрьева Марии Яковлевне
все-таки назначили персональную пенсию. Она переехала в Москву. Мария
Яковлевна Пуаре в свои 70 лет не роптала на жизнь. Она, живя в нищете,
продавала чудом сохранившиеся безделушки, кое-какие вещи, чтобы купить
продукты и любимый Пуаре кофе, который она всегда пила из фарфоровой чашечки.
Актрисы не стало в октябре 1933 года. Ее имя быстро забылось. Но в памяти
многих остался романс Марии Пуаре, в котором любит и грустит женское сердце…
| Я ехала домой, душа была полна Неясным для самой, каким-то новым счастьем. Казалось мне, что все с таким участьем, С такою ласкою глядели на меня. |
Источник: http://botinok.co.il/node/50442
Ещё одна публикация:
Кто не знает старинного русского романса "Я ехала домой"? Но издали не всем известно, что стихи и искусство этого чудесного произведения принадлежат артистке и певице начала ХХ века Марии Пуаре. Ее житье была похожа на калейдоскоп. избыток и нищета. Сценический победа и любовные вихри. Титулованная дама и узница петербургской тюрьмы. Ее дед - солдат, служил в армии Наполеона, кроме обосновался в России. Его сын, учитель гимнастики и фехтования, женился на дочери богатого русского фабриканта. Они и стали родителями будущей знаменитости Марии Пуаре. Но когда все-таки умирает мать, а на дуэли погибает отец, родственники торопятся выдать Марию замуж за первого подвернувшегося кандидата - инженера Свешникова. Жениху под 50, невесте едва минуло 16. Впрочем, душевный бунт юной супруги и рано проявившиеся артистические способности настолько раздражали инженера, что в конце концов он предпочел отправить ее в психиатрическую лечебницу. Правда, к тому времени Мария уже успела связаться с театром Михаила Лентовского. Режиссер и антрепренер вызволил девушку и зачислил в группу "пажей" - красивых артисток, исполнявших эпизодические роли. Завсегдатаи театра Лентовского не раз с восторгом аплодировали Марии, если она весело пела и плясала в модной тутто-оперетте "Курочка - золотые яйца".
Завоевав одну столицу, Пуаре перебирается в другую. Петербург встретил артистку с распростертыми объятиями. Она поступает на Александринскую сцену в Императорский театр и занимает видное помещение в качестве водевильной актрисы. Настолбцах петербургской газеты "Новое время" появляются ее стихи. Позднее Мария Пуаре предпринимает попытку создать в Петербурге что-то вроде подмостков сатиры. Увенчанная лаврами, артистка возвращается в Москву и становится популярной исполнительницей русских и цыганских романсов. Для спектакля по пьесе А. Плещеева "В своей роли" Мария Пуаре пишет ставшую сразу знаменитой "Лебединую песнь". Вся Москва валом валила в "Аквариум", и имя Пуаре было у всех на устах. Поклонники ходили за ней по пятам, забрасывали цветами и... дарили лебедей. Мраморных, серебряных, в виде чучел...
Популярнейший романс, который позднее с большим успехом исполняла "божественная" Варя Панина, оказался в какой-то мере пророческим и созвучным судьбе самой Марии Пуаре. Как-то случайно Мария познакомилась с графом Орловым-Давыдовым - членом Государственной Думы, крупным помещиком-миллионером. Связь продлилась долго. В конце концов граф развелся с супругой, урожденной баронессой Де Стааль, и сделал Пуаре предложение. Тем более, что она сообщила, что беременна. После "рождения" сына Алексея неожиданно выяснилось, что дитя "не настоящее", в связи с тем, что Пуаре от природы неспособна была иметь детей (а семейного счастья так хотелось!). Она купила "сына" у некой акушерки по газетному объявлению. Разразился скандал, дошедший до тюрьмы и суда. Суд Пуаре оправдал, ребенка вернули его законной матери-крестьянке Анне Андреевой, а Мария, оставшись опять одна, уехала к себе в имение под Москвой. Следы ее затерялись. Но остался романс, в котором печалится и тоскует женская душа.
Источник: http://www.russianlyrics.com/name/mary-puare/
Эмилия д’Алансон
Красавица Эмилия Андрэ, также известная как Эмильенна
д'Алансон, французская танцовщица. актриса и куртизанка - звезда Прекрасной
эпохи - родилась 18 июля 1869 года в Париже.Это было время элегантности
и безудержного веселья - веселые девяностые, Belle Epoque. Тулуз-Лотрек
обессмертил ночную жизнь той поры; Мулен Руж и Фоли Бержер заполняли толпы
красивых людей - богатые и знаменитые мужчины в сопровождении своих куртизанок,
ослепительных в блеске подаренных им драгоценностей. Парижское общество,
возможно, немного терпимее относилось к дамам полусвета и их желанию блистать
в обществе. В отличие от жесткой позиции Англии или пуританского неодобрения
Соединенных Штатов, во Франции отношение к дамам, которые стремились сделать
себе имя, было более космополитичным и урбанистичным.
Эти французские куртизанки - супермодели того времени - были известны
как "grandes cocottes", они предлагали себя богатым мужчинам,
которые помогали им нажить свое собственное состояние. Несмотря на то,
что они вызывали зависть и раздражение у широкой общественности, этих
дам обожали за их красоту и очарование и, чаще всего, за их остроумие
и юмор.

И вот именно в этой атмосфере веселья и беззаботности Эмильенна д'Алансон
стала частью Великой троицы знаменитых куртизанок, в число которых входили
Лиана де Пужи ( Лиана де Пужи ) и Ла-Бель Отеро( Каролина Отеро (La Belle
Otero) 1868-1965 ). Они соперничала между собой в красоте и власти над
влюбленными в них мужчинами, не зря их их называли «тремя грациями Прекрасной
эпохи».
Но ещё больше они соревновались в богатстве и количестве подаренных им
драгоценностей. Сохранился рассказ о том, что однажды Каролина Отеро пришла
в "Максим" вся увешанная бриллиантами, блистательная и сверкающая.
Через некоторое время там же появилась Лиана де Пужи с одним-единственным
бриллиантом на шее - но огромным, а следом за ней служанка внесла бархатную
подушку, на которую были приклеплены все её драгоценности. Говорили, что
у Эмильенны был бриллиантовый корсет выполненный для неё Картье.
Карьеру танцовщицы она начала в 1885-ом году. Год проучилась в Консерватории драматического искусства. В1889 году дебютировала танцовщицей в «Летнем цирке» Парижа с дрессированными кроликами. Зная, как и все модницы, что аксессуары играют важную роль в жизни женщины, она выходила на сцену цирка одетая в розовую шуршащую тафту, украшенную кружевами (как сказал о ней писатель Жан Лоррен "малиновый лед"). Для завершения эффекта она подкрашивала своих кроликов, придавая им шокирующе розовый оттенок и украшала их кружевными рюшами. История не сохранила сведений о том, что именно она делала с кроликами, но они, безусловно, вызвали сенсацию, появившись на арене цирка.
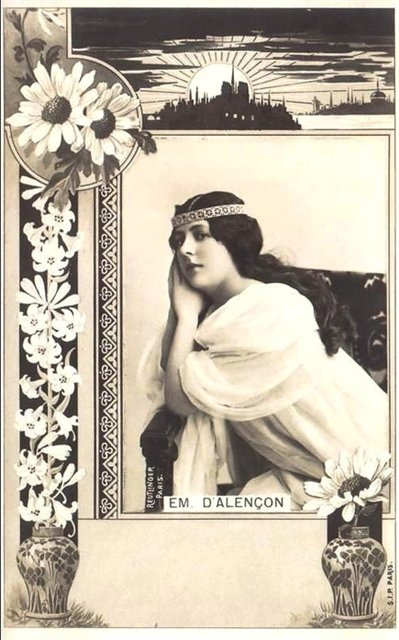
Возможно, ее выступление имело двойной смысл, поскольку кролики, хорошо
известны своими репродуктивными способностями, и они стремятся угодить
своей госпоже (видимо, таким образом она стремилась подчеркнуть власть,
которую куртизанки имели над покоренными мужчинами).
Позже она с огромным успехом выступала с этим номером в Фоли-Бержер. В
1891-ом году вышла на сцену в "Ревю", также выступала в Фоли-Берже,
Ла-Скала и Варьете. Блистала на сцене Казино де Пари, в концертном зале
Олимпия и других. Гастролировала в Лондоне.
Среди её интимных друзей были герцог Жак д’Юзес, бельгийский король Леопольд
II, офицер и игрок, любовник Коко Шанель Этьен Бальсан, у неё была связь
с поэтессой Рене Вивьен, что не помешало ей в 1895-ом году выйти замуж
за жокея Вудланда.
Её рисовали Тулуз-Лотрек, Жюль Шере. Ею восхищался Марсель
Пруст. С ней был знаком князь Феликс Юсупов, о чём рассказано в его мемуарах.
Считается, что именно она вдохновила Коко Шанель на создание знаменитых
духов Шанель № 5. Когда Эрнест Бо работал над парфюмерией для Шанель,
преамбулой рабочей идеи явилось убеждение самой Шанель в том, что естественные
запахи на женщине выглядят искусственно, и парадокс этой мысли трансформировался
в убеждение, что естественный запах нужно было создать искусственно.
Эрнесту Бо мерещились арктические озера ночью, а Мадемуазель Шанель, пытясь
выразить свою идею актуальной свежести, привела в качестве примера, в
качестве исходного "образчика" свое ощущение от Эмильенны:
Еlle sentait bon, elle sentait le propre - Она пахнет хорошо, она пахнет
чистотой.
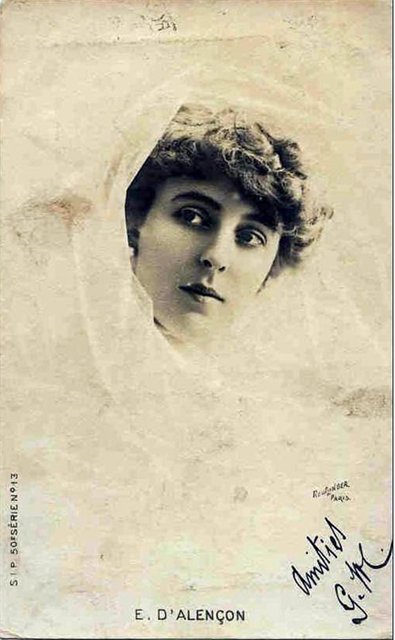
В 1906-ом году Эмильенна официально покинула сцену,
и в дальнейшие годы занималась разведением беговых лошадей и игрой на
скачках.
Увы, эта деятельность не принесла ей дохода. Фарфор и драгоценности д’Алансон
были проданы с молотка в 1931 году, был издан их каталог.
В том же году ей пришлось переехать в Ниццу, где она и умерла в 1946 году.
Актриса похоронена в Париже на кладбище Батиньоль.
Как бы то ни было, до сих пор вспоминают ее обаяние и талант, а также
ее замечательных розовых кроликов.
Как яркая примета времени фигурирует в романах Сименона («Четыре дня бедного
человека»), Лео Мале («За Лувром рождается солнце»), Жюльетты Бенцони
(«Гордая американка») и других.
Источник: http://botinok.co.il/node/50165
Лиана де Пужи

Лиана де Пужи (настоящее имя ее было Анна Мария Шассень) (2.7.1869, Сарта, Франция - 26.12.1950), прожила долгую жизнь и прошла путь от французской танцовщицы и куртизанки до румынской принцессы, а затем и монахини. Думаю, что немногие слышали о ней, хотя только на Google есть более 100 сайтов, посвященных этой даме. Дочь морского офицера, Анна Мария получила религиозное воспитание в монастыре в Морбиане. В 16 лет сбежала из дома с морским офицером, родила ему сына (впоследствии сын стал лётчиком и погиб на фронте в 1914 году). Хотя они вынужденно сочетались позже законным браком (из-за беременности), семейная жизнь их не сложилась. Муж был грубым и часто избивал её, а однажды пытался застрелить, застав её в постели с любовником. После двух лет брака Анна Мария оставила мужа и малолетнего сына и, воспользовавшись обстоятельствами, сбежала в Париж и добилась развода.

Там она встретилась с популярным драматургом и либреттистом Анри Мельяком, который влюбился в неё и помог ей устроиться её в Фоли-Бержер, на сцене которого успешно конкурировала с Эмильенной д'Алансон и Каролиной Отеро. В это же время она стала называться Лиана де Пужи - это имя досталось ей от одного из бывших возлюбленных. Брала уроки у Сары Бернар. Соперничала с Каролиной Отеро (их, вместе с Эмильеной д’Алансон, называли «тремя грациями прекрасной эпохи»). С успехом гастролировала в Великобритании. Дружила c Жаном Лорреном, Рейнальдо Аном, Максом Жакобом. Её писали известные художники, фотографировал Надар, к ее поклонникам принадлежал Д’Аннунцио.
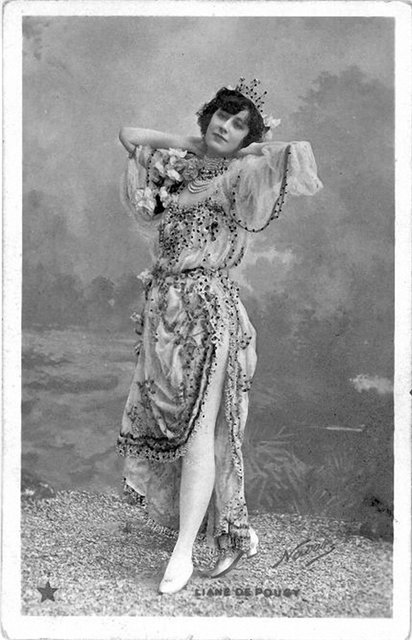
Отличалась бисексуальностью, среди её романов известны близость с художницей, писательницей и актрисой Матильдой де Морни, маркизой де Бельбёф (Мисси) и недолгая связь с Натали Барни, описанная Пужи в романе «Сапфическая идиллия» (1901). В 1910-ом году вышла замуж за безденежного румынского принца Георгия Гика. Ему было 23, ей было 35. После 16 лет счастливого брака князь бросил жену ради более молодой красавицы (но они не разводились). В 1928 Лиана де Пужи подружилась с настоятельницей монастыря Святой Агнесы под Греноблем, много жертвовала обители и завещала похоронить ее здесь.

С началом Второй мировой войны переехала в Лозанну. В 1945, после смерти
мужа, вступила послушницей в доминиканский орден. Ухаживала за умственно
неполноценными детьми в сиротском приюте. Умерла, как и мечтала, в ночь
Рождества.
Источник: http://botinok.co.il/node/50132
По мнению многих комментаторов, Лиана де Пужи являла собою идеал женской красоты своего времени, к которым и относятся нижеследующие строки Александра Блока:
И каждый вечер, в час
назначенный И медленно, пройдя меж пьяными, И веют древними поверьями И странной близостью закованный, |
Месть императрицы
При дворе Анны Иоанновны было, как известно, целых две
красавицы - царевна Елизавета Петровна и Наталья Лопухина (в девичестве
- Бальк, чистая немка, племянница Анны Монс).
Поскольку никаких полезных дел для себя эти две дамы придумать не могли,
то основным их занятием (помимо любви к разного рода мужикам) была взаимная
вражда. Как-то раз Н.Лопухина решила окончательно "добить" свою
соперницу...
Накануне очередного бала Елизавета заказала себе шикарный наряд из золотистого
шёлка, затканного жуткими розочками - как раз в духе новомодного рококо.
Наталья Лопухина каким-то образом разузнала, что за материя и приобрела
целый рулон такого же... Наверняка, многие подумали, что зловредная немка
закажет себе такой же золотистый наряд, но только роскошнеее, стильнее
и гламурнее? Да ну какой же это - прикол?!

Мода 1730-1740 гг.
...Итак, Елизавета прибыла во дворец, сияющая своей юной красотой и нагулянными
на нетрудовых доходах боками. Золотистый шёлк прекрасно оттенял её свежесть
и розовые поросячьи прелести. И вдруг Лопухина начала звать собравшихся
в одну из комнат - красотка, вероятно, трепыхала веером, хохотала и обещала
некий сюрприз. За пухлой немкой мужики ломанулись, как лоси. Короче, когда
сборище прибыло на место назначения, взору их предстала уютная комнатка,
вся мебель которой была обита тем самым золотистым шёлком в модных розанчиках...
Наверняка, над царевной в тот вечер все потешались и звали её "наш
комодик" или "вон та блондинка в жутких розочках".

Елизавета Петровна
Но Елизавета, когда пришла к власти, всё-таки отомстила Наталье Лопухиной.
Для начала она ей как-то раз выдрала клок волос прямо на балу за то, что
немка вплела в причёску свежую розу, точно такую же, как была у самой
императрицы. Елизавета срезала ей эту самую розу вместе с локоном, да
ещё дёрнула посильнее... А потом было знаменитое "дело Лопухиных",
как говорят, сфабрикованное приближённым к Елизавете Жанно Лестоком. Короче,
Наталью Лопухину объявили врагом народа по полной программе. Не из-за
"комода", конечно, а так, для порядку.
Источник: http://botinok.co.il/node/51530

