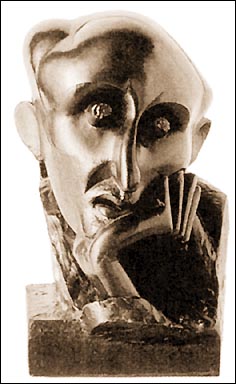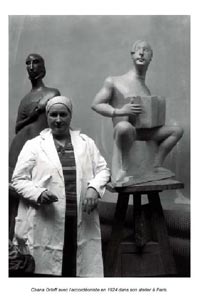-
Ингрид Бетанкур
-
Бывший кандидат в президенты Колумбии обрела свободу после шести лет плена
-
"Наше вызволение - знак того, что в Колумбии скоро должен наступить мир" - это было первое публичное заявление Ингрид Бетанкур, освобожденной из плена в результате уникальной антитеррористической операции. В заложниках у Революционных вооруженных сил Колумбии (ФАРК) она провела 2321 день. Бывший кандидат в президенты страны, Бетанкур была захвачена этой левоэкстремистской группировкой в 2002 году. -

-
Освобождение Бетанкур вызвало ликование сразу в двух странах - ведь она гражданка и Колумбии, и Франции. Французский президент Николя Саркози уже позвонил своему колумбийскому коллеге Альваро Урибе и поздравил его с "блестяще проведенной операцией".
На протяжении многих месяцев с повстанцами велись безрезультатные переговоры. Урибе соглашался освободить множество арестованных бойцов ФАРК, но категорически отказывался уступить группировке контроль над так называемой демилитаризованной зоной, где сосредоточены ее отряды. Родственники 46-летней Бетанкур умоляли власти ускорить переговоры. На последней видеозаписи, которую партизаны переслали правительству осенью прошлого года, у пленницы был болезненный и измученный вид. Близкие Ингрид боялись, что она не доживет до освобождения. К тому же в прессе появились сообщения, что у заложницы развился вирусный гепатит. Медлить было нельзя. -

-
Свободу Бетанкур и еще четырнадцати пленникам (11 колумбийским и трем американским военным) принесла специальная операция, которая наверняка войдет в учебники по антитеррористической войне. Как сообщил командующий вооруженными силами Колумбии генерал Фредди Падилла де Леон, правительственному агенту удалось внедриться в состав высшего руководства ФАРК. После этого в джунгли у подножия Анд военные направили вертолет без опознавательных знаков со спецназовцами, переодетыми в повстанцев.
"Группа захвата" высадилась в расположении отряда полевого командира ФАРК по кличке Цезарь. Накануне внедренный агент предупредил Цезаря, что планируется перевод пленных в другой район. Поэтому фарковцы, ни о чем не подозревая, приказали заложникам подняться на борт. Вместе с ними в вертолет вошел и сам Цезарь вместе с охранником. Обезоружили их уже в воздухе. В тот момент заложники поняли, что наконец обрели свободу.
Выйдя из вертолета на ближайшей военной базе, Бетанкур призналась: годы плена были самыми страшными в ее жизни. Ингрид по-прежнему хочет служить своей стране и мечтает стать президентом. - Автор: Алексей Василивецкий
- Источник: http://wwwl.ruschudo.ru/world/article3118054/
- Ингрид Бетанкур стесняется номинации на Нобелевскую
премию мира
-
Ингрид Бетанкур, проведшая шесть лет в плену колумбийских боевиков, заявила, что чувствует себя неловко из-за того, что президент Чили номинировал ее на Нобелевскую премию мира, сообщает Associated Press.

-
По мнению главы Чили Мишеля Бачелета, Бетанкур "является примером мужества для всего континента». «Мне немного неудобно в связи с номинацией, но я постараюсь оправдать оказанную мне честь", - сказала сама Бетанкур.
Освобожденная в июле из плена боевиков Бетанкур предприняла тур по Латинской Америке и сейчас находится в Чили. - Источник: http://www.zman.com/news/article.aspx?ArticleId=29403
-
Мария Куликова
Kогда казалось, что все плохо, жизнь, как водится, сделала Матросову подарок. Режиссеры Валерий Усков и Владимир Краснопольский утвердили Матросова на роль в сериале «Две судьбы» - там он свою судьбу и встретил. Ее звали Маша Куликова, актриса московского Театра сатиры. Роман Маши и Дениса развивался очень стремительно, что, как они признаются сегодня, стало большой неожиданностью даже для них самих

— Вы вместе уже 4 года. Романтику в отношениях не «съел» быт?
Маша. Романтика влюбленных проигрывает в сравнении с
теми вещами, о которых ты можешь узнать, прожив с человеком не один год.
Денис. Вот, например, в день моего рождения, 10 декабря,
все наши друзья, словно сговорившись, подарили мне экипировку для поездки
на море — ласты, маску, крем для загара и тому подобное. И только поздним
вечером я понял, что «заговор» организовала моя жена, которая уже купила
тур на двоих в Египет. Она знала, что я давно мечтал поплавать с аквалангом
в Красном море.
— У вас была любовь с первого взгляда, как в тех телеисториях, где
вы играете?
Маша. Скорее со второго! (Смеется.)
Денис. После первого съемочного дня мы уже не расставались,
а через 10 дней начали жить вместе... Кстати, знаете, что сказала мне
Маша на первом же свидании? А ты, говорит, в курсе, что я девушка твоей
мечты?!
Маша. Я хорошо помню тот разговор в машине, когда Денис
после съемок вызвался подвезти меня до дома. Вот мы едем, слушаем музыку,
болтаем. И тут Матросов говорит: «Где я мог слышать твой голос?» Тут я
и выпалила: «Во сне! Я же девушка твоей мечты!» Потом мы заехали в кафе,
и там он поведал мне историю своей жизни. О-о-о, каким он показался мне
одиноким и несчастным! А я девушка жалостливая.
Денис. Конечно, я ведь именно на жалость и бил.
 |
 |
— Денис, а что это была за история, о которой обмолвилась Маша?
Денис. Я семь лет прожил в гражданском браке. А дальше,
как говорится, не сложилось. Разрыв был тяжелым. Мне бы не хотелось углубляться
в подробности, скажу только, что эта история осталась с большим «хвостом»...
- В то время вы служили в Театре Армии и практически ушли в никуда.
Денис. Подать заявление об уходе было для меня настоящей
трагедией. Но это был вынужденный и необходимый шаг. Театр — вечное безденежье,
кино тогда только начинало возрождаться, работы не было. Чего только не
делал! Вел вечеринки, работал диджеем на радио, делал обзоры прессы на
телевидении, освоил компьютер и сделал свой сайт в Интернете. А предложения
сниматься, играть в антрепризах стали появляться позже.
— Маша, вы ревнуете Дениса к прошлому?
Маша. Раньше страшно ревновала. Я же понимала, что он
действительно любил ту женщину. Но сейчас-то я точно знаю, что никого
дороже меня у него нет.
 |
 |
— Вы ведь до знакомства с Денисом тоже не были одиноки?
Маша. Я несколько лет прожила со своим однокурсником.
Мы с ним расстались друзьями.
— Опыт прошлых отношений помогает вам справляться с проблемами сейчас?
Денис. Не скрою, я был напуган прошлым и побаивался серьезных
отношений.
А потом понял, что никакого подвоха от моей Маши ждать не надо. Она, конечно,
очень импульсивный, но при этом искренний и преданный человек.

Денис Матросов и Мария Куликова несколько раз пытались подать заявление
в загс, но им как будто что-то мешало: то Денис забывал свой паспорт,
то загс оказывался закрыт на ремонт, то они никак не успевали прийти туда
до закрытия. Ситуацию взялись исправить друзья пары. Накануне вечером
они зашли к Маше и Денису на чашку чая и как бы невзначай поинтересовались,
почему они до сих пор не женаты. Выслушав невразумительные объяснения,
друзья назначили им встречу в загсе уже наутро. Маша с Денисом как ни
в чем не бывало приехали туда в джинсах и футболках, совсем не рассчитывая
на то, что их так быстро распишут. И каково же было их удивление, когда
сотрудники загса дали им ровно час на подготовку к бракосочетанию! За
это время жених и невеста успели лишь купить обручальные кольца и вызвать
свидетельницу — Машину подругу, актрису Светлану Антонову.
Маша. Благодаря Денису я стала более терпимой, а главное,
научилась прощать. Раньше от моей категоричности страдали все. Я могла,
например, по сто раз в месяц собирать вещи, кричать, что между нами все
кончено... В общем, не ищи меня, но если что — я у мамы! Но с Денисом
подобные штуки не проходят. Он меня сразу предупредил: «Уходя — уходи!»
И тогда я поняла, что уходить-то мне не хочется. В общем, мне надоело
корчить из себя супердаму, для которой нет ничего важнее карьеры. Рядом
с Матросовым я расслабилась, и в нашей семье он абсолютный лидер.
— А кто у вас главный добытчик?
Денис. Деньги мы зарабатываем вместе. И никогда не считаем,
кто больше принес в семью. А вот что касается трат...
Маша. Да, я деньгами распоряжаться не умею! Раньше могла
в один день спустить весь гонорар. Денис учит меня бережливости, он о-о-очень
практичный человек.
Денис. Просто я знаю, что такое быть нищим. Считать копейки
и влачить жалкое существование больше не хочу.
— Вы до сих пор живете вместе с мамой Дениса?
Денис. Живем втроем и активно копим на квартиру. К сожалению,
цены на жилье растут, но мы не отчаиваемся.
— А как насчет детей?
Денис. Детей мы на будущее не откладываем! И, поверьте,
работа в этом направлении уже идет.
Текст: Елена Бирюкова
Источник: http://www.denismatrosov.narod.ru/hello_2.html
Асма Асад
Журнал Elle признал жену сирийского президента Башара
Асада Асму самой изящной первой леди мира, сообщает ИТАР-ТАСС.
На втором месте первая леди Франции Карла Бруни-Саркози, на третьем –
избранная первая леди США Мишель Обама.
Возглавляла жюри знаменитый дизайнер Соня Рикель. Кроме нее, самую изящную
первую леди выбирали кутюрье Изабель Маран, фотограф Сильви Ланкренан,
писательница Софи Фонтенель и главный редактор женского издания Валери
Турунен.

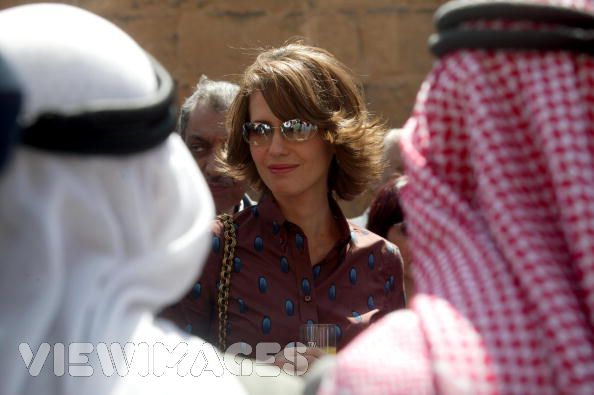

Источник: http://www.newsru.co.il/rest/05dec2008/asma930.html
Хана Орлова
Хана Орлова - один из известнейших скульпторов современности.
Это единодушно признают все критики, которые когда-либо писали о ней.
К какой изобразительной школе она принадлежит? Здесь мнения искусствоведов
расходятся. Одни считают, что решающее значение для ее творческого формирования
имели впечатления детства и юности, которые прошли на Украине и в России;
другие полагают, что эстетическое мировоззрение Орловой сложилось в основном
во Франции, третьи - самым существенным в ее жизни считают ее связь с
Израилем... Как обстоит дело в действительности? Однозначного ответа на
этот вопрос нет.
Хана Орлова родилась в маленьком еврейском городке Староконстантинове (Украина) в 1888 году. Отец Ханы был сионистом. Знание иврита Хана получила в семье. В доме постоянно собиралось много народу. Друзья отца часто говорили об Эрец Исраэль. В 1904 году Орловы, вслед за старшим сыном, отправились в Палестину и поселились в Петах Тикве. Как все халуцим (первопроходцы), отец занимался сельским хозяйством. Хана, которой было уже 16 лет, шила, чтобы помочь родителям содержать семью.
Как она начала заниматься скульптурой? На эту тему существует несколько легенд. Согласно одной из них, Хане приснился сон, будто бы она лепит с натуры портрет Хаима Бялика, известного израильского поэта, стихами которого Хана зачитывалась еще в ранней юности. Этот сон сбылся. Правда, спустя много лет. В семье не одобряли увлечение Ханы изобразительным искусством. Она покинула дом и отправилась в Париж.
Это было в 1910 году. В том же году в Париж впервые приехали Марк Шагал и Натан Альтман. Со всех уголков Европы стекались сюда одаренные молодые художники, чтобы вдохнуть воздух свободы, найти учителей, включиться в водоворот интеллектуальной и художественной жизни, без которой творчество невозможно. Париж того времени стал художественной столицей мира. Выдержав конкурс, Хана поступила в класс рисунка Национальной школы декоративного искусства. Скульптуру изучала в Русской академии, основанной на Монпарнасе петербургской художницей Марией Васильевой. Эту академию одновременно с Ханой Орловой посещали Пабло Пикассо, Марк Шагал, Амедео Модильяни.
Ко времени появления Орловой в столице искусств там уже сформировалась особая парижская изобразительная школа, которую представляли Модильяни, Сутин, Паскен, Кислинг, Ван Донген, Шагал и другие. Они поселились на Монмартре, в Латинском квартале Монпарнаса. Район художественных студий называли "Улей". Эту пеструю группу художников, каждый из которых работал в собственной изобразительной манере, объединяло, пожалуй, одно: они стояли в стороне от модных, сменявших друг друга или сосуществовавших, течений, считавшихся новаторскими - кубизм, футуризм и т.д. В круг обитателей "Улея" вошла и Хана Орлова.
 |
Душой этого круга был блестящий, красивый, образованный Амедео Модильяни, который в начале творческого пути отдавал предпочтение скульптуре. Он, по воспоминаниям Орловой, "никогда не скрывал своего еврейского происхождения, и носил в одном кармане Танах, в другом - "Божественную комедию" Данте и цитировал наизусть большие куски попеременно из того и другого". Однажды, когда компания сидела в кафе "Ротонда", Модильяни взял в руки почтовый конверт, разложил его и на внутренней стороне нарисовал портрет Ханы Орловой, подписав на иврите: "Хана Орлова - дочь Рафаэля". Быть может, именно в этот момент Хана поняла, что ей нужно делать. Портрет с заостренными характеристиками надолго станет основой ее творческой манеры. Через два года учебы в Национальной школе декоративного искусства Хану допустили к участию в Осеннем салоне 1913 года. Два бюста из дерева, которые она здесь представила, были отмечены критиками как талантливые произведения высокого профессионального уровня. Довольно долгое время Хана Орлова создает скульптуры из дерева. Однако ее не соблазняют природные возможности этого материала - она властно подчиняет его своим замыслам, порой даже уничтожая древесную фактуру. Позднее некоторые произведения того периода она повторила в бронзе, стремясь найти в плавком металле новые возможности. Из скульптур раннего периода хорошо известен "Портрет Жанны Эбютерн" ("Дева", 1915), подруги Модильяни. Его творчество на начальном этапе, безусловно, оказывало на Хану некое влияние. В "Портрете" 1915 года это особенно заметно. Преувеличенная удлиненность форм, хрупкость и гибкость... В поисках собственного почерка Хана не могла не отдать дань различным течениям начала ХХ века. В ее искусстве нашли выражение и кубизм, и утонченная стилизация, и экспрессионизм. Однако природное дарование помогло ей переработать полученное извне, умело переплавить все это в собственный, своеобразный пластический язык. |
Репродукции с ранних работ Ханы Орловой были использованы в сборнике стихов поэта Ари Юстмана, женой которого она стала в 1916 году. Известный поэт Гильом Апполинер, получив в подарок книгу, писал автору: "Очень благодарен за "Поэтические раздумья", которые Вы прислали мне вместе с фотографиями приятных и очень значительных скульптур". Перед Ханой, как и перед другими серьезными художниками, остро стояла проблема поиска художественной формы. Но главным в этих исканиях всегда было стремление выразить человеческие эмоции, глубины человеческого характера. Созданные ею образы выразительны. Лиричны или наполнены искрящимся юмором, который впоследствии критики определят как "скульптурный гротеск".
Хану занимает проблема создания еврейского национального стиля. Эти поиски типичны для еврейской интеллигенции того времени, как в Эрец Исраэль, так и в Европе. Среди ранних работ этого направления отметим "Портрет художника-еврея" (дерево, 1919). Позднее Хана повторит его в бронзе. Эту работу Хана считала для себя принципиально важной. Первоначально в каталогах за названием работы писалось имя изображенного художника (Рейзин). Потом оно исчезло, что подчеркивает обобщенный характер образа. Перед нами - художник-идеалист, мыслитель, мистик... Заострение характеристик, экспрессивное преувеличение свойственно многим портретам Ханы Орловой. Отказываясь от детализации, она создает обобщение, собственную концепцию изображенного. И превращает портрет в новеллу, рассказ, яркую сцену.
Орлова не опускается до пресного натурализма и столь же далека от интеллектуальных кодов абстракции. "Я хочу, чтобы мои произведения были такими же жизненными, как сама жизнь", - скажет она, уже будучи зрелым, признанным скульптором. Следует отметить и еще одну характерную черту стиля некоторых произведений Ханы Орловой - их "четырехфасадность", то есть обработка фигуры или бюста с четырех сторон, без учета промежуточных контуров. Это сближает творчество Орловой с примитивизмом, с народным искусством и придает созданным ею образам особую искренность и чистоту.
20-е годы - расцвет портретного творчества Ханы Орловой. Ее фантазия неисчерпаема. Она ни в чем не повторяется, для каждой модели находя индивидуальную выразительную форму. Живя в Париже, Хана никогда не порывала связь с Израилем. Первый раз после трехлетнего отсутствия она приехала сюда в 1913 году. В Петах Тикве оставалась ее семья. Позднее она купила дом в Тель-Авиве и стала приезжать в Израиль чаще. Не только родственные узы влекли ее в эту страну. Здесь все было ей дорого - прозрачный, наполненный солнечным светом воздух, ощущение отчизны, твердой почвы под ногами... Сионистские взгляды воспитанные в семье, национальный дух, которым были пропитаны ее детство и юность, на всю жизнь определили философский склад ее ума и человеческие привязанности.
Значительную часть богатого художественного наследия Ханы Орловой составляют скульптурные портреты писателей, художников, ученых, выдающихся политических деятелей. Среди них - "Портрет Хаима-Нахмана Бялика" (бронза, 1926). Ее Бялик - поэт "Лучей золотистого цвета". Духовная глубина отчетливо выражена в портрете израильского художника Реувена Рубина (дерево, 1923). Спустя три года Хана Орлова повторила это произведение в бронзе.
К шедеврам портретного искусства Ханы Орловой принадлежит и "Портрет Эдмона Флега" (дерево, 1922). В период, когда Хана лепила его бюст, он - преуспевающий писатель, драматург, историк, переводчик - издал одну из наиболее значительных своих работ, "Еврейская антология с древнейших времен до наших дней". Чистые плавные контуры, гладкая поверхность, подчеркнутость характерных деталей... Скульптурный портрет Флега отличается рафинированной законченностью.
В гармоничный мир Ханы Орловой ураганом ворвалась Вторая мировая война. Увлеченная работой, она не сразу осознала, что угрожает ей в уже захваченном немцами Париже. Предупрежденная друзьями о готовящемся аресте, она с сыном бежала через Лион в Швейцарию. В Швейцарии Хана создала более пятидесяти скульптурных произведений, которые были выставлены в Женеве в 1945 году. Вернувшись в Париж после освобождения Франции, она обнаружила, что все в ее мастерской разрушено. Послевоенное творчество Ханы Орловой представляет новое осмысление действительности. Лиричность ее довоенных работ сменяется драматизмом. Композиции ее произведений по-прежнему компактны. Но равновесие масс вступает в конфликт с беспокойной экспрессивной поверхностью. Появляется дробность, создающая ощущение "нерва", напряженной вибрации...
Создание государства Израиль и победа в Войне за Независимость в 1948 году вызвала у Ханы Орловой новый прилив сил. Она еще больше ощущает свою связь с Эрец Исраэль. Они и раньше принимала участие в жизни страны - в 30-е годы вместе с основателем и мэром Тель-Авива она обсуждает план создания Художественного музея. В 1949 году Хана Орлова лепит бюст Давида Бен-Гуриона. В конце 40-х, в 50-е и 60-е годы Хана Орлова создает ряд монументов: посвященная погибшей во время войны Хане Тухман-Альберштейн скульптурная группа "Материнство" в киббуце Эйн Гев (1949); памятник Дову Грунеру в Рамат Гане (1953); скульптура "Орлы" в киббуце Ревиим (1958); памятник "Раненая птица" в киббуце Бейт Орен (1964), установленный в память о трех погибших израильских пилотах и др. С раннего периода ее творчества Хане Орловой сопутствовал успех. Ее произведения демонстрировались на выставках в крупнейших городах Европы, Америки и Израиля. Ее первая выставка в Эрец Исраэль состоялась в 1935 году в незадолго до этого открытом Музее Тель-Авива. Произведения Ханы Орловой хранятся во всех крупных музеях мира. В своем творчестве она никогда не стремилась к элитарности. Недаром ее называют самым демократичным художником в самом лучшем смысле этого слова. Автор: Любовь Латт, "Evrey.com" |
Еврейский художник. Работа Ханы Орловой |
А вот ещё один материал о жизни и творчестве знаменитого еврейского скульптора:
Сводница Модильяни
В галерее «Vallois» открылась выставка Ханы Орловой
На выставке |
|
Родители увезли Хану в Палестину в 1905 году, когда ей было 16 лет. Девушка готовилась посвятить себя швейному делу и отправилась в Париж подучиться рисунку. По совету одного из учителей, заметившего ее способности, подала на конкурс в Национальную школу декоративного искусства и заняла второе место. Одновременно стала посещать скульптурный класс в Русской академии Марии Васильевой. Поскольку по прибытии в Париж она остановилась не где-нибудь, а в «Улье», известном монпарнасском общежитии художников, то и знакомство, в первую очередь, завела с его обитателями – Шагалом, Модильяни, Фужитой и Ван Донгеном.
Со стайкой «пчелок» ходила по вечерам в богемные кафе «Ротонду» и «Селект». В одном из них Модильяни, по своей вечной привычке работать за рюмкой, нарисовал ее портрет, а она в ответ познакомила его со своей сокурсницей Жанной Эбютерн, которая скоро стала женой и моделью художника, а после смерти любимого не перенесла горя и выбросилась из окна, будучи на восьмом месяце беременности. Бронзовая фигурка Жанны, тонкой и хрупкой, такой, какой видел ее сам Моди, стоит в самом начале экспозиции. Хана исполнила множество портретов друзей и знакомых, оплечных или в полный рост из самых разных материалов, но на нынешней выставке предпочтение отдано бронзе, в которую по появлении средств она старалась перевести все свои работы.
По диагонали от Жанны стоит девочка-подросток, с пышными рассыпавшимися по плечам вьющимися волосами, наивным взором и едва зарождающимися женскими формами. Это – Ида, дочь Марка Шагала. Самой сильной в творчестве Орловой выглядит тема материнства, неспешно-задумчивое ожидание («Беременная»), миг слияния матери и дитя («Материнство»), взгляд не на себя, но в суть своего женского начала («Я и мой сын»). Причем в последнем случае поразительное портретное сходство достигнуто не посредством деталей, а за счет полного отказа от оных. Образы Орловой вообще удивительно сдержанны и крайне немногословны, в них нет ни одной лишней линии. Но в этом лаконизме столько экспрессии и чувства, что взгляд с трудом покидает каждую работу. Ее внучка вспоминала, что Хана любила работать ранними утрами, и однажды, углядев под тряпкой в ателье готовую скульптуру, девочка выпалила: «Ты фигурку можешь сделать за ночь!» «Когда ты над ней думаешь месяцами и даже годами, что такое ночь», – последовал ответ.
Поиски в области упрощенности форм сочетались у Ханы
с непреходящим юмором, который воплощался в незлобивой карикатурности
персонажа. Какой-то внутренний чертик на позволял ей лепить традиционно
мечтательных и томных ню. Она или утрировала несоответствия в фигуре,
сочетая «верх Модильяни и низ Рубенса», или находила смешливую позу и
ироничный взлет головы.
«Меня прежде всего волнует характер, – говорила Хана. – И я хочу, чтобы
мои произведения были живыми, как сама жизнь». Для этого она работала
поэтапно и обязательно начинала с рисунка. Черновой, ценный материал сохранился
и показан на выставке. И еще одна страница ее творчества – птицы, к которым
она обратилась после войны. Грациозный павлин или кряжистый индюк, в пернатых
братьях, как и в роду людском, ее привлекали антиподы, борьба добра со
злом («Война и мир»).
В 1925 году Хана Орлова удостоилась главной награды Франции
– ордена Почетного легиона.
В войну мастерскую разгромили, и работы раннего периода пропали бесследно.
Около 500 скульптур Орловой сохранилось и описано. На выставку в «Vallois»
отобрано 30 бронз, некоторые из них отлиты в единственном экземпляре.
Автор: Елена ЯКУНИНА, Париж
Источник: http://www.rusmysl.com/archiv/index.php-itemid=119&catid=13.htm#more
Дата публикации: 9 – 15 июня 2005 года
Виктория Фёдорова
 |
- В связи с моим отъездом здесь, в России, возникло много дезинформации. Я не эмигрировала! В марте 1975 года я уехала на три месяца - увидеться с отцом и вовсе не собиралась там оставаться. В Москве у меня были работа, друзья, любимая мама. Кроме того, на "Мосфильме" я была утверждена на роль и планировала приступить к съемкам у Светланы Дружининой. Но так уж распорядилась судьба, что в Америке я встретила человека, мы полюбили друг друга и вскоре поженились. |
- Почти десять лет вы представляли интересы косметической фирмы "Beauty Image" - были ее "лицом"...
- В продукции этой фирмы была линия "Александр де Маркофф",
которую я представляла. Моих работодателей привлекли мои русские корни,
потому как секреты косметической линии, которую я представляла, вели свою
историю из России. Я была лицом фирмы, и вся новая продукция - кремы,
духи - выходила с моими фотографиями. Духи "Энигма" ("Тайна"),
крем "Княгиня Эверлин"... Параллельно я снималась в кино, преимущественно
в часовых телевизионных картинах. От акцента я не избавилась, потому играла
восточноевропеек, русских, югославок. Но я всегда предпринимала энергичные
усилия для того, чтобы создать фильм о маме. Вот и сейчас приехала в Москву
по нескольким причинам. Прежде всего навестить могилу мамы, которую я
безумно люблю. Я уехала в разгар брежневского времени, и мне очень интересно
увидеть, что же происходит здесь сегодня, в стране, которую я никогда
не забывала и не переставала любить.
- Насколько мне известно, в свой прежний приезд в Москву вы также вели
переговоры относительно кинематографических проектов в России.
- Я никогда не оставляла надежд снять фильм о маме и несколько раз это
почти получалось. Все срывалось в последний момент. Это был рок, фатум
- не просто стечение обстоятельств. Я написала автобиографическую книжку
"Дочь адмирала", в которой описала многое из того, что со мной
произошло. Я продала права американской фирме, которая занималась изданием
и переизданием книги в Америке и за рубежом. И вот в прошлый приезд в
Россию, к моему большому удивлению, я увидела ее на прилавках книжных
магазинов здесь.
- Вам поступали предложения сниматься от наших кинематографистов?
- Мне предложили восемь сценариев. На все предложения
сниматься я ответила отказом. Кстати говоря, Савва Кулиш специально ездил
за мной в Нью-Йорк - с тем чтобы все-таки уговорить меня сниматься в его
фильме. Я отказалась: мой сын тогда учился в школе, у него был самый сложный
период - подростковый, и он был подвержен всевозможным дурным влияниям
(как все мальчишки в этом возрасте), чего мне, разумеется, хотелось избежать.
Я побаивалась оставлять его одного, и, ко всему прочему, тогда я решила
для себя, что с кино покончено. Кроме того, несмотря на то, что уже началась
перестройка и, казалось бы, можно ожидать чего-то нового, свежего, оригинального,
предложенные мне сценарии были кондовые, советские. Идеология, дидактика...
Скучно. Но я прекрасно понимаю, что люди воспитывались на этом и изжить
все в мгновение ока невозможно. Конечно, если бы мне предложили что-то
масштаба Анны Карениной, я, безусловно, ответила бы утвердительно. Но
после стольких лет отсутствия возвращаться на российский экран в каком-то
среднем материале - это немыслимо! Да и сниматься за деньги, которых только
на проезд в автобусе хватает, не слишком приятно.
Но... Софи Лорен мне как-то сказала: "Никогда не говори никогда.
Меняются обстоятельства, взгляды на жизнь". И мне действительно захотелось
появиться на российском экране еще раз. Я подумала, что тогда меня вспомнят,
легче будет снять фильм о матери. Но поскольку все из того, что я прочитала,
не нравилось и меня не устраивали сценарии, я решила написать свой. Думаю,
неплохо написала.
- Кто будет финансировать вашу картину, кто выступит
в роли режиссера?
- Я отправила свой сценарий из Нью-Йорка в Москву Володе
Меньшову. Он прочитал и сказал: все очень хорошо, приезжай. Планировалось
задействовать производственную базу "Мосфильма" и снимать на
студии "Жанр". Я собирала деньги в Нью-Йорке. Встретилась с
группой русских бизнесменов, открывающих новые рестораны, галереи. Они
высказывали свою крайнюю заинтересованность, но им было нужно подтверждение
того, какая студия точно займется этим и какую прибыль от сделки можно
ожидать в ближайшем будущем. Тогда я приехала в Москву и встретилась с
Владимиром Меньшовым. Он подтвердил все ранее сказанное: мы очень хотим,
чтобы ты сняла эту картину; было бы здорово, если она появится именно
на нашей студии, но... ты появилась в неблагоприятный момент: русский
кинематограф развалился! Я еще не знала, что приехала к обломкам корабля.
Когда я все это услышала и увидела своими глазами, мой энтузиазм поостыл.
Но я все же встретилась с Эдиком Володарским и попросила его обработать
мой сценарий. Вообще я хотела бы сосредоточить вокруг своего проекта талантливых
кинематографистов.
- Режиссером, очевидно, станет Меньшов?
- Думаю, да. На девяносто девять процентов. Мой проект
изначально задумывался как картина интернациональная. Я искала источники
финансирования в России. Мы рассчитываем на европейский и американский
рынок плюс российский, естественно. Шестьсот тысяч копий появится на видеокассетах,
если материал не украдут раньше. Натура у меня упрямая, и потому чем больше
мне вставляют палки в колеса, тем больше мне хочется довести дело до конца.
Смогу ли я убедить людей, что в течение трех лет они вернут свои деньги
и получат проценты, вопрос времени и секрет моей дипломатии. Гарантировать
ничего не могу: я не продюсер и никогда этим не занималась.
- О чем будет ваша картина?
- Это предположительно легкий психологический детектив
с примесью мелодрамы. В основе - любовный треугольник. Русская женщина
выходит замуж за американца, потом хочет развестись, переживает развод,
заводит себе молодого любовника. Развод - проблема страшная: жизнь переворачивается,
земля уходит из-под ног, идет борьба за деньги, непременная месть мужчины.
Мне захотелось посмеяться над стереотипом: сейчас считается нормальной
такая пара - пожилой мужчина и юная возлюбленная. У меня все наоборот.
Моей героине - пятьдесят, а ее любимому, скажем, тридцать. Так бывает.
Женский образ в сценарии собирательный. Где-то героине присущи мои черты,
где-то - моих знакомых. Я там воплотилась процентов на десять, не больше.
- У вас будет русский партнер?
- Да, конечно. На днях я обратилась с таким предложением
к Олегу Янковскому. В моем фильме для него есть роль позитивного русского.
К сожалению, Олега дома не оказалось, но зато его жена Людмила искренне
уверила меня в том, что он будет рад и непременно согласится. Почему он?
Дело в том, что я снималась с ним в своей последней (до отъезда в 1974
году) российской картине "Гнев" режиссеров Николая Гибу и Леонида
Проскурова. Начало положено, остальное я продолжу в Нью-Йорке.
- Довольны ли вы своей жизнью, тем, что все сложилось
именно так, а не иначе? Не подумываете о возвращении в Россию?
- Я довольна своей жизнью. Но ... я приехала домой. Когда
у меня спрашивают, кем я себя больше чувствую - американкой или русской,
отвечаю неизменно: конечно же, русской! Ведь я родилась в России, воспитывалась
в Москве. Моя мама истинно русский человек. Душа, корни у меня, безусловно,
русские. Я русская по национальности, но живу в Америке.
- Виктория, на ваш взгляд, насколько изменилась Москва
со времен вашего прошлого визита?
- Несколько лет назад я приехала в Москву с необычайным
внутренним трепетом. Не знала, чего ожидать. В прошлый раз я приехала
зимой: все было покрыто снегом и какой-то липкой слякотью. Я ничего не
видела - встречалась с друзьями, вела деловые переговоры. На этот раз
у меня было гораздо больше времени. Я поразилась: как красиво стало в
Москве. Сколько новых церквей отреставрировано! Меня порадовало праздничное
настроение горожан. Люди стали оптимистичнее, улыбчивее.
- Друзей в Москве много осталось?
- В Москве у меня друзей неизмеримо больше, чем в Америке. Это же юность моя! Институтские друзья, друзья юности - они остаются на всю жизнь. В Америке друзья другие: сегодня друг, а завтра я его не увижу. Встретимся через год, будем радоваться, но вполне можем существовать друг без друга. Превыше всего деловые переговоры. В Москве разговоры по душам. Для моего сына, которому я искренне пыталась привить те же жизненные принципы, что прививала мне моя мама: главное значение имеют деньги, хорошая работа, возможность весело провести время. Он - настоящий американец. То есть он, безусловно, порядочный, честный человек, но система ценностей у него совершенно иная. Он неоднократно говорил мне: с твоими порядочностью, честностью и моралью ты пропадешь! В Америке главное - бизнес. Поэтому, если я устраиваю вечеринку, приходят люди, человек двадцать, и уже через час-полтора ты увидишь, что гости, исправно попивая свой коктейль, ведут деловые разговоры. Главное в отношениях: что я могу дать тебе и что ты дашь мне.
О своих проблемах люди не говорят: не принято. Помню такой случай. Я работала моделью, у меня была фотосъемка для журнала "Harper's BAZAAR". Накануне я очень сильно поругалась с мужем и, когда мне делали грим, не могла сдержать слез. Ко мне подошла женщина - заместитель редактора и довольно жестко спросила: "В чем дело?" Я ей все рассказала. Она ледяным тоном констатировала: "Запомни, ты в Америке и потому все свои семейные дела оставляй дома. Ты пришла работать". Естественно, в ответ я бросила все, встала и уехала. Я не умела тогда по заказу надевать маску благополучия, улыбаться, говорить о том, как все прекрасно. В то же время, если тебе нужна помощь, и в Америке можно опереться на чье-то плечо. У меня была масса таких случаев: когда мне было довольно тяжело, приходили мои американские друзья, и я плакалась им в жилетку. Вообще-то я считаю, что американцы очень похожи на русских. Бесшабашностью своей, гостеприимностью, любознательностью, дружелюбием.
Беседу вела Лидия КРЫМОВА
Источник: http://www.kultura-portal.ru/tree_new/cultpaper/article.jsp?number=34&crubric_id=100443&rubric_id=208&pub_id=145654
Алиса Богарт
С актрисой театра Российской Армии Алисой Богарт
мы встретились на съемочной площадке сериала "Закон и порядок".
На экране строгая, стремительная, в жизни Алиса - очень обаятельный и
улыбчивый человек, заботливая мама двоих детей. В перерывах между дублями
мы поговори ли о том, что нового появится в фильме, как важна поддержка
коллег и что же самое интересное в актерской профессии

- Алиса, Ваша героиня - единственная женщина в мужском коллективе. Это упрощает или усложняет ее жизнь?
- Конечно, упрощает. Ей достается много-много внимания. Это очень приятно - я думаю, что не только мне, но и Бобровой тоже.
- Майор Боброва - достаточно жесткая женщина, а Вы в жизни красивая, женственная… Легко Вам перевоплощаться?
- Не знаю, видимо, есть какое-то внутреннее совпадение
меня и майора Бобровой. Кроме того, вся моя жизнь связанна с военными.
У меня дед был полковником, прошел всю войну, и у него было бесконечное
количество медалей, которые я перебирала в детстве.
Я работаю в театре Российской армии, провела достаточно много концертов
для милиции, для ГАИ… Короче говоря, много вещей в моей жизни было связано
с военными и людьми, обладающими властью. Наверное поэтому я их чувствую,
я знаю, что это за люди. Поэтому, вполне вероятно, мне достаточно легко.
Тем более, когда я чувствую, что делаю хорошее дело, меня всегда это радует
и настраивает на то, что все должно достаточно легко произойти.
- А чем привлек Вас этот проект?
- Ролью. Когда я стала читать ее, когда я вдруг прочла вторую, третью серию, я вдруг поняла, что она мне нравится. Она нравится мне по-человечески и мне хочется ее сделать так, как вижу ее я, так, как я ее чувствую.

- Что от вас лично досталось майору Бобровой?
- Я думаю, что ей во многом досталось мое восприятие мира, мои реакции на происходящее. Другое дело, конечно, что нас заставляют быть менее чувствительными, скажем так, но я думаю, что свою чувствительность, убрав внутрь, я все равно оставила в глазах. Независимо от того как стоит камера или как стоит свет, это все равно видно. Я не думаю, что она должна быть такой выхолощенной и сухой. Я где-то видела некие мнения о себе как о Бобровой, о том, что не бывает таких милиционеров, но я думаю, что если бы милиционеры были такие как Боброва, во многом всем бы стало гораздо лучше жить.
- На съемочной площадке вы в основном работаете в паре с Иваном Оганесяном. Вы друг друга "развлекаете" экспромтами или все-таки стараетесь придерживаться текста?
- Нет, мы строго придерживаемся текста, как правило. Поскольку у нас не комедийная история, а скорее трагическая, то здесь особо не позволишь вольностей. Тем не менее, когда есть возможность что-то добавить, личную черту или просто краешек предложения изменить, мы это делаем и в этом смысле помогаем друг другу, поддерживаем.
- Что самое сложное на съемках?
- Я думаю, что холод, частое хождение в сапогах или наоборот жара, потому что мы практически не переодеваемся, нет возможности раздеться… Когда уже сняты сцены на улице, а потом мы приходим в квартиру, где должны отработать долгую сцену, находясь в помещении, проводя, например, допрос, тогда наоборот - жарко. Тяжело в этом смысле. Но, тем не менее, ничего страшного. В огне не горим, в воде не тонем.

- В США этот сериал идет 16-й сезон. Вы готовы к такому долгоиграющему проекту?
- Готова. Я готова и думаю, что со мной вместе и Боброва тоже.
- Я знаю, что у вас есть двое малышей. Они уже знают, что их мама - актриса?
- Да, мой сын часто меня спрашивает: "Мама, а где твой пистолет?" Он видел, что я на экране с пистолетом и его страшно интересует, куда же я его прячу, перед тем как захожу в квартиру. Иногда даже осматривает мои вещи (смеется).
- Вы работаете в театре Российской армии. У Вас есть свой любимый спектакль?
- Я играю там один спектакль, играю любя его. Слава Богу, что я уже на том уровне своего актерского статуса, когда можно делать то, что хочется. Поэтому ничего такого, что я не люблю, я не делаю. Спектакль - "Гамлет" Шекспира, я играю Гертруду.
- Трудно "превращаться" из майора милиции в королеву Дании?
- Это же самое интересное. Я же актриса. В этом превращении, наверное, вся суть актерского мастерства, в этом самый изюм профессии. Когда мне говорят о том, как сыграть одно, а потом перестроиться на другое, я всегда думаю о том, что мы все - из генетики наших родственников и всего человечества, которое жило до нас. В нас сохранены все нюансы человеческих переживаний, которые существуют в принципе сейчас в мире. Это одновременно и любовь, и ненависть, и агрессия, и нежность. Многие говорили обо мне (и дай Бог, чтобы это было так), будто моя природа такова, что я могу легко перестроиться. Я это очень люблю. Если раньше я могла подумать, что, наверное, это не совсем моя профессия, у меня что-то не получается, то теперь я думаю, что ничем не могу больше заниматься, потому что люблю это и уважаю себя в этом. И знаю себе цену в этом деле. И благодарна моей жизни, что она предоставляет мне возможность меняться: утром я милиционер, а вечером - королева Дании.
- Для себя вы можете определить, в какой эпохе Вам интереснее?
- Все зависит от темы. Интересно играть не костюм, важно суметь сыграть тему. Тема - это тот камертон, который ведет тебя туда, наверх. Если есть, что сказать Богу. Это как диалог: диалог со своей жизнью, с Господом Богом, в котором ты существуешь и от которого должно идти…
- Алиса, из какой вы семьи, как пришли в профессию?
- Я из семьи простых питерских служащих. Мой дед, как я уже говорила, полковник. Мои бабушки и другой дед - инженеры, делали подводные лодки в свое время. У меня есть дядя, народный артист России Геннадий Петрович Богачев (актер БДТ), который во многом помог мне стать тем, что я есть. Однажды он мне сказал: "Ты никогда не будешь актрисой, потому что ты должна быть сильной, а у тебя не хватает внутреннего стержня!" Тогда я сказала себе: "Нет, дядя, я пойду, и я это сделаю". И я это сделала. И я благодарна ему очень, потому что он проводил со мной довольно много времени, когда помогал мне готовиться к поступлению в институт и дал мне некоторые советы, благодаря которым я существую и сейчас. Во многом они связаны с текстом, с разбором текста, с воспроизведением текста или пьесы, которая у меня есть. Он мне очень много в этом смысле дал. Мало того, мы жили в коммуналке и дядя жил вместе с нами. К дяде приходили его друзья - актеры из БДТ. Я подглядывала за ними, я пряталась в коридоре или под столом или где-нибудь и смотрела, как они проходят, о чем они говорят. Для меня это были удивительные люди. Наверное, действительно, актеры в принципе отличаются от людей, которые занимаются другой профессией какой-то совершенно неуловимой сказочностью… До сих пор я сохранила это чувство. Наверное, в этом смысле семья так повлияла на меня и я стала актрисой.
- А как Ваши близкие относятся к тому, что в семье актриса?
- Мама очень придирчива ко мне, и я иногда очень переживаю, когда она что-то посмотрит. Например, Боброва ей очень не нравится. Она говорит, что вообще очень не любит таких женщин, во многом выхолощенных. Мама моя другая: она более кокетливая, более женственная, она не сможет стоять рядом с мужчиной, не пококетничав с ним. Я в этом смысле, смотря на нее, вижу, что стала другой. Я выросла немножко более цельным человеком, немножко более деловым, потому что я хотела сделать свою жизнь сама, стать самодостаточным человеком. Поэтому когда я чувствую, что могу уделить время своей нежности, своим флюидам, которые я распространяю, тогда я это делаю. А так, чтобы в этом жить… Нет, мне страшно интересно заниматься профессией, я это бесконечно люблю и, наверное, к сожалению моей семьи занимаюсь этим больше, чем нужно часов в день.
- У вас за плечами довольно большой опыт работы и в кино, и в театре. Не было разочарования в профессии?
- Я иногда в шутку, когда приходилось падать и умирать на сцене, валяться и быть якобы избитой, кричала со сцены: "Вот, говорила мне мама - не ходи в артистки!" Но если подумать, то все то, чем занимаемся мы, как ни крути, как бы серьезно этим не занимался актер, человек, это все равно игра. Для меня здесь сложилась такая великолепная философия, философия свидетельствования. Знаете, как мой педагог Левертов в ГИТИСе говорил: "Единственное честное ощущение человека, стоящего на сцене - это то, хорошо ли я играю". Я смотрю на себя ту, которая я есть на сцене, и вот это свидетельствование, хорошо ли я присутствую здесь, насколько мое присутствие здесь цельно и полнокровно в связи с темой, в связи с ролью, в связи с каким-то действием или с восприятием - вот это научило меня и в жизни быть гораздо более осознанной: смотреть на себя немножечко со стороны, видеть себя и корректировать себя в связи с тем направлением, которое я держу сегодня. Говоря о направлении, я имею в виду понимание того, нужно ли мне быть более расслабленной или, наоборот, здесь нужно быть немножко напряженной, чтоб сделать это дело. Я корректирую свое состояние, и в этом моя профессия мне очень помогает. И в этом, и в духовном смысле тоже.
- Есть роли, о которых мечтаете, которые хочется сыграть?
- Вы знаете, есть, есть… Но я о них никогда не скажу, потому что думаю, что нужно быть доверчивой к тому, что предлагает жизнь, естественно, отбирать. Очень много я отказывалась в жизни и буду отказываться от ролей дальше, потому что иногда я получала текст для проб и отказывалась от них именно потому, что не могу произносить текст. К сожалению, моя природа такова: не кокетливая, достаточно прямолинейная, такое деление на черное и белое, что я не могу идти на компромисс. Если мне что-то не нравится, моя природа не позволит мне это сделать. Я пойму, что я лгу с первого слова, и я не смогу пойти дальше. Я не могу даже продлить этот текст, и скажу с самого начала: "Ребята, я не буду этим заниматься, никакого дубля не будет. Все, я ухожу!" И это будет честно. Я подожду и посмотрю, что предложит мне жизнь, и поступлю по мере моего желания, сделаю то, что хочется.
- Где Вас можно увидеть в ближайшее время?
- Я думаю, что на съемках сериала "Закон и порядок"
- Как проводите свободное время, если оно, конечно, остается?
- У меня двое детей и я их очень редко вижу. Иногда я печалюсь от того, что они растут, совсем не видя меня. Иногда я думаю о том, что видимо такая судьба и у них тоже, и нельзя влезать в этот ход событий. Поэтому, когда случается возможность, я провожу время с ними. Неважно, что я делаю: иду с ними на прогулку, или в детский театр, или гости, или я просто сижу с ними дома и читаю им книжки, но как правило, я занимаюсь ими.
- Они не хотят по примеру мамы стать актерами?
- Нет, пока нет. Кстати, еще есть у меня такое увлечение и наверное нужно об этом сказать: даже когда дома дети, я почти каждый день смотрю кино. Я беру у друзей, либо в прокате, покупаю кино или заказываю. На Горбушке у меня есть знакомый, который мне привозит фильмы просто стопками. Это и новинки, и то, что вышло давно. Это может быть фильм, о котором я что-либо слышала, либо где-то видела. И он покупает мне фильмы в мою личную видеотеку, или уже DVD-теку. Я смотрю кино, потому что на самом деле без него жить не могу.
- Вы смотрите его как зритель или оцениваете как профессионал?
- Да, я смотрю как актриса, как профессионал. Меня иногда удивляют мои коллеги, которые делают что-то удивительное, лучше, чем я, как мне кажется. Тогда я пересматриваю эти фрагменты или оставляю фильмы на своей полке, зная, что если мне что-то нужно сыграть, я должна посмотреть это место, например, в кинофильме "Пианино" или игру Джона Малковича в "Быть Стенли Кубриком". Я знаю, что это для этой роли, то для той. Просмотр помогает мне найти ключи к моему собственному актерскому инструменту. И это удивительно занятно, и действительно этим я занимаюсь. В принципе, когда нет детей (дочка у няни, сын у бабушки), и у меня есть свободное время, предположим день, я могу взять три диска и заняться тем, что сидеть и смотреть их до упора, иногда что-то пересматривать. И в этом смысле я конечно сумасшедший фанатик… Как Боброва.
- Как вы готовитесь к роли? Может у Вас есть какая-нибудь традиция?
- Да, есть. Этой традиции меня научил дядя. Это определенный принцип чтения текста для себя и заучивания. И я бы назвала это поиском внутренней интонации, которая помогает мне "вскочить" на некую волну, в некий образ. Как не удивительно, но голос помогает мне иногда вспомнить о том, что мне нужно держать спину, что мне нужно здесь отреагировать интонационно, а значит и телом, в другом месте отреагировать как-то иначе.
- Кем Вы видите себя лет через двадцать?
- Думаю, что это будет связано с кино, и я думаю, что у меня будет возможность быть не только актрисой, но придумать еще что-нибудь такое, что сможет порадовать не только меня, но и зрителей.
- Вы со своими поклонниками общаетесь или предпочитаете держать дистанцию?
- Чаще всего, конечно, я держу дистанцию. Мне просто не хватает времени даже на родных: позвонить родителям, близким подругам, которых я не вижу иногда по месяцу. У меня есть крестные сыновья, которым я не уделяю должного внимания, поэтому конечно, у меня мало возможности (и потому, наверное, желания) плотно с кем-то общаться, сидя за компьютером, "зависая" на сайте, переписываться… Такое случается очень редко. Как правило, я общаюсь по делу или по активной эмоциональной душевной необходимости с каким-либо человеком. Пока так получается с этим человеком, пока история не завершилась, пока у него есть, что у меня спросить, а у меня - что ответить.
Беседовала Екатерина Кузьмина
Фотографии - Валерий Лукьянов
Источник: http://www.kino-teatr.ru/kino/person/39/
Белла Дижур
 |
|
Она преподавала биологию и химию, была химиком-экспертом в милиции, заведовала химической лабораторией на заводе. Но оставила профессию, чтобы без помех писать стихи и прозу, сочинять научную фантастику для детей. До ста двух дожила – кажется, единственный случай в отечественной литературе. Творческая жизнь у нее, как и у сына, не была безоблачной. Она рассказывала в интервью американскому русскому журналу «Вестник»: «Я ведь «безродный космополит», обо мне писали: «Группа антинародных писателей будет неполной, если не сказать об их так называемом поэтическом ответвлении». Этим ответвлением была я, а главную группу уральских «космополитов» «возглавлял» писатель Иосиф Исаакович Ликстанов, лауреат сталинской премии, автор книги «Малышок».
Когда Белла Дижур написала чистую, искреннюю, полную доброты поэму о Януше Корчаке, одна свердловская газета так отозвалась: «Дижур нашла себе в герои некоего Януса, который встал на колени перед Гитлером». В прекрасном послесловии к книге стихов Беллы Дижур «Тень души» Василий Аксенов пишет: «Современной молодежи, особенно в Зарубежье, всё это может показаться не столь уж страшным, но мы-то помним, чем оборачивались эти ярлыки и формулировочки в те времена, когда против творческого пессимизма прописывали оптимизм колымского лесоповала».
Когда из СССР выдавили ныне самого знаменитого нашего скульптора – ее сына, она, пытаясь выехать к нему, семь лет сидела в «отказе». В 1985 году я написал письмо Ю.В. Андропову: «Белла Абрамовна Дижур – старейшая детская писательница, принятая Павлом Бажовым в ряды ССП еще в 1940 году, зла в жизни никому не сделавшая, и единственное ее желание – чтобы собственный сын закрыл ей глаза, похоронил ее. Никаких военных секретов она не знает. Как бы ни относиться к Эрнсту Неизвестному, на мой взгляд, негоже такому могучему государству, как наше, мстить ему через 82-летнюю ни в чем не повинную мать. Великодушие никого еще никогда не унижало. Проявите же великодушие, жалость, незлопамятность, исконно свойственные настоящим русским людям…» Ее, слава Богу, выпустили, и я видел ее в США, полную сил, юмора и радости от того, что она рядом со своим сыном. Их стихи уже встретились в антологии «Строфы века» и встретятся в антологии «Десять веков русской поэзии».
Белла Дижур не была выдающимся поэтом, но была выдающейся женщиной, вылепившей несгибаемый характер своего сына. Она добавила нам надежд на то, что надежды никогда не напрасны. Судьба сына и ее собственная – тому примером.
Тишина Это было в первый день войны. Вот и всё. А после – ты ушел. Так пришла ко мне в тот день война, Вот и всё, а после по утрам Януш Корчак Но где-то на пороге дальнем детства * * * Родиться вновь. Но в облике растенья * * * Охрана моя добровольная Но в русскость мою всем ли верилось? И надо же так обезбожиться, Кровей у меня до двенадцати, А мать Неизвестного Эрика Овировские невыпускатели В дежурках с красотками баловались Тогда уж ей было за восемьдесят. Была она невыпущальная. Великая эта женщина, Мы вместе нигде не обрамлены, |
Автор: Евгений ЕВТУШЕНКО
Источник: http://pda.newizv.ru/news/2008-12-05/102733/
Мишель Обама

После завершения обучения в Гарвардской юридической школе в 1988 году
Мишель Ла Вон Робинсон устроилась на работу в чикагскую юридическую фирму
Sidley Austin. Здесь она Мишель познакомилась со своим будущем мужем -
Бараком Обамой. Кроме нее в тот момент он был единственным чернокожим
сотрудником фирмы. В 1992 году Мишель и Барак Обама поженились.
Сегодня на политическом небосклоне зажглась новая стильная звезда. По
мнению экспертов, новая первая леди США может составить серьезную конкуренцию
Карле Бруни. Мишель Обама уже неоднократно фигурировала в рейтингах самых
стильных женщин. Более того, некоторые СМИ провозгласили госпожу Обама
– первой леди новой формации.
«В лице Мишель Обамы Бруни обзавелась достойной соперницей – таких первых леди еще не бывало, – пишет обозреватель газеты The Times Сара Вайн. – Она импонирует современным женщинам во всем: она чрезвычайно умна и мыслит самостоятельно, а ее внешняя привлекательность выглядит естественно».
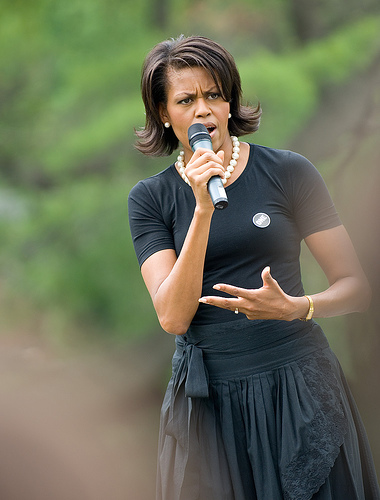
СМИ неоднократно сравнивали Мишель Обаму с бывшими первыми леди США. За
идеологические взгляды Мишель сравнивают с Элеонор Рузвельт, за влияние
на мужа - с Нэнси Рэйган и за то, что «она не такая, как мы» - с Хиллари
Клинтон. По словам Вайн, Мишель Обама уникальна тем, что умело объединяет
в себе все три качества: способность поддержать мужа, независимость и
тонкое чутье к моде.

Последнее обстоятельство подтверждает тот факт, что госпожа Обама несколько
раз фигурировала в различных рейтингах самых стильно одетых женщин. В
частности, в этом году в списке журнала People Мишель оказалась в компании
актрис Кейт Хадсон, Гвинет Пэлтроу и Шарлиз Терон.
Сегодня Мишель Обама наравне с Бараком вписывает новую страницу в историю
США, становясь первой в истории страны чернокожей первой леди. Ее уже
сравнивают с блистательной и утонченной Джекки Кеннеди.
Источник: http://www.kleo.ru/items/news/2008/11/05/obama.shtml
Дата публикации: 05.11.08
Софья Блювштейн: мифы или?..
МИФ ПЕРВЫЙ. ОНА РОДИЛАСЬ В ОДЕССЕ.
|
 |
Из уголовного дела
«Ограбление банкира Догмарова».
«Я познакомился в кафе Фанкони с Софьей Сан-Донато... В беседе сия дама рассказала, что сегодня восьмичасовым поездом отбывает в Москву. Этим поездом и я отбывал из Одессы в Москву сегодня. Я просил разрешения сопровождать ее в дороге. Дама согласилась. Мы сговорились встретиться у вагона. В назначенное время я поджидал г-жу Сан-Донато с коробкой шоколадных конфет. Уже в вагоне г-жа Сан-Донато попросила меня купить в буфете бенедиктину. Я вышел и дал указание служащему. В моей памяти сохранились воспоминания до того момента, когда я съел несколько конфет. Что произошло далее, не помню по причине крепкого сна. Из моего дорожного саквояжа были похищены наличность и ценные бумаги на общую сумму 43 тысячи рублей».
Какая трагедия! Так и вижу, как рыдает в московском участке несчастный Догмаров:
-- Я старый больной человек! Меня девушки не любя-а-ат... Конфет купил ей... Дурак! Три рубля как одну копеечку выложил!.. А она... Ограбила! Обманула! Пустила по миру-у!..
-- Ну нельзя же, право, быть таким доверчивым, -- укоряет Догмарова полицейский.
-- Ой, ваша правда, ваша правда... Простодушный я... Все мы, одесские банкиры, такие простодушные...
Но горе горем, а протокол составлять надо.
-- Так сколько, вы говорите, в саквояже было денег?..
Банкир длинно и вдумчиво высморкался:
-- Все, все, что нажито непосильным трудом, гражданин начальник...
-- А поточнее?
-- Молодой человек, поезжайте в Одессу. Поезжайте и спросите, чем занимается банкир Догмаров. И вам скажут, что банкир Догмаров занимается денежными переводами...
-- Хватит! -- нервничает слуга закона. -- Потрудитесь сообщить точную сумму!
-- Ой, ой! Ну шо вы так волнуетесь? У вас даже усы тепаются... Пишите тысячу... Нет, три тысячи!..
-- Так сколько? Тысяча или три?..
-- Сорок три!.. Вам, голубчик, все равно, а мне приятно...
-- Ладно, -- соглашается измученный полицейский. -- А она... эта... Хоть красивая была?..
МИФ ВТОРОЙ. ОНА БЫЛА КРАСИВА.
«Рост 153 см, лицо рябоватое, нос с широкими ноздрями, губы тонкие, бородавка на правой щеке». Так описана Софья Блювштейн в сохранившихся документах полиции. Но народной молве документы не указ. Стране, бредившей революционными идеями, нужен был хоть какой-нибудь Робин Гуд, и полутораметровая воровка со своей бородавкой удачно вписалась в этот образ. Она безжалостно грабила богатых и была великодушна к беднякам.
Однажды, узнав из газет, что ограбленная ею женщина оказалась вдовой простого служащего, Сонька тут же поспешила на почту. «Милостивая государыня! Я прочла в газете о постигшей вас беде. Я сожалею, что моя страсть к деньгам послужила причиной несчастья. Возвращаю вам ваши деньги и советую впредь поглубже их прятать. Еще раз прошу у вас прощения. Шлю поклон вашим бедным малюткам».
Ай да Сонька! Ай да Золотая Ручка!.. Ну чем не королева воровского мира? А королева, как известно, ни при каких обстоятельствах рябой быть не может. Газета «Московские ведомости» за 1899 год так прямо и говорит: «Сия особа, в прошлом кухарка, славилась необыкновенной красотой...» Вот так-то. И хватит об этом. В конце концов некрасивых женщин не бывает. Бывает мало клофелина. И вообще самое главное в женщине то, как она себя подает. А Сонька себя подавать умела. Говорят, даже в высшем обществе ее принимали за светскую даму.
МИФ ТРЕТИЙ. АРИСТОКРАТЫ РОССИИ И ЕВРОПЫ ПРИНИМАЛИ ЕЕ ЗА СВЕТСКУЮ ДАМУ.
Молва утверждает, что Сонька-Шейндля обладала великолепным вкусом, разбиралась в одежде, обладала хорошими светскими манерами. Она путешествовала по Европе и представлялась то баронессой, то графиней, то виконтессой... Ее принадлежность к высшему свету ни у кого не вызывала сомнений. Без этого ей не удавались бы хитроумные операции с ювелирами, банкирами и европейской аристократией... Я вас умоляю! Видели мы этих банкиров! Знаем мы эти операции!.. Представляю, какие именно светские манеры понадобились Соньке, чтобы «снять» на вокзале клиента по фамилии Догмаров...
Из уголовного дела «Ограбление Карла фон Меля». Май 1883
г.
«Ко мне как к владельцу ювелирного магазина обратилась женщина, назвавшаяся
женой известного доктора психиатра Л., с просьбой подобрать для нее последнюю
коллекцию бриллиантов. Мною были предложены колье, кольца и брошь парижских
ювелиров. Общая сумма покупки составила 30 тысяч рублей. Госпожа Софья
Андреевна Л. оставила визитную карточку, взяла счет и попросила прибыть
в дом мужа для расчетов в назначенное ею время. По прибытии к доктору
Л. меня встретила уже мне знакомая супруга доктора. Она попросила разрешения
примерить коллекцию бриллиантов к вечернему платью и проводила меня в
кабинет мужа. Когда я понял, что доктор не собирается со мною расплачиваться,
я потребовал вернуть бриллианты. Вместо этого я был сопровожден тремя
санитарами в палату лечебницы.
Через несколько часов состоялся разговор с господином Л., где я ему все подробно рассказал о покупке коллекции бриллиантов его супругой. А доктор рассказал мне о том, что эта дама представилась моей женой и записала меня на прием к нему, ссылаясь на мое психическое нездоровье. За мое лечение было оплачено ею вперед...» Да, после такого потрясения лечение Карлу не повредило бы. Надеюсь, он воспользовался оплаченными услугами доктора. Бедные, бедные мужчины!.. Доверчивые и простодушные. Но обмануть доверчивого немца -- это одно, а вешать лапшу на уши блестяще образованной российской элите -- это другое.
Неужели наши аристократы были настолько глупы, чтобы принимать Соньку, дочь цирюльника, за светскую даму? Неужели, говоря с ней о музыке или литературе, они не чувствовали в своей собеседнице местечкового воспитания? Сомневаюсь. Скорее всего, о литературе с Сонькой никто и не говорил. И если «баронессу Софью» и принимали за даму, то за даму определенного, как тогда говорили, сорта. Когда Соньку наконец-то арестовали в 1885 году и сослали на Сахалин, Антон Чехов и Влас Дорошевич приезжали к знаменитой воровке. И, немного пообщавшись с ней, говорили потом о «мещанском складе ума заключенной». Впрочем, народ тут же сообразил, что к чему -- на каторге сидит не настоящая Сонька!
МИФ ЧЕТВЕРТЫЙ. ОНА СБЕЖАЛА С КАТОРГИ, ОСТАВИВ ВМЕСТО СЕБЯ «СМЕНЩИЦУ».
Бежать она пыталась. Первый раз еще в Смоленске, когда ее задержали после ограбления нескольких ювелирных магазинов. Сонька то ли влюбила в себя надзирателя, то ли подкупила его, но факт остается фактом -- надзиратель помог бежать Соньке и сам рванул вместе с ней. Но на воле они шиковали недолго -- надзирателя арестовали в Одессе, а Сонька попалась в Москве. На суде она все отрицала и делала наивные глаза. Но суд постановил: «Шейндлю-Суру Лейбовну Розенбанд (она же Рубинштейн, Школьник, Бреннер, Блювштейн, урожденная Шейндля-Сура Соломониак), лишив всех прав состояния, сослать на поселение в отдаленнейшие места Сибири».
Из «отдаленнейших мест» Сонька снова попыталась бежать. За что и получила согласно документам пятнадцать ударов плетью. Через месяц ее поместили в одиночную камеру и заковали в кандалы на два года и восемь месяцев. Прошел слух, что это уже была не Сонька, а «сменщица», подставное лицо. Но где, скажите, могла найтись женщина, готовая добровольно понести такое наказание ради другой женщины? И что самое невероятное -- ни разу никому не проболтаться об этом?.. Это что-то из области ненаучной фантастики.
Нет, настоящая Софья Блювштейн от звонка до звонка отсидела свой срок в камере. Потом ее перевели в категорию «поселенок», и она стала содержательницей квасной. Торговала из-под полы водкой, открыла игорный дом-избу. Организовала оркестр из четырех поселенцев, нашла бродягу-фокусника, устраивала представления, танцы, изо всех сил копируя милые сердцу одесские кафешантаны. О ее последних днях также ходит множество легенд. Говорят, что в конце 90-х годов, уже тяжело больная, Сонька решилась на новый побег. Прошла она около двух верст и упала без сил. Нашли ее конвойные при обходе. Через несколько дней в тюремном лазарете, не приходя в сознание, Софья Блювштейн умерла.
МИФ ПЯТЫЙ. ОНА УМЕРЛА.
А вот и не дождетесь! Соньку похоронили, а по Европе тем временем прокатился целый ряд загадочных ограблений. Почерк преступлений был явно Сонькин. В Москве продолжились ограбления ювелирных магазинов. В Петербурге объявилась дама, похожая на Софью Блювштейн. В 20-е годы нэпманы жаловались, что их грабит Золотая Ручка. В сороковых годах, как утверждают одесситы, Сонька под другим именем жила на Прохоровской улице. Похоже, она стала бессмертной. Недавно, говорят, из России вывезли алмазов на несколько миллионов долларов. Главная подозреваемая -- маленькая женщина с бородавкой на правой щеке...
В общем, дорогие мои, «заседание продолжается зпт миллион поцелуев»!
Источник: http://jn.com.ua/History/somya_0512.html
Дата публикации: 05.12.2001
Софья Блювштейн: мифы или?..
(продолжение)
ЛЕДИ ВИНТЕР ИЗ ОДЕССЫ
“РЫБАЧКА СОНЯ КАК-ТО В МАЕ”…
Не везет мне с этим почти хрестоматийным сюжетом — о Соньке Золотой Ручке. В былые времена его не желали публиковать по идеологическим соображениям. В “перестройку” он, конечно, прошел, однако возмущенные читатели наперебой стали уверять меня и общественность в том, что будто бы лично знали знаменитую аферистку, якобы обитавшую в Одессе буквально в 1960-е и чуть ли не эмигрировавшую на старости лет в Израиль. В начале 1990-х я получил предложение одновременно от двух довольно известных кинорежиссеров о написании сценария видеофильма о Золотой Ручке. Но и тут карта не легла. Криминальная особа в стиле ретро представлялась моим заказчикам этакой романтической героиней, дамским вариантом Робин Гуда, на худой конец — экспроприатора с идеологической подкладкой типа Котовского. Я же видел безусловно талантливую в своем роде, но всего только чрезвычайно прагматичную волевую шарлатанку.
“Золотая Ручка” — старинное уличное прозвище карманника высшей квалификации, каковое в разные годы присваивалось десяткам удачливых мазуриков не только в Одессе, но и в других крупных городах России. Оттого-то и по сей день находятся мемуаристы, гордые знакомством с каким-то из представителей этого обширного клана. Мало того, известны и, скажем так, сознательные мистификаторы — Сонькины двойники. Например - аферистка Франциска Целестинова Кацперская (см. “Одесский вестник”, 1892, № 54).
Реальная же история нашей “героини” даже за давностью лет прослеживается довольно рельефно. В материалах судебных разбирательств она обычно фигурирует как Софья Блювштейн. Однако мало кто знает, что это всего лишь фамилия одного из многочисленных ее супругов, Мишеля (Мойше) Блювштейна. Фиктивные браки эти нередко заключались лишь для того, чтобы сменить имя, а заодно — “легенду”, замести следы. Мишель, кстати говоря, был одним из видных соратников по сформированному Сонькой воровскому сообществу. Как и другой “супруг”, Бреннер, он проходил с Золотой Ручкой по общим уголовным делам на процессе 1880 года.
В материалах следствия 1872 года (по приговору суда Сонька
тогда была лишена всех гражданских прав) упоминается, что она “варшавская
мещанка”, “урожденная Соломониак”, “26-ти лет”. Из чего нетрудно заключить,
что подлинная Золотая Ручка родилась в 1846 году. И, следовательно, на
рубеже 1960-1970-х это была бы самая заслуженная репатриантка, каковая,
пожалуй, угодила бы и в книгу рекордов Гиннесса.
Оставив гипотезы о трудном детстве и обольстителях на совести эмоциональных
деятелей киноэкрана, сразу же перейдем к реестру героических достижений
нашей “Варшавянки”. Первые впечатляющие успехи пришли к ней еще в 1860-х
годах на железных дорогах империи, по которым она, как выразился один
желчный присяжный поверенный, разъезжала “уже, конечно, не ради одного
моциона”. Превосходные внешние данные, умение располагать к себе случайных
попутчиков, природная смекалка, наглость, граничащая со смелостью, — вот
ассортимент качеств, обеспечивший Соньке стремительную карьеру. Очень
скоро “воровка на доверие” переместилась в купе для пассажиров из “чистой
публики” и вместо убогого содержимого потертых саквояжей разночинцев получила
тугие портмоне и сумочки из крокодильей кожи. Так, один лишь задушевный
вечерок с неким генералом Фроловым обошелся бравому вояке в 213 тысяч
рублей!
Уже к концу 1860-х кражи в поездах сменились гастролями по городам и весям, и Сонька сколотила крепкую дружину аферистов-универсалов, специалистов, так сказать, широкого профиля. Махинаторы наследили в Москве и Петербурге, Саратове и Астрахани, Риге и Петрозаводске, Кишиневе и Харькове, Варшаве и Вене, Лейпциге и Будапеште. Но самым любимым экспроприаторским полем этого концерна была, конечно, популярнейшая Нижегородская ярмарка, привлекавшая огромную массу “жирных фраеров” с солидной наличностью — с одной стороны, и заслуженных “зубы проевших” (т. е. мазуриков) — с другой. Сонькина команда работала слаженно и ювелирно, роли были расписаны и заучены назубок. Одни “пасли”, другие “замыливали глаз”, третьи “раскручивали”. Сонька дирижировала, а сама работала по-крупному, “плотно с клиентом”.
Отработав номер в Нижнем Новгороде, “отряд особого назначения” направлялся в Одессу, где чаще не столько “работал”, сколько спускал добычу — благо, индустрия развлечений здесь была отлажена вовсе не плохо (имелась даже ресторация под вывеской... “ЗОЛОТАЯ РУКА”). В Одессе у Соньки было много “лежбищ” и, главное, активных сотрудников. Таких, как, скажем, небезызвестный Чубчик (Владимир Кочубчик), впоследствии также сосланный на Сахалин и утонувший в ходе побега и переправы на материк. Здесь же, в Южной Пальмире, хранился и “общак” воровского синдиката, кассиром которого состоял одесский мещанин Березин. Отсюда же Сонька имела возможность отправляться как по морю, так и по суше в Европу — “по делу” или развеяться. Известно, например, что в 1872 году она заложила в венском ломбарде различные драгоценности, получила на руки изрядную сумму, которую весьма лихо прокутила.
Первое известие о гастролях Золотой Ручки в Одессе я зафиксировал в местной периодике за 1869 год. Тогда был дерзко ограблен один из лучших ювелирных магазинов — М. Пурица, на Ришельевской. Похищенное оценили в 10 тысяч рублей серебром. Дележ драгоценностей осуществлялся на квартире Блювштейн. Любопытно, что тогда из всех уворованных вещей полиции удалось разыскать лишь дешевые серебряные серьги и около 400 рублей, полученных похитителями от реализации ювелирных изделий.
В дальнейшем Сонька посчитала для себя невыгодным “шуметь” в Одессе и приезжала сюда главным образом для отдохновения после трудов праведных. Осужденная в 1872-м, Золотая Ручка была вновь арестована опять-таки в благословенной “столице Юга” 29 августа 1879 года, а затем начался скандальный (с очевидной антисемитской направленностью) процесс 1880-го. В эти же годы Сонька наладила контакты с коллегами из компании так называемых Червонных Валетов. Валеты составляли группу профессиональных мошенников, в которую, между прочим, входили и представители самых аристократических фамилий из “золотой молодежи”. Громкие имена открывали не только любые двери, но и кредит доверия. Фальшивые расписки, закладные, купчие, банковские билеты и прочие финансовые документы приносили неслыханные дивиденды.
В конце концов, все эти “пацаны”, как и клан Золотой Ручки, были осуждены. Но я хочу обратить внимание читателей на игровой элемент в практике той и другой организации. Знаете, откуда взят популярный эпизод “Веселых ребят”, в котором катафалк доставляет актеров на эстраду? Из практики Червонных Валетов! Это они купили роскошный саркофаг на Смоленском рынке у гробовщика Морозова, посадили на погребальные дроги восемь певчих из хора Дюпюи и с песнями прокатили по городу. В гроб улегся один из главных Валетов, а остальные с погребальными фонарями расположились в сопровождающей карете. Выехали за Тверскую заставу, к знаменитому “Яру”, где певчих сменил цыганский хор. Это “безобразие” Валетам припомнили, разбирая все их дела в окружном суде.
Между тем Софья Блювштейн не только попадалась, но и периодически совершала побеги в духе Монте-Кристо и Германа Лопатина. Самый забавный случай — обстоятельства бегства из нижегородской тюрьмы, когда она, словно миледи из романа Дюма, обольстила своего сторожа и бежала вместе с ним! Тюремный надзиратель попался очень скоро. Что до Соньки, то ее задержали лишь полгода спустя аж за Вислой, препроводили в Москву, а оттуда в Петербург с огромным “почетным эскортом”. Попытка побега из поезда на Чудовской станции на этот раз не удалась.
В северной столице выдающуюся преступницу встречали тысячи
любопытных. Толпы сопровождали ее по Знаменской и Шпалерной в дом предварительного
заключения. Под арестантской “робой” с бубновым тузом на спине “пресса”
узрела дорогое шелковое платье и золотые украшения с “камешками”. “Сонька
еще очень красива, — писали репортеры, — брюнетка, с выразительным лицом;
ей лет под тридцать с небольшим”. То бишь наша героиня выглядела лет на
десять моложе, несмотря на весьма интенсивное прожигание жизни.
Было это в начале 1887 года. Поскольку Золотая Ручка прежде уже неоднократно
бежала из Сибири, ее осудили в каторжные работы, и она оказалась на Сахалине,
где ее застал и с пристрастием описал А. П. Чехов. История эта известна.
Звезда величайшей злодейки померкла навсегда. Но энергичное мифотворчество
создало ей двойников в том же 1887-ом. Так, в Одессе объявились сразу
две Золотые Ручки, специалистки по облапошиванию владельцев элитарных
магазинов и салонов мод — Роза Эппель и Рухля Шейнфельд (“Одесский вестник”,
1887, № 129).
Среди сподвижников и последователей нашей “рыбачки” был
и “король карманников” Моисей Троцкий, он же Шмуль Моревич-Левин, он же
Давид Шамиль, он же Берка Вайсман, он же Морис Швайбер и др. Маршруты
его гастролей совпадают с Сонькиными — те же три столицы (включая Варшаву),
тот же Нижний Новгород и пр. Разница лишь в том, что побег из тюрьмы ему
удалось совершить в самой первопрестольной! В Одессе он тоже несколько
раз судился за карманные кражи, причем все время под разными именами.
В одной из газетных информаций обнаружилась крайне любопытная деталь,
а именно та, что помянутый Король был знаком и дружен не только с Софьей
Блювштейн, НО И С ЕЕ СЫНОМ.
Для завершения сюжета мне оставалось разыскать сведения об этом чаде замечательной
аферистки. Розыски затянулись. Зато теперь могу поделиться с читателями
совершенно свежей эксклюзивной информацией.
Яблочко и в самом деле падает от яблони недалеко. Судя по всему, природа промахнулась, и ей не пришлось отдыхать ни в том, ни в другом случае. Мордох Блювштейн был задержан полицией в числе прочих правонарушителей во время многолюдного праздничного шествия в ознаменование... 93-й годовщины Одессы. Подлинное имя стало известно не сразу, поскольку Блювштейн проживал по документам некоего Иосифа Дельфинова, а по-уличному звался Бронзовой Рукой. Вскоре выяснились некоторые любопытные подробности, к примеру, то, что он “находился при Золотой Ручке до 16-летнего возраста, а в настоящее время ему лет 25-27”. Получается, что Сонька стала матерью примерно в 1861 году, т. е. совсем еще девчонкой, и это обстоятельство, вообще говоря, свидетельствует в пользу романтической версии о соблазнителях, искусителях и прочих растлителях.
“Назван он Бронзовой Рукой товарищами по профессии потому, — пишет современник, — что происходит от Золотой Ручки. Ближайшим помощником его состоял кишиневский мещанин Гершко Мазурчук, проживавший в Одессе по подложному паспорту”. Тогда же Блювштейна-младшего этапировали на родину, в Варшаву, где за ним много чего числилось. Дальнейшая его судьба мне неизвестна. Знаю, впрочем, что не только дети лейтенанта Шмидта, но и внуки рыбачки Сони до сих пор не перевелись как в нашем городе, так и в его окрестностях.
Автор: Олег ГУБАРЬ
Источник: http://zamok.druzya.org/index.php?showtopic=1651&st=270&p=63151&#entry63151
Эмми Нётер
Амалия Эмми Нётер (нем. Amalie Emmy Noether ; 23 марта
1882, Эрланген, Германия — 14 апреля 1935, Брин-Мор, Пенсильвания, США)
— выдающийся немецкий математик, "самая крупная женщина-математик,
когда-либо существовавшая".
Отметим, что Эмми — не сокращение от «Амалии», как часто полагают, а второе
имя Нётер.
Биография
Родилась в семье математика Макса Нётера в Эрлангене, где была старшей из 4 детей. Первоначально изучала языки, планируя стать преподавателем английского и французского. С этой целью добилась разрешения посещать лекции в Эрлангенском университете, где работал её отец, вначале вольнослушательницей (1900), а с 1904 года, когда разрешили женское обучение, зачислена официально. Однако в университете лекции по математике привлекали Эмми больше, чем любые другие. Она стала ученицей математика Пауля Гордана, под руководством которого защитила в 1907 году диссертацию по теории инвариантов.
Уже в 1915 году Нётер внесла вклад в разработку Общей теории относительности; Эйнштейн в письме к мировому лидеру математиков Давиду Гильберту выразил восхищение «проницательным математическим мышлением» Нётер.
В 1916 году Нётер переехала в Гёттинген, где знаменитые
математики Давид Гильберт и Феликс Клейн продолжали работы по теорией
относительности, и знания Нётер в области теории инвариантов были им нужны.
Гильберт оказал на Нётер огромное влияние, сделав её сторонницей аксиоматического
метода. Он пытался сделать Нётер приват-доцентом Гёттингенского университета,
но все его попытки провалились из-за предрассудков профессуры, в основном
гуманитариев. Стала известна фраза Гильберта:
"Не понимаю, почему пол кандидата служит доводом против избрания
её приват-доцентом. Ведь здесь университет, а не мужская баня!"
Нётер тем не менее, не занимая никакой должности, часто читала лекции
за Гильберта. Лишь по окончании Первой мировой войны она смогла стать
приват-доцентом в 1919 году, затем сверхштатным профессором (1922).

Самый плодотворный период научной деятельности Нётер
начинается около 1920 года, когда она создаёт целое новое направление
в абстрактной алгебре. С 1922 года она работает профессором Гёттингенского
университета, возглавляет авторитетную и быстро растущую научную школу.
Современники описывают Нётер как не слишком красивую, но на редкость умную,
обаятельную и приветливую женщину. Её женственность проявлялась не внешне,
а в трогательной заботе об учениках, всегдашней готовности помочь им и
коллегам. В числе ее преданных друзей были ученые с мировым именем: Гильберт,
Герман Вейль, Эдмунд Ландау, нидерландский математик Л. Брауэр, советские
математики П. С. Александров, П. С. Урысон и многие другие.
Нётер придерживалась социал-демократических взглядов.
На протяжении 10 лет жизни она сотрудничала с математиками СССР; в 1928—1929
учебном году читала лекции в Московском университете, где она оказала
влияние на Л. С. Понтрягина и особенно на П. С. Александрова, до этого
часто бывавшего в Гёттингене. П. С. Александров вспоминал:
"Вершиной всего услышанного мною в это лето в Гёттингене были лекции
Эмми Нётер по общей теории идеалов… Конечно, самое начало теории заложил
Дедекинд, но только самое начало: теория идеалов во всём богатстве её
идей и фактов, теория, оказавшая такое огромное влияние на современную
математику, есть создание Эмми Нётер. Я могу об этом судить, потому что
я знаю и работу Дедекинда, и основные работы Нётер по теории идеалов.
Лекции Нётер увлекли и меня, и Урысона. Блестящими по форме они не были,
но богатством своего содержания они покоряли нас. С Эмми Нётер мы постоянно
виделись в непринуждённой обстановке и очень много с ней говорили, как
на темы теории идеалов, так и на темы наших работ, сразу же её заинтересовавших.
Наше знакомство, живо завязавшееся этим летом, очень
углубилось следующим летом, а затем, после смерти Урысона, перешло в ту
глубокую математическую и личную дружбу, которая существовала между Эмми
Нётер и мною до конца её жизни. Последним проявлением этой дружбы с моей
стороны была речь памяти Эмми Нётер на собрании Московской международной
топологической конференции в августе 1935 года[4].
В 1932 году Нётер, совместно со своим учеником Эмилем Артином, получает
премию Аккермана-Тёбнера за достижения в математике.
После прихода нацистов к власти в 1933 году Нётер, как еврейке, пришлось
эмигрировать в США, где она стала преподавателем женского колледжа в Брин-Море
(Пенсильвания) и приглашённым преподавателем Института высших исследований
в Принстоне. Младший брат Эмми, одарённый математик Фриц Нётер, уехал
в СССР, где был расстрелян в сентябре 1941 года за «антисоветские настроения».
Несмотря на блестящие математические достижения, личная жизнь Нётер не
сложилась. Непризнание, изгнание, одиночество на чужбине, казалось бы,
должны были испортить её характер. Тем не менее, она почти всегда выглядела
спокойной и доброжелательной. Герман Вейль писал, что даже счастливой".
В 1935 году Эмми Нётер умерла после неудачной операции
по удалению раковой опухоли.
Академик П. С. Александров писал:
"Если развитие математики сегодняшнего дня несомненно протекает под
знаком алгебраизации, проникновения алгебраических понятий и алгебраических
методов в самые различные математические теории, то это стало возможным
лишь после работ Эмми Нётер".
А. Эйнштейн в заметке на её смерть отнёс Нётер к величайшим творческим
гениям математики.
Научная деятельность
В основном труды Нётер относятся к алгебре, где они способствовали
созданию нового направления, известного под названием абстрактной алгебры.
В эту область Нётер внесла решающую роль (наряду с Эмилем Артином и её
учеником Б. Л. ван дер Варденом). Герман Вейль писал:
Значительная часть того, что составляет содержание второго тома «Современной
алгебры» (Теперь просто «Алгебры») ван дер Вардена, должно принадлежать
Эмми Нётер. Термины «нётерово кольцо», «нётеров модуль», теоремы о нормализации
и теорема Ласкера-Нётер о разложении идеала теперь являются основополагающими.
Большое влияние оказала Нётер на алгебризацию топологии, показав, что
т. н. «числа Бетти» являются всего лишь рангами групп гомологий.
Большой вклад внесла Нётер в математическую физику, где её именем называется фундаментальная теорема теоретической физики (опубликована в 1918 году), связывающая законы сохранения с симметриями системы (например, однородность времени влечет закон сохранения энергии). На этом плодотворном подходе основана знаменитая серия книг «Теоретической физики» Ландау-Лифшица. Особенно важное значение имеет теорема Нётер в квантовой теории поля, где законы сохранения, вытекающие из существования определенной группы симметрии, обычно являются главным источником информации о свойствах исследуемых объектов.
Идеи и научные взгляды Нётер оказали огромное влияние на многих учёных-математиков и физиков. Она воспитала ряд учеников, которые стали учёными мирового класса и продолжили открытые Нётер новые направления.
Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki
Перепечатано отсюда: http://zamok.druzya.org/index.php?s=&showtopic=1651&view=findpost&p=63961
Рина Левинзон
Сейчас уже трудно прочувствовать, как эмигранты уезжали из Советского
Союза и как их провожали родные, друзья — словно на тот свет, за край
земли, без надежды на возвращение. Теперь обитаемый мир преспокойно округлился,
и оказалось, что удаление от дома было началом пути к нему — во всяком
случае, для тех, кому действительно было что сказать. Так вернулись на
Родину стихи Рины Левинзон. Сборники ее — «Первый дом,
последний дом» (Свердловск, «Урал-советы», 1991), «Колыбельная отцу» (Иерусалим
— Екатеринбург, 1993), «Этот свет золотой» (Иерусалим — Екатеринбург,
1996) — убеждают читателя, что перед ним настоящая русская поэзия, чистая
по звучанию и глубокая по чувству. Если и был от сборника к сборнику рост
мастерства, то он выражался в том, что мастерство становилось все менее
заметно: самые последние стихотворения Рины Левинзон настолько прозрачны,
что о поэтессе, кажется, можно вообще забыть и просто думать о жизни словами,
которые она сумела найти.

Для меня Рина Левинзон — радостное открытие в том наборе эмигрантской литературы, что пришла к нам, вместе с бусами и зеркальцами, из «цивилизованного мира». Как бы мы ни восхищались более или менее именитыми эмигрантами, их произведения напоминают все-таки аквариумных рыбок, зародившихся в кубическом метре родной языковой среды и обитающих не иначе как в специальной посудине. Выплеснутые в наши бурные, отравленные, пенистые воды, где-таки шевелится угрюмая местная живность, эти созданья сверкнули разными красивыми цветами, а затем закономерно передохли. Остались исключения, изначально бывшие е с т е с т в е н н ы м и . Поэзия Рины Левинзон доказывает, что собственно литература создается не в Екатеринбурге, не в Иерусалиме, не в Париже или Нью-Йорке, а в некоем ином пространстве — в пространстве языка. Если аквариум предназначен для взгляда извне, оттуда, где вспыхивающему вуалехвосту, должно быть, видится лишь смутное перетекание оптически преувеличенных объектов, то пространство языка само проникает всюду и позволяет видеть чужое, как свое. Русский язык, с его огромным художественным опытом, как бы сам «подает» поэтессе простые и ясные образы:
| У нас зеленая зима, на солнце греется земля, как кошка у огня. |
Собственно, это частность. Если говорить о главном в поэзии Рины Левинзон, то надо говорить об образе Дома, организующем то, что внутри, и то, что вовне. Дом — всегда «маленький», и если чем-то защищен, то только любовью, дочерней, женской, материнской. Дом — это прошлое, то есть детство: издалека он представляется поэтессе, будто «квадратик во вселенной, единственный, где мне прощали все». Квадратик — это похоже на детский рисунок: можно его заполнить, зарисовать, чем пожелает душа. Квадратик противоречит колесу, которое — тоже из детства! — видится большим:
| Куда мы? Куда уплывает земля? Колеса огромны, и поезд печален, и ангел-хранитель, беду замоля, мне машет крылом у последних развалин. |
Неправдоподобные колеса, чуть ли не до сумрачных окон печальных вагонов (поезд из детства не совсем настоящий), начинают с тонким железным скулежом вращаться, утапливая рельсы в почву, точно хилый мостик в лужу, — и вот уже, переняв движение, вращается «земное колесо», главное в необратимо запущенном механизме расставаний и утрат. Что это за механизм? Конечно, часовой, мехаанизм уходящего времени. Читая стихи Рины Левинзон, лишний раз убеждаешься, что поэт все-таки отличается от непоэта. Все вокруг него — сплошная прокрутка времени в одну-единственную (смертную) сторону, сам он песчинка в таинственно сопряженных колесах, — и все-таки он остается в своей человеческой точке весь и целиком, с детством, с первой любовью, с мамой и папой, со своими стихами. Как это ни банально звучит — у поэта нельзя отнять прошлое, так же, как нельзя лишить его будущего; квадратик Дома не потеряется, не укатится, как могла бы укатиться округлая и хорошо отполированная штучка. Обычный человек, по сути, только и делает, что забывает себя, а поэт всегда «в полном сознании»: все для него происходит здесь и сейчас.
 |
 |
Сборник «Колыбельная отцу» стал, похоже, мощным прорывом в поэтическом мироощущении Рины Левинзон. Трагичны обстоятельства появления этих стихов: что может быть горше смерти родного человека, с которым столько прожито в разлуке, — без мысли, что эта, земная разлука, так легко преодолима обычными земными средствами? Удивительна цельность сборника, написанного словно на одном дыхании, буквально как одно стихотворение. Удивительно, как слова могут, оказывается, впитывать чувства. Рине Левинзон, не думавшей, конечно, в своем горьком вдохновении ни о какой поэтической технике, удалось — или было дано? — сделать кое-что с поразительной точностью:
| Недомолвки, ночной пересуд, слезной осени сонные тени. Вот и тело отца понесут от земли до небесной ступени. |
Ступени, как подсказало Рине Левинзон выпеваемое горе, не участвуют в круговращении времени, по ним нельзя проехать колесами, а можно только пройти пешком — вверх или вниз. Ненадолго приотворилась дверь, о которой живущим свойственно забывать; уход отца заставил поэтессу бесстрашно вглядеться в то, что отсюда представляется нам темнотой. Кажется, что присутствие т а м родной души, посланца и представителя, дает возможность заглянуть, уловить какой-то отзвук, даже отправить туда «белое письмо в конверте» (может быть, белое потому, что на листке ничего не написано?). Однако, вглядевшись еще внимательнее, вдруг узнаешь в потустороннем — свое, земное: проклятая дверь оказывается с зеркалом. Может быть, поэтесса и сама не понимала, что «свет золотой», который она как бы сквозь закрытые веки отца увидела там, был на самом деле «поздним золотом слез» осенней рощи, мимо которой несли на погост то, что еще осталось здесь от ушедшего человека. В общем, поэту и не обязательно осознавать, как и из чего получаются стихи, что именно отразилось в поэтической волне. Важно, что у Рины Левинзон изменилось ощущение времени — как я думаю, одно из базовых не только для поэта, но вообще для всякого таланта.
Новый сборник поэтессы вынес из предыдущего не только свое название. Время зачастило, застучало, поволокло — и вот уже каждый прожитый день заканчивается знаком вопроса:
| Господи, прости мне этот день, свечку незажженную, и тень суетности над моей душой, этот бег, и этот страх смешной, всю невнятность помыслов и дел... Господи, что ты сказать хотел? Что ушло навеки с этим днем? Ночь закрыла веки за окном... |
Если знаешь и помнишь о плотно закрытой дверце (запертой, вероятно, с той стороны), то время вдруг тоже оказывается «маленьким». В самом мелькании дней выявляется их сосчитанность — кажется, только и остается, что дата, то есть цифра, — лишь ночь сохраняет пока собственную бессонную долготу. Тем пристальней взгляд поэтессы, тем драгоценней становятся подробности, понимаемые как знаки: «Чем дольше живешь, тем отчетливей облик пейзажа, что виден тебе из окна». Время — маленькое, как дом, но оно, как дом, согрето; квадратик удерживается на месте. Возможно, писать стихи есть лучший способ не бояться смерти; возможно, чтение стихов тоже от этого помогает. У поэзии Рины Левинзон есть одна особенность, для меня и загагадочная, и притягательная: всякий раз, когда поэтесса видит землю, будь то холмы Иерусалима или русские «ледяные дворы», она не может не указать одновременно на небо и на облако в небе. Должно быть, движение облаков, никак не связанное с движением на земле, не учитывающее ни машинной строчки поезда, ни токов ночного города, ни даже того, как «в гору ослики пылят», видится поэтессе вневременным, беззвучно указывающим куда-то в д р у г у ю сторону. «Чем дольше живешь, тем дорога короче, пространнее небо, теснее земля», — и все важнее становится то, что происходит наверху.
Сложно судить, что вдали от России служило для Рины Левинзон творческой средой. Одной ей было, конечно, не продержаться — не удержаться от соблазна декоративности, свойственной всякому аквариуму. Вероятно, присутствие рядом с поэтессой ее мужа Александра Воловика, чьи поэтические сборники тоже стали в последние годы достоянием российского читателя («Райский сад», Иерусалим — Екатеринбург, 1993, «Судьба и воля», Иерусалим, 1996), расширяло духовный объем, в котором создавались ее стихи. Рина Левинзон и Александр Воловик — два очень разных поэта. Творчество Воловика и сложнее, и рассудочнее. Ему не свойственно то смирение, то замирание перед сущим, с каким Рина Левинзон вслушивается в мир — и улавливает ответ. Александр Воловик говорит как будто сам с собой, в одиночестве, задавая самому себе извечные проклятые вопросы, — но отточенная форма высказывания не становится разрешением. С другой стороны, и энергия оказывается неизрасходованной: если и у читателя, и у самого творца возникает иногда мистический страх, что вот это стихотворение, может быть, последнее (никто ведь не гарантировал, что чаша наполнится вновь), — то об Александре Воловике такого не подумаешь. Он никогда не бывает опустошен до конца. Он, если можно так сказать, поэт сильного глагола:
| Будем, если не забудем, быть, Есть и пить, писать, бродить, любить. Брать вслепую, трезво отдавать. Будем быть, иначе не бывать. |
О сложности образов я говорю не в укор поэту: они настолько же естественны, как и цельные, неделимые единицы бытия, которыми оперирует Рина Левинзон. Главное в том, что сложное не остается лежать «разобранным»: стихотворение как форма «собирает» части, преодолевает их множественность и противоречивость. В новом целом остается след «прохода», что само по себе и есть полноценный, хорошо нагруженный художественный результат:
| Море ластится, море плещется, исполняет любой каприз... Прямо в небо взбирается лестница, по которой мы сходим вниз. |
Александру Воловику «враждебна чистая страница», и он собирает силу и волю, чтобы увидеть на этом универсальном экране новое открытие. Вероятно, у поэтов «враждебность» белого листа ощущается разительнее, чем у прозаиков: ведь лист, пока еще просто кусок бумаги, заключает в себе неизвестное начало и конец, он, как потенциальный носитель сразу всего произведения, персонален и штучен; он готов стать до поры единственной плотью новорожденного творения — даже в книге сохраняющего, в отличие от прозаической страницы, индивидуальность зрительного облика и «воздух», то есть изначальную, слепящую белизну. «Чем больше сила, тем сильней мученье», — пожалуй, эти слова поэта характеризуют прежде всего его собственное творчество как неиссякающий и неразрешимый процесс. Но все-таки есть общее у него и у негромкой, чуткой, растворяющейся в слове Рины Левинзон. Это общее — единство целокупного времени. «Назначить свиданье себе — молодому; еще не седому, крутому, худому» — вот задача для образной памяти и способ осознать себя действительно существующим. Поэт — носитель Слова — соединяет небо и землю единственно собой:
| В этом мире огромном, на бреге, у Млечной
реки, Твари Божьи, Господь, мы — твои дневники. |
Видимо, настоящему таланту все, что случается и даже стрясается в жизни, идет на пользу. Возможно, Рине Левинзон и Александру Воловику надо было уехать далеко-далеко от маленького квадратика. Оба они из тех, кого расширяющееся пространство не уменьшает до точки, а наоборот, увеличивает, раздвигая сферу чувств и ума.
Автор: О.Славникова
Источник: http://magazines.russ.ru/ural/1997/4/panorama-pr.html
Перепечатано отсюда: http://zamok.druzya.org/index.php?s=&showtopic=1651&view=findpost&p=64304
Сёстры Гнесины
Чеховские три сестры стремились в Москву, чтобы вернуться назад, в своё
беспечное, радостное детство в семье бригадного генерала, избавиться от
омерзительной Наташи... А вот мои героини видели перед собой совершенно
иную цель и смотрели только вперёд.
Сёстры эти родились в семье Фабиана Осиповича Гнесина, казённого раввина
Ростова-на-Дону, и Беллы Исаевны Флетзингер -Гнесиной. Фабиан Осипович
был достаточно образованным человеком (по тем временам): уроженец одного
из местечек Минской губернии, он пешком пришёл в Вильно, чтобы учиться.
А Белла Исаевна была хорошей пианисткой (она училась у самого Станислава
Монюшко, ставшего впоследствии выдающимся польским композитором) и обладала
незаурядным певческим голосом. Она могла бы быть профессиональным музыкантом,
но судьба решила иначе, и она стала матерью двенадцати детей, семеро из
которых всё же стали музыкантами по профессии.
В семье Гнесиных постоянно звучала музыка. Белла Исаевна пробуждала своей игрой и пением музыкальные таланты детей. Сначала они обучались у домашних учителей в Ростове, а затем возникла мысль о более основательном, профессиональном образовании. Старшую дочь, Евгению, отправили в Московскую консерваторию. Евгении едва исполнилось 14 лет. Затем настала очередь второй дочери, Елены. Она тоже была отвезена в Москву, под опеку старшей сестры. Евгения занималась у В.И. Сафонова, замечательного пианиста и выдающегося педагога. Как-то Сафонов зашёл в класс, где под руководством опытного учителя Э.Л. Лангера Елена разучивала ре-минорный концерт Моцарта. Послушав её игру, Сафонов взял Елену в свой класс, хотя она была ещё на младшем отделении, а он занимался только со старшими. В 1890 году, став директором консерватории, Сафонов пригласил для преподавания молодого талантливого пианиста и композитора Ферруччо Бузони, в его класс была направлена и Елена Гнесина. За год своего пребывания в консерватории Бузони немало дал молодой пианистке и даже приглашал её уехать с ним за границу для участия в его концертной деятельности. "Но я тогда была слишком юна для столь решительного шага", - вспоминала впоследствии Елена.

Среди преподавателей Елены и Евгении были знаменитые композиторы А.С. Аренский и С.И. Танеев (у последнего Евгения проходила курс композиции); часто встречались сёстры и с Петром Ильичом Чайковским, который нередко заходил в консерваторию, хотя уже не преподавал в ней. Вслед за Еленой и Евгенией вскоре поступили в консерваторию и младшие сёстры: Мария и Елизавета. Рядом с ними в консерватории обучались высокоодарённые музыканты, ставшие впоследствии гордостью русского искусства: А.Н. Скрябин и С.В. Рахманинов, с которыми Гнесины продолжали дружить и после окончания консерватории. Многие знаменитые русские пианисты и композиторы (например, А.Б. Гольденвейзер, Н.К. Метнер, Р.М. Глиер, А.Т. Гречанинов) были товарищами сестёр Гнесиных по консерватории.
В 1891 году семью Гнесиных постигло большое горе: умер отец, Фабиан Осипович. Семья осталась без средств к существованию и без чьей-либо поддержки. Тогда на помощь пришли консерваторские учителя. Они помогли определить Елену на место учителя музыки в гимназию Арсеньевых. Так началась её педагогическая деятельность. Когда она окончила консерваторию (с серебряной медалью) и начала концертировать как солирующая пианистка, ансамблистка и аккомпаниатор (а выступала в этом качестве она с Л.В. Собиновым и П.А. Хохловым, знаменитыми русскими певцами), она не бросила преподавание в гимназии. Видимо, уже тогда её тянуло к преподавательской деятельности. Сестра Евгения была тесно связана с кружком любителей литературы и искусства, которым руководил молодой купеческий сын Константин Алексеев - в будущем К.С. Станиславский. Евгения занималась с членами кружка музыкой, главным образом, теоретическими предметами.
И вот, у старших сестёр возникла идея объединить свои усилия в области педагогики, и было решено создать своё музыкальное учебное заведение, как только третья сестра, Мария, завершит консерваторский курс. В этом их поддержали консерваторские преподаватели. Всемерно ободряя и поддерживая молодых пианисток, они оказали содействие в получении ими официального разрешения городских властей. Сёстры сначала организовали музыкальную школу в своём (вернее, в арендованном ими) доме в Гагаринском переулке. Пока школа располагала только одним роялем (на приобретение второго просто не было средств). И вот, в начале февраля 1895 года в Москве открылось "Училище сестёр Е. и М. Гнесиных" (под "Е" подразумевались Евгения и Елена, под "М" - Мария). Все организационные дела по училищу взяла на себя Елена, обладавшая поистине мужским, волевым, решительным характером. Так наши три сестры нашли себе Дело в Москве.
Итак, при наличии жестокой процентной нормы для евреев,
дочери раввина - одна за другой - поступают в Московскую консерваторию
и успешно заканчивают её. Как ни странно, у колыбели музыкального образования
в России оказались в основном евреи: Санкт-Петербургскую консерваторию
основал Антон Рубинштейн, Московскую - его брат Николай, музыкально-педагогический
комплекс в Москве - наши героини. Забегая вперёд, скажу, что и Донскую
консерваторию в Ростове основал опять-таки Гнесин, брат трёх сестёр Михаил
Фабианович.
Вернёмся, однако, к нашим сёстрам. Сначала педагогический коллектив состоял
только из трёх сестёр Гнесиных. Но уже в 1901 году, окончив консерваторию,
в этот коллектив влилась четвёртая сестра, Елизавета, и появился класс
скрипки. Одной из первых выпускниц училища была самая младшая сестра Ольга
(она обучалась у Елены Фабиановны), которая тоже стала преподавать в училище.
Сёстры не только вели специальные классы игры на фортепиано и скрипке, но и теоретические, хоровые, ансамблевые, причём этим дисциплинам придавалось очень большое значение, чем училище Гнесиных существенно отличалось от других частных учебных заведений Москвы. Елена преподавала методику игры на фортепиано, вела она и хоровой класс, в котором объединялись все учащиеся. Евгения преподавала как фортепиано, так и детское сольфеджио, а Елизавета вела классы скрипки, камерного ансамбля, а затем и сольфеджио. Вскоре училище молодых сестёр получило такую известность, что в него стали поступать взрослые ученики, готовившиеся к дальнейшей учёбе в консерваториях - Московской, Петербургской и даже Лейпцигской.
Популярность нового училища выросла настолько, что уже к началу ХХ века силами только сестёр невозможно было управиться с разросшимися классами. И тогда сёстры стали привлекать для преподавания музыкантов, в чьей квалификации и добросовестности они были уверены. Такими преподавателями стали выдающиеся композиторы Р.М. Глиэр, А.Т. Гречанинов, известная пианистка Е.А. Бекман-Щербина. Пришлось искать новое помещение для училища, и в 1902 году был снят небольшой деревянный особнячок на Собачьей площадке, 5. В этом доме семья Гнесиных и их учебное заведение прожили более полувека.
Здание это не сохранилось: при сооружении Нового Арбата (т.е. Проспекта Калинина) разрушили многие исторические здания Москвы. В камни и пыль превратились не только старое здание Училища, но и ряд домов, связанных с московской юностью Лермонтова, в частности, дом Лопухиных, куда влюблённый гениальный юноша прибегал к обожаемой Вареньке... Жизнь семьи Гнесиных в новой квартире была исключительно деятельной, интересной. Занятия с учениками проходили с утра в комнатах сестёр, в гостиной и в небольшом зальчике, в нескольких классах на антресолях, По вечерам - беседы за чайным столом, встречи с многочисленными друзьями. Ольга, кроме музыки, серьёзно занималась живописью. Посещали дом сестёр и консерваторские преподаватели (в частности, Танеев и Сафонов), появлялись и новые друзья: Модест Ильич Чайковский, знаменитые историки Ключевский и Покровский, академик Виноградов. Подружился с Гнесиными и Д.Д. Гончаров, родственник жены Пушкина и владелец имения "Полотняный завод", где родилась Наталья Николаевна. Гончаров неоднократно приглашал Елену Фабиановну погостить в имении, где у него иногда скрывался от полиции А.В. Луначарский. Именно в имении Гончарова произошло знакомство Луначарского с Еленой Фабиановной, что впоследствии немало помогло сохранению и развитию училища (после революции).
В традицию вошло празднование дня рождения училища (15 февраля) с весёлыми концертами, танцами, карнавалами. Другой доброй традицией были академические концерты учащихся (из-за большого наплыва публики приходилось арендовать зал консерватории или зал Синодального училища). На концертах присутствовали, как правило, крупные музыканты: кроме друзей Гнесиных Рахманинова, Скрябина, Танеева, постоянно бывали крупнейшие пианисты Гольденвейзер, Игумнов, композиторы Глиэр и Гречанинов. Приходили Станиславский и Книппер-Чехова. Среди учеников, успешно выступавших на этих отчётных концертах, можно было встретить будущих пианистов мирового масштаба - Н.А. Орлова, Л.Н. Оборина.
Вскоре после революции Дело Гнесиных понесло первую чувствительную утрату: скончалась Мария Фабиановна. Но училище продолжало работать, и уже в 1919 году по решению Луначарского, ему был придан статус Государственной музыкальной школы, которая в 1925 году была преобразована в Государственный музыкальный техникум имени Гнесиных. При этом частью техникума стала Детская школа. Возглавлявшая Дело Елена Фабиановна пользовалась любой возможностью, любыми связями для того, чтобы расширить техникум, и уже в 1930 году ему было передано здание бывшего "Бытового музея 1840-х годов". Помня о том, что сёстры Гнесины во время боёв на Красной Пресне в 1905 году давали приют раненым дружинникам, руководители государства, в общем, поддерживали начинания сестёр и содействовали росту техникума (хотя основной заслугой Гнесиных было, конечно, развитие музыкального образования в стране). В 1936 году техникум был преобразован в Государственное музыкальное училище им. Гнесиных.
В училище стал преподавать ещё один Гнесин - композитор
Михаил Фабианович, ученик Римского-Корсакова и А.К Лядова. К этому времени
он имел за плечами богатый опыт преподавания и музыкально-просветительской
работы в Екатеринодаре и Ростове-на-Дону, где основал музыкальную школу
(ныне его имени) и Донскую консерваторию. Вообще же он был одним из первых
советских композиторов, автором "Симфоничес кого монумента 1905-1917
гг.". Был он и видным автором еврейской музыки: ему принадлежит опера
"Юность Авраама" (1923), цикл песен "Повесть о рыжем Мотеле"
на слова И. Уткина (1929). В Училище Михаил Фабианович решился на смелый
эксперимент: ввёл класс свободного сочинения с самого начала обучения
одновременно с курсом гармонии (сейчас такая практика подготовки композиторов
стала повсеместной). Среди учеников М.Ф. Гнесина - советские композиторы
В.Л. Клюзнер, А.С. Леман, А.И. Хачатурян.
С 1929 по 1932 год в техникуме обучался Т.Н. Хренников, который впоследствии
посещал занятия у М.Ф. Гнесина.
Особое внимание Гнесины обращали на этическое воспитание детей, подростков и молодёжи в школе и техникуме, чтобы из них получались не только музыканты, но и интеллигентные, порядочные люди. Внимательный, доброжелательный подход к каждому учащемуся был нормой отношения Гнесиных к ученикам, особенно к детям - и это несмотря на высокую требовательность сестёр и прочих преподавателей, нетерпимость к лени или поверхностному подходу к усвоению музыкальных дисциплин. Каждого вновь поступающего ребёнка Елена Фабиановна прослушивала сама, определяя наличие слуха и других данных, позволяющих ему стать музыкантом. Например, мою племянницу она, проверив её слух, вдруг спросила: "Хочешь, я буду твоей бабушкой?" Девочка не растерялась и, хитро прищурившись, ответила: "Вообще-то у меня есть две бабушки, но я не возражаю против третьей!" Иногда, к счастью, редко, училищу и школе приходилось отказываться от услуг хороших музыкантов, не обладавших способностью находить контакт с детьми. Елена Фабиановна в этих случаях всегда проявляла необходимую твёрдость.
Техникум продолжал расти, и Елена Фабиановна добилась организации строительства нового здания для него на улице Воровского (Поварской) в расчёте на то, что в старом здании техникума на Собачьей Площадке останется детская школа. Едва началось это строительство, как Елена Фабиановна загорелась новой идеей: создать на базе техникума второй музыкальный вуз в Москве - высшее учебное заведение, основной задачей которого являлась бы подготовка преподавателей музыкальных дисциплин. Комитет по делам искусств не поддерживал этот проект (зачем, мол, нужна вторая консерватория в Москве?), но, видимо, его руководители ещё плохо знали Елену Фабиановну!
Конец 1940-го и весь 1941 год были тяжёлым временем для семьи Гнесиных и их Дела. Умерла Евгения Фабиановна - старшая сестра и многолетний соратник Елены Фабиановны. А через полгода началась Отечественная война. Прекратилось строительство на улице Воровского. В октябре 1941 года Комитет по делам искусств издал приказ о прекращении занятий в училище. Гнесины были эвакуированы из Москвы - в Свердловск и Йошкар-Олу. Последней вывезли - в Казань - Елену Фабиановну, где она преподавала в местном музыкальном училище. С грустью сидела она часто на парапете близ подъезда здания училища, и видно было, что душа её осталась в Москве.
А в осаждённой столице гнесинцы-педагоги на свой страх и риск возобновили занятия (препятствовать этому было некому: Комитет тоже уехал из Москвы). Уже 17 ноября возобновились плановые учебные занятия, и об этом сразу же сообщили Елене Фабиановне. Она немедленно начала рваться в столицу, и её настойчивость победила препятствия. 21 января 1942 года она вернулась в Москву и даже пешком отправилась с Казанского вокзала в училище (ей было 68 лет!) После её возвращения в училище всё ожило. Восстановился пульс жизни. Началась подготовка концертных бригад для армии и госпиталей. У Елены Фабиановны появились новые заботы: как обогреть учащихся (устроили маленькие "буржуйки" в классах) и накормить их (учащимся выдавалось кое-какое дополнительное питание). Елена Фабиановна добилась, чтобы педагоги, а затем и студенты получали рабочие карточки (немолодые читатели могут представить себе, что это значило для тех, кто учил и учился!) Со второй половины 1942 года началось собирание коллектива, разбросанного в разные концы страны. Елена Фабиановна выбила решение о возобновлении строительства на улице Воровского и снова начала атаковать возвратившийся в столицу Комитет: нужно было решить вопрос о создании музыкального ВУЗа на базе Гнесинского техникума. И вот победа: в марте 1944 года вышло постановление правительства о создании в Москве Музыкально-педагогического института имени Гнесиных.
Можно много и долго описывать все свершения Гнесиных во главе с Еленой Фабиановной, развернувших на базе сооружаемого здания института целый учебный комплекс: в здании разместились старшие классы школы-десятилетки для особо одарённых детей, музыкальное училище и собственно институт. В новое здание переехали из старого, что на Собачьей площадке, и сёстры Гнесины (как трудно было расставаться с прежней квартирой, в которой было прожито столько десятилетий и где, казалось, всё ещё звучали голоса давно ушедших корифеев русской музыки!) Для них важно было находиться рядом с учениками, там, где звучали фортепиано, скрипки, духовые, голоса певцов. И всё время рождались новые замыслы и идеи: появилось отделение народных инструментов, было организовано заочное отделение, в училище было создано отделение музыкальных театров...
Каждый свой юбилей Елена Фабиановна использовала для того, чтобы в ответ на поздравления и награды властей обязательно поставить вопрос о расширении комплекса, которому становилось тесно в общем здании на улице Воровского (ныне Поварской). Так, она добилась решения о строительстве отдельного здания для школы-десятилетки, потом строительства 13-этажного здания для училища, потом - дома для педагогов (возник кооператив "Гнесинец"). Во время празднования 80-летия Елены Фабиановны (оно проходило в Большом зале консерватории) в ответ на награждение вторым орденом Ленина и приветственные выступления она поделилась своей мечтой: дожить до открытия концертного зала института. Вникая в каждую мелочь, опекала Елена Фабиановна строительство зала (например, она трижды браковала предназначенные для зала люстры, выбирала материал для штор и занавеса) - и вот в 1958 году состоялось торжественное открытие концертного зала!
Между тем, возраст давал о себе знать. Быть директором
целой сети учебных заведений, заведовать кафедрой специального фортепиано,
вести большой фортепьянный класс, руководить аспирантами стало слишком
тяжело даже для "железной леди" советской музыки. А ведь в свободное
от учебных мероприятий время приходилось ещё и принимать именитых гостей,
среди них - королеву Бельгии Елизавету, покровительницу многих музыкальных
конкурсов, Вана Клиберна, Юрия Гагарина - все эти люди считали своим долгом
посетить основателя знаменитого комплекса.
Елена Фабиановна стала передавать руководство учебными заведениями в руки
своих учеников. В 1953 году она добилась, чтобы её воспитанника по училищу
Ю.В. Муромцева освободили от руководства Управлением театрами Министерства
культуры и назначили директором института. Постепенно все звенья учебных
заведений получили самостоятельность. Их вначале возглавили воспитанники
Гнесиных. Нужно сказать, что ещё много лет спустя, при назначении нового
руководителя в одно из подразделений комплекса связанные с ним люди одобрительно
говорили: "Как хорошо, что и этот человек - гнесинец". "Гнесинец"
звучало синонимом порядочности!
Елена Фабиановна отнюдь не собиралась успокаиваться.
Нужно было добиться строительства нового здания для общежития учащихся
(открытие нового дома для студентов состоялось в 1962 году). А между тем,
дела семьи Гнесиных оставляли желать лучшего. В 1957 году скончался Михаил
Фабианович, композитор и преподаватель Института. Елена Фабиановна очень
любила его, младшего из братьев, и его смерть была для неё большим горем,
одним из самых тяжёлых переживаний. Примерно в это же время у неё случился
тяжёлый перелом ноги, после которого она уже не могла самостоятельно передвигаться.
На открытие концертного зала она приехала из здания Института, где она
жила, в инвалидной коляске.
В 1963 году умерла Ольга Фабиановна. Ушла из жизни последняя из сестёр,
самая младшая, воспитанница и ученица Елены Фабиановны. Из всей большой
семьи Гнесиных Елена Фабиановна осталась одна. Она решила освободить всю
верхнюю часть квартиры, чтобы в ней разместить ректорат Института, а кабинет
Ольги Фабиановны предоставить директору Института Ю. Муромцеву. И сразу
же организовала переезд!
В Москве широко отмечали 90-летие Елены Фабиановны. Интервью, съёмки для телевидения, записи её выступлений изрядно утомили юбиляршу. Говоря словами Горького, Елену Фабиановну "чуть не до смерти зачествовали". 30 мая 1964 года прошла часовая радиопередача, а 31-го, в день рождения Е.Ф. - чествование в концертном зале. Собрались ученики, уже ставшие преподавателями Института, старые друзья, крупные музыканты - З. Долуханова, Г. Нейгауз, Е. Светланов. А. Хачатурян. Т. Хренников и многие другие. Был и К.Е. Ворошилов, давний покровитель Елены Фабиановны, к помощи которого ей не раз приходилось прибегать. И после юбилея Елена Фабиановна продолжала заниматься делами своего разросшегося детища. Нужно было помогать новому директору Училища - бывшему ученику Ю.К Чернову. Е.Ф. убедила его организовать в Училище отделение музыкальной комедии и даже успела обсудить с ним результаты первых сценических показов отделения.
У меня с этим отделением связано многое, ибо в нём мой
сын Аркадий, окончивший Училище в 1978 году, стал работать, ещё будучи
студентом Московской консерватории, с 1982 года, и заведовал музыкальной
частью этого отделения вплоть до нашего отъезда из страны в 1992 году.
По-прежнему Е.Ф. заботило состояние дел со строительством высотного здания
Училища. Даже в дни празднования 90-летия она обратилась в правительство,
начав своё письмо по вопросу ускорения строительства словами "Мне
девяносто лет..."
31 мая 1967 года ей исполнилось 93 года, и на следующий день она скончалась.
Прах её захоронен на Новодевичьем кладбище, рядом с могилами сестёр и
брата.
Но детище сестёр Гнесиных продолжает жить. На Поварской улице по-прежнему высятся здания института и училища, откуда постоянно слышатся звуки музыки, которой дочери ростовского раввина отдали свою жизнь.
Источник: http://www.vestnik.com/issues/2002/1211/win/serper.htm
Перепечатано отсюда: http://zamok.druzya.org/index.php?s=&showtopic=1651&view=findpost&p=64414
Ксения Бородавкина (Оксана Петрусенко)
Согласно последней версии, основанной на архивных документах, родина Оксаны Петрусенко — город Севастополь. Ксения Андреевна Бородавкина (Оксана Петрусенко — сценический псевдоним певицы, которым нарек ее муж, режиссер Херсонского музыкально-драматического театра, где в начале 1919 года она спела свой первый спектакль) родилась в Севастополе в 1900-м году. Ее отец А. Бородавкин родился в Харьковской губернии, и это давало повод долгое время считать местом ее рождения родину отца. Семья ее матери, Кулешовы, переехала в Севастополь из Орловской губернии. Дедушка Иван плотничал в порту. В годы революции 1905 года он был арестован по подозрению в связи с большевиками. Бабушка Евдокия вела нехитрое домашнее хозяйство. Мать Ксении Мария Ивановна работала по найму. Семье жилось нелегко. Отец умер, едва девочке исполнился годик, на родине, в Балаклее. По воспоминаниям родственников, будущая певица свой голос унаследовала от отца. Он замечательно пел украинские народные песни. Мать, забрав детей, поселилась у родителей в Севастополе. Бедствовали и недоедали, и единственной отрадой в трудном детстве Оксаны оставалась песня. Как-то, проходя по двору, военный капельмейстер услышал, как Ксюша, играя во дворе с его дочками, звонким голосом распевает веселые песенки.
— Вашей девочке нужно учиться, — сказал он, встретив ее маму. — Я помогу
устроить ее в гимназию. Пусть ходит туда с моими дочками.
Ксения старательно училась, хорошо рисовала, но больше всего любила петь.
Ее приняли в школьный хор и вскоре начали доверять сольные партии. Однажды
старенький учитель, ранее преподававший в гимназии словесность и пение,
услышав, как она поет в хоре, предложил бесплатно обучать ее нотной грамоте.
Кормильцами в семье были мама Мария Ивановна и сама Оксана. Ксении даже
пришлось уйти из гимназии. После долгих поисков работы она устроилась
на обувную фабрику. Сразу же записалась в кружок художественной самодеятельности
при фабрике и в хор «Рада»… Самые первые шаги в пении она сделала в хоре
Покровского собора Севастополя и в самодеятельном хоре Георгия Загало.
Репертуар хора составляли народные песни, отрывки из опер «Наталка-Полтавка»
Н. Лысенко и «Запорожец за Дунаем» С. Гулака-Артемовского. В годы революции
хористы распевали и революционные песни. В Севастополе будущая примадонна
разучила и свой первый дуэт — дуэт Недды и Сильвио из оперы Р. Леонкавалло
«Паяцы». Ее партнером был матрос Дима Головин. Спустя годы народный артист,
солист Большого театра Дмитрий Данилович Головин вспоминал, что их встреча
и знакомство с Оксаной Петрусенко были необычны. Неподалеку от памятника
Затопленным кораблям он заметил плывущую девушку, залюбовался ею, и вдруг
девушка исчезла… Дмитрий бросился в воду. Как оказалось, она ударилась
о камни, поранила ногу и потеряла сознание. Он помог ей прийти в себя.
Так они подружились. Оказалось у них общее увлечение — пение.

Прибывший в то время в Севастополь Ф. Шаляпин набирал для своих концертов
в этом городе хор из матросов и портовых рабочих. Дмитрий был в числе
счастливцев. Он и Ксению уговорил пойти на прослушивание к самому Шаляпину.
Как вспоминала потом О. Петрусенко, у самых дверей гостиничного номера
Федора Ивановича она настолько оробела перед встречей с великим певцом,
что просто убежала…
Чем больше Оксана увлекалась художественной самодеятельностью, тем сильнее
становилось желание посвятить себя сцене. Как раз тогда в Севастополе
проходили концерты приехавшей на гастроли передвижной украинской труппы
Степана Глазуненко. Приближался день отъезда труппы. Ксения, боясь маминых
слез, упреков и уговоров, решила тайно покинуть родительский дом. И вот
она, глядя в окно двинувшегося поезда, сквозь слезы увидела бегущую следом
маму.
— Прощайте, мама, и простите меня! Я напишу и все объясню! — высунувшись
из окна, кричала Ксюша.
— Будь счастлива, дочка! Благословляю тебя! — услышала в ответ.
Начались гастроли труппы в разных городах Крыма. Ксения была счастлива
— наконец-то она на профессиональной сцене! Но… заболела тифом, и труппа
без нее продолжила гастроли.
Неожиданно Оксана прочитала в газете объявление о наборе хористов в Херсонский
государственный украинский театр, недавно основанный Юрием Шумским. Поздней
осенью 1918 года Ксения, выписавшись из больницы, отправляется в Херсон.
И вот она, худенькая и бедно одетая, в вылинявшем клетчатом платке, из-под
которого видны едва отросшие после тифа волосы, с замиранием сердца входит
в театр. Узнав, что штат уже укомплектован, девушка совершенно растерялась.
Кто-то, проходя мимо, посоветовал обратиться к заведующему музыкальной
частью Петру Бойченко. Тот сел за рояль и предложил ей что-нибудь пропеть.
Под аккомпанемент удивленного дирижера Оксана пела одну песню за другой.
«Нашелся настоящий клад!» — ворвался он через мгновение в кабинет Ивана
Сагатовского, директора театра.
Она работала, не зная отдыха. Бойченко помогал готовить выступления и…
красиво ухаживал. И хотя был немолод и совсем не похож на сценического
героя, о встрече с которым мечтала девушка, уговорил стать его женой.
Накануне ее дебюта возник вопрос о неблагозвучности фамилии «Бородавкина».
Бойченко предложил называть ее Оксаной Петрусенко. (Петра Павловича в
детстве отец ласково называл: «Петрусь», «Петрусенко»). Позже театральный
псевдоним стал ее фамилией.
Успех молодой певицы рос. Через несколько лет, после того как не стало
Бойченко и театр Сагатовского распался, Оксана, воспользовавшись приглашением,
приезжает в Киев и поступает в музыкально-драматический институт имени
Лысенко. Летом 1925 года Оксана поехала в Харьковский оперный театр в
надежде остаться там работать. Выдержала пробы, но работать так и не получилось.
В Казани на концерт украинской труппы пришли артисты и администрация местного
оперного театра, наслышанные об Оксане Петрусенко. После выступления ей
предложили стать солисткой оперной труппы театра. Она согласилась и начала
готовиться к дебюту — роли Оксаны в опере Чайковского «Черевички». Премьера
оперы «Черевички» стала триумфом Оксаны Петрусенко. Потом были партии:
Ярославны в опере «Князь Игорь», Наташи в «Русалке» Даргомыжского, Татьяны
в «Евгении Онегине» Чайковского, Маргариты в «Фаусте», Лизы в «Пиковой
даме» и многие другие.
Осенью 1929 года Петрусенко переманили в Свердловский оперный театр на
роли драматического сопрано. Там и расправил крылья ее талант. Первые
три месяца Петрусенко пела лишь в «Черевичках» Чайковского. На другие
главные роли приглашали певиц из Москвы и Ленинграда. Под руководством
хороших педагогов Петрусенко продолжала работать над репертуаром. Через
три месяца она пела главные партии во всех спектаклях, и пела чудесно.
Свердловский период был недолгим, но важным для совершенствования Петрусенко
как оперной певицы.
Все новый и новый оперный репертуар, все более сложные и серьезные партии.
А любимыми оставались Аида и Тоска, Наталка-Полтавка и Одарка. Вторые
две — ее родный дом, ее украинский характер, неунывающий, озорной, оптимистичный,
невзирая на личные драмы.
Следующий адрес — Самара. Переезд в Самару многим показался очевидным,
но малопонятным шагом назад для Петрусенко как певицы. Когда рождался
Самарский оперный, дирекция театра пригласила в формируемую труппу многих
молодых талантливых певцов. Безусловно, самой яркой звездой в том первом
составе стала 30-летняя ведущая солистка Оксана Петрусенко. В Самаре она
дебютировала в партии Аиды в одноименной опере Верди и сразу же стала
любимицей самарской публики. Петрусенко пела лирические, колоратурные,
лирико-драматические партии, выступала в концертах, исполняла украинские
народные песни.
Но в целом репертуар был слабый, часто спектакли держались лишь на голосе Петрусенко. Лишь в третьем своем самарском сезоне Оксана исполнила партию Купавы в «Снегурочке» так, как она играла в Свердловске. И это принесло ей громкий успех. Именно в Самаре Петрусенко познакомилась с выдающейся русской певицей Надеждой Васильевной Неждановой. В 1934 году столицу Украины из Харькова переводят в Киев. Оксана Петрусенко написала письмо в Киевский оперный театр. У нее дважды были приглашения в Большой театр, ее настоятельно звали в Ленинградскую оперу. Но Оксану не покидает мечта вернуться в Киев. Наконец-то она получает из Киевского театра оперы и балета приглашение на прослушивание. Исполняется ее мечта: она принята солисткой! В июле 1934-го она пришла в Оперный театр, где в то время блистали Зоя Гайдай, Александра Ропская, Зоя Гончарова, Юрий Кипоренко-Даманский. Ее приняли с первого прослушивания. Но слава и признание у киевлян не дались столь легко, как в других местах: в Киеве Петрусенко сперва полюбили и оценили как исполнительницу народных песен, романсов. Высокая, статная, с грустью в огромных глазах, она так трепетно и щемяще исполняла украинские песни, что зал сперва рыдал, а потом взрывался бурей восторга. А Петрусенко, как и раньше не умея отказывать публике, выходила на «бис» и в клубах, и в заводских актовых залах столько раз, сколько просили слушатели. Ее обожал и боготворил Киев. Но в театре успех все еще заставлял себя ждать… Параллельно с концертной работой Петрусенко совершенствовала оперный репертуар, который в то время необходимо было исполнять на украинском языке. Очень помогал ей в этой работе Максим Рыльский, который переводил тексты на украинский язык, пересматривал старые переводы, стремился к достойному звучанию украинского языка.
Залы во время выступлений Оксаны Петрусенко всегда были переполнены, а
музыкальные критики замалчивали ее творчество вплоть до марта 1936 года.
Она была не академической певицей, а самобытной. Поэтому многие специалисты
соглашались, что она непревзойденно поет народные песни, очень удачно
поет в украинском репертуаре, но ее исполнения классического оперного
репертуара не признавали. Зрители ее любили, а вот коллеги — не всегда.
В марте 1935 года в своем дневнике Оксана писала: «Возненавидела группа
нечестивых меня за мою сценическую и вокальную одаренность — моя работа,
мои успехи спать им не дают. Но если прозевали мое восхождение и на производстве,
и в общественной работе, то тяжело назад оттянуть — слишком яркая я единица
в глазах общественности. А копают яму под меня сильно. Меня тяжело шлепнуть…».
«Шлепнуть» в те дни не осмелились, поскольку об Оксане Петрусенко и ее
партнере по сцене Михаиле Донце заботились авторитетные партийные руководители
Панас Любченко и Андрей Хвыля. А врагов было немало. Триумф случился во
время декады украинского искусства и культуры в Москве, в марте 1936 года.
На сборном общем концерте с отдельными номерами и украинскими песнями
доверили петь Петрусенко. В Большом ей устроили такой прием, что руководители
делегации отдали Оксане Петрусенко первый выход и в «Наталке», и в «Запорожце».
Она потеснила великих партнерш. И тут же, после одного из спектаклей…
отказалась подписать контракт с Большим театром. «Мне неловко подводить
киевлян, ведь я только туда пришла», — что-то подобное услышали главреж
и главный дирижер главного театра СССР. Домой она вернулась заслуженной
артисткой Украины, с орденом «Знак Почета». В репертуар включены «Тоска»,
«Севильский цирюльник», «Пиковая дама», «Евгений Онегин» и др. Готовятся
премьеры «Тихий Дон», «Тарас Бульба», «Алеко», и почти во всех спектаклях
поет Оксана Петрусенко.
Конец 30-х — время доносов, подножек и клеветы… Поднялась волна репрессий
на Украине и, в частности, среди высшего руководства. Были арестованы
Андрей Хвыля, который опекал Петрусенко, Иона Якир, застрелился Панас
Любченко. Некому стало защитить Оксану от ее «заклятых друзей». Арестовали
директора оперного театра Я. Яновского. Говорят, что он был замечательным
человеком, все его любили и уважали, но на допросах он оговорил всех.
О Петрусенко Яновский сказал, что она была человеком, близким к Панасу
Любченко, бывала у него дома, тот подвозил ее на автомобиле и обещал поездку
в Италию. В те времена это было смертельное обвинение. Коллеги начали
избегать Оксану. Ей пришлось самой себя гримировать, в антрактах к ней
тоже никто не подходил. В июле 1937 года Оксана узнала, что ее увольняют
из театра. Ее охватило отчаяние, и она попыталась даже наложить на себя
руки. В 1939 году, после воссоединения с Западной Украиной, Оксана Андреевна
приезжает с коллективом театра на гастроли во Львов. 8 июля 1940 года
появился на свет сын Алик (Александр). Цветы, поздравления и передачи
от коллег и знакомых. Утром, на восьмой день после родов, Оксана Андреевна
передала записку приехавшей ее навестить Нине Скоробогатько (концертмейстеру
и подруге) с радостным известием о выписке и с перечнем вещей, которые
нужно будет принести. Но в тот же день ей неожиданно становится плохо.
Врачи ничего не смогли сделать: тромб закупорил коронарные сосуды (официальная
версия), и наступила мгновенная смерть. Стотысячная толпе людей заполнила
всю дорогу до кладбища и шла за усыпанным цветами катафалком Оксаны Петрусенко.
Провожал ее в последний путь весь Киев, вся Украина.
После смерти Оксаны Петрусенко 15-летнего Володю и новорожденного Александра-Алика
забрала к себе Нина Скоробогатько. В начале войны оперный театр эвакуировали
в Уфу, а затем в Иркутск, и она с детьми уехала туда же. Время было тяжелое
— холод, недоедание, отсутствие медикаментов. Володя пережил свою маму
всего на четыре года: он умер от туберкулеза и похоронен в Иркутске. Александр
Петрусенко умер в 1999 году. Похоронили его так, как он и хотел — рядом
с матерью. У него осталось двое детей, Владимир и Оксана, и внуки — Елизавета
и Андрей.
Источник: http://www.vilavi.ru/raz/petrus/petrus.shtml (сокращено)
Ава Гарднер
Однажды мисс Гарднер уговорила друзей устроить ей экскурсию по токийскому борделю. Поднявшись в один из номеров, она попросила приятеля постоять у входа, зазывая клиентов: "Вас ждет сама Ава Гарднер!" В то время проститутки любили называть себя именами кинозвезд. Какой-то пьяный американский морячок, клюнув на громкие призывы, поднялся в номер. Минуту спустя он пулей сбежал вниз, уже трезвый и белый от страха: "Боже милостивый! Там и вправду была Ава Гарднер!!!"

"Вы рисуете?" - спрашивали у ее героини в фильме "Снега
Килиманджаро". "Нет", - качала головой она. "Лепите?"
- "Нет". - "Так чем же вы занимаетесь?" - "Просто
пытаюсь быть счастливой". "Вы девушка Чарльза?" - не унимался
Грегори Пек в другой сцене, и Ава опять отвечала: "Нет, я девушка
сама по себе".
На экране она была такой же, как в жизни, а из жизни никогда не делала
тайны. Скука и страсть, меланхолия и юмор, одиночество и шумные компании,
боязнь рожать детей и почти маниакальное желание иметь крепкую семью -
из этих противоречий, казалось, была соткана вся ее судьба.
- Говорить она не умеет, двигаться не умеет, играть не умеет, - проворчал
Луис Майер, когда ему показали первые кинопробы восемнадцатилетней Авы
Гарднер. - Ничего не умеет... Но, черт возьми, она просто потрясающая!
 |
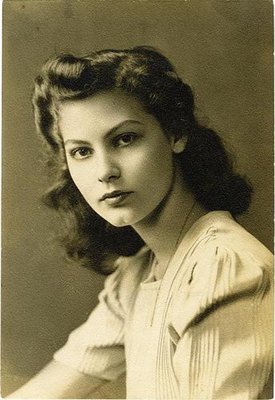 |
...Великая депрессия не пощадила Гарднеров - табачный лист стремительно
дешевел, и отцу Авы пришлось продать ферму. Это была обычная семья полуграмотных
крестьян, живших неподалеку от забытого Богом маленького городка Смитфилда.
Семеро детей. Ава - самая младшая. Ее мать Молли Гарднер - пышная южанка
строгих пуританских взглядов - всю жизнь относилась к мужчинам с крайней
опаской и без устали твердила об этом дочерям. Единственной книжкой в
доме была Библия, единственным развлечением - старенький радиоприемник...
А вокруг - ничего, кроме унылых серо-коричневых табачных плантаций Северной
Каролины.
Когда девушке исполнилось шестнадцать, отец неожиданно умер. После этого
Молли, и без того видевшая в каждом мужчине насильника и подонка, окончательно
помешалась на собственной праведности. Она запрещала Аве покупать новые
платья, пользоваться косметикой и думать о чем-либо, кроме учебы. Ава
молча слушала ее проповеди о грехе и добродетели и никогда не спорила
с матерью. Но в фильмах, на которые юная барышня бегала тайком, торжество
благодетели выглядело несколько иначе - после всех слез и страданий за
честной девушкой неизменно приезжал красавец-принц и увозил любимую в
страну вечного счастья. В этом и была разница: Молли не верила ни в любовь,
ни в сказки об идеальном мужчине, Ава же в них верила. И как только ей
исполнилось восемнадцать, переехала в городок Вильсон - такую же, надо
заметить, дыру, как и Смитфилд, и поступила на курсы секретарш.
Заветов матушки, впрочем, Ава не забывала. Подружки вспоминали, что мисс
Гарднер была девушкой нервной, подозрительной, имела простой нрав, острый
язычок и свято верила в то, что самое главное на пути к счастью - не позволять
всяким нахалам залезать к себе под юбку.
В начале лета 1941 года восемнадцатилетняя Ава отправилась в Нью-Йорк
проведать старшую сестру Баппи, которая была замужем за фотографом Ларри
Тэром. Ларри как раз собирался украсить витрины своей мастерской портретами
томных красоток и от нечего делать решил "щелкнуть" свояченицу.
Результат был ошеломляющим - с фотографий смотрела настоящая красавица:
высокая грудь, тонкая талия, выразительные глаза и алебастровая кожа...
Увидев снимки, Ава пришла в ужас - то, что она всегда старалась скрыть,
сделалось теперь достоянием уличных прохожих! Впрочем, "прохожие"
считали по-другому. Однажды снимки попали на глаза молодому клерку с киностудии
"MGM" - и голливудская карьера будущей суперзвезды началась.
По контракту, подписанному с Луисом Майером, Ава получала работу на семь
лет и $ 50 в неделю.
"0'кей, значит, я поеду в Голливуд. И вот что я там сделаю в первую
очередь: выйду замуж за самую главную кинозвезду и буду счастлива!"
- неожиданно выпалила Ава, узнав, что с ней хотят подписать контракт.
Неизвестно, шутила ли она или же говорила всерьез. Бог знает почему Ава
вообще так сказала - но слова оказались пророческими. К сожалению, только
наполовину.
В то время "самой главной звездой" студии "MGM" был
молодой очаровашка Микки Руни. Столкнувшись с Авой в одном из павильонов,
Микки отреагировал на нее точно так же, как и все остальные мужчины -
то есть просто потерял дар речи. Он стал засыпать девушку записками, подарками,
одолевать телефонными звонками - и все безуспешно. Прыгнуть в постель
к знаменитому герою-любовнику - какая старлетка не мечтала о такой блестящей
перспективе?! Но Ава Гарднер считала иначе - даже поцелуй вне брака казался
ей чем-то вроде проституции. Когда наконец она согласилась поужинать с
Микки (в компании старшей сестры, разумеется), тот был вне себя от счастья.
А вот Луис Майер, напротив, пришел в бешенство: чтобы его главная суперзвезда
женился на старлетке?! Да ни в жизнь! Микки, однако, продолжал упорствовать,
тратил безумные деньги на рестораны, дарил букеты из ста роз и делал Аве
предложения по двадцать раз на дню, но каждый раз слышал в ответ неизменное:
"Руни, ты сошел с ума". Микки буквально на коленях вымолил у
Майера разрешение на брак и даже представил Аву своей матушке. Услышав
слово "невеста", миссис Руни оторвала глаза от газеты и с любопытством
посмотрела на девушку: "Что, у него никак не получается залезть к
вам в трусы?"

...В первую брачную ночь, когда супруг торжественно вошел в спальню, молодая
лежала там как мумия: белая от страха, с головы до ног укутанная в темную
ночную рубашку. Микки Руни никак не мог поверить в ошеломляющую правду:
его жена действительно была девственницей.
Ава Гарднер вышла замуж за "главную звезду Голливуда", но вот
со счастьем как-то не клеилось. Микки был постоянно занят работой, а в
свободное время обществу молодой жены предпочитал веселые вечеринки. Или
скачки. Или покер с приятелями... Ава проводила дома одинокие вечера и
засыпала, оставив на столе приготовленный, но никому не нужный ужин. Несколько
месяцев бесконечных поисков ответа на один и тот же вопрос - явится муж
сегодня домой или нет? - привели к нервному срыву. После этого Гарднер
поняла, что с нее хватит.
Микки всячески противился разводу, но Ава уже все решила. Не помогали
ни мольбы, ни подарки, ни угрозы. А когда Микки кротко и как бы смущаясь
высказал предположение, что их брак может спасти ребенок, реакция жены
была явно не той, на которую он рассчитывал: "Только попробуй. Если
забеременею, я тебя убью!"
21 мая 1943 года Ава добилась развода. "Я была настолько глупа, что
полагала, будто брак может изменить человека. Мы подходили друг другу
только в постели - и ни в чем другом", - говорила Ава много лет спустя.
Горечь первой неудачи быстро забылась, и Ава предприняла еще одну попытку
стать счастливой: в ее жизни появился новый мужчина - авиапромышленник
и мультимиллионер Говард Хьюз. Этот высокий нескладный человек, содержавший
целый штат любовниц, сделал все, чтобы произвести на Аву должное впечатление,
- экс-жена главного киногероя США стала бы прекрасным экспонатом в коллекции
знаменитого плейбоя. Да и сама Гарднер не имела ничего против: "Он
хороший и понимающий друг. И потом, вы только представьте: он нажимает
кнопку - и к моим услугам самолет, on! - и апартаменты в отеле. Если мне
хочется побыть одной, он мгновенно исчезает. Говард - счастливый билет
для такой девушки, как я, ленивой южанки". И правда, роскошные подарки,
полеты на уик-энд в Мексику - все это не могло не нравиться. Однажды Аве
захотелось апельсинового мороженого - в военное время этого не мог позволить
себе даже президент страны - через час у ее дверей остановился лимузин,
и шофер в ливрее торжественно внес в дом целую бочку лакомства.
Однако скоро у этой "сладкой жизни" обнаружилась и оборотная
сторона. Хьюз не привык, чтобы ему перечили, и не прощал, если им пренебрегали.
Соблюдать эти правила Аве было нелегко. Во-первых, она терпеть не могла,
когда ею распоряжаются, и никакие бочки мороженого, никакие бриллианты
не могли умерить ее стремления к независимости. Во-вторых, она попросту
не любила Хьюза, а потому необходимость спать с ним казалась Аве делом
малоприятным, если не сказать - противным. Хьюза же подобное отношение
приводило в ярость. Он приставил к ней охрану, но Ава научилась легко
преодолевать эту пустяковую преграду - до Говарда все чаще доходили слухи
о ее увлечениях на стороне. Однажды, появившись в разгар вечеринки, которую
Ава устроила в его же особняке, Хьюз недовольно пробурчал ей что-то -
и тут же получил по голове тяжелой восточной вазой. На следующий день
Аву выставили вон, потом молили о прощении... Отношения вроде бы наладились,
но она понимала: все это совсем не то.
Из домоседки мисс Гарднер превратилась в завсегдатая ночных клубов и баров.
"Никакой рутины - только шутки, юмор и веселый смех" - стало
ее девизом. Такая жизнь, помимо всего прочего, помогала забывать о грустном:
Ава по-прежнему оставалась девушкой в эпизодах, безымянной героиней фильмов
класса "Б". Но вскоре все изменилось...
На студии никак не могли найти партнершу Джорджу Рафту и Виктору МакЛагену
для фильма "Остановка по свистку". После очередного просмотра
взгляд режиссера остановился на Аве. Она болтается тут целыми днями, ничего
не делает и к тому же чертовски мила. Может, попытаемся?" Это была
ее первая роль, удостоенная рецензии, причем весьма благосклонной. Ава
наконец-то убедилась в том, что она все-таки актриса, а не вешалка для
нижнего белья в эпизодах - и немного успокоилась.
Тогда же во время съемок она познакомилась с Арти Шоу - всемирно известным
кларнетистом, руководителем джаз-оркестра, экстравагантным чудаком, за
которым тянулась бесконечная череда неудачных браков. Гарднер была очарована
- такого умного мужчину она не встречала ни разу в жизни. Они так быстро
оказались в постели, что даже не заметили, что абсолютно друг другу не
подходят.
Арти считал себя интеллектуалом, в то время как Ава смогла дочитать до
конца один-единственный роман "Унесенные ветром" Маргарет Митчелл.
Он давал ей серьезные книги, в которых она ни черта не понимала, записал
на курсы английской литературы и на сеансы психоанализа. Они даже поженились
("Никакого сожительства! - отрезал Луис Майер. - Либо вы женитесь,
либо разбегаетесь!"), но и брак не решил проблему, напротив, превратился
в кошмар.

Муж упрекал Аву в идиотизме, она же изматывала его своим простодушием.
Снобские беседы друзей Арти наводили на Аву тоску - ей бы посудачить о
том, кто с кем спит, или обсудить свежие голливудские скандалы... Глянцевые
журналы прельщали ее намного больше, чем Хемингуэй с Джойсом, вместе взятые.
Она разгуливала перед гостями по дому босиком и не видела в этом ничего
зазорного. "Как можно быть такой деревенщиной! - шипел Арти. - Ты
думаешь, что все еще на табачном поле?"
Арти обожал тело жены и ненавидел ее мозги. Ава скучала и все чаще тянулась
к стаканчику виски... Уже к лету 1946 года молодожены перестали спать
в одной постели. А 16 августа, спустя 10 месяцев после свадьбы, Ава подала
на развод. Мотив был тот же, что и в случае с Микки, - "жестокое
отношение мужа". "Жить с Арти - такая тоска, - весело говорила
Ава Лане Тернер. - Все равно что учиться в колледже. Поэтому лучше уйти
самой, чем дожидаться, пока тебя отчислят".
Одна из ее подруг заметила: расставшись с Арти, Ава сильно изменилась:
"Она больше не доверяла мужчинам и, казалось, стремилась отплатить
им той же монетой: переспать и побыстрее сбежать. Ее романы все больше
походили на короткие интрижки. Это было совершенно не в стиле Авы, приехавшей
когда-то в Голливуд с одной мечтой - познакомиться с хорошим человеком
и зажить с ним счастливо".
В 1947 году Ава снялась в фильме "Убийцы" по рассказу Хемингуэя,
и журнал "Лук" назвал ее "самой многообещающей дебютанткой
года". Следующим успешным фильмом были "Барышники", где
ее партнером стал Кларк Гейбл. Она по-прежнему изредка виделась с Хьюзом,
однако вскоре совсем его бросила - в Нью-Йорке ей повстречался молодой
актер Говард Дафф. Он просто позвонил Аве в номер и сказал, что хочет
с ней встретиться. Голос незнакомца звучал легко и весело - и она согласилась.
К отелю подъехала разбитая колымага, из которой вылез молодой орел в джинсах
и потертой куртке. Ава пришла в восторг - после киногероя-любовника, миллионера-собственника
и зануды-интеллектуала ей был нужен именно такой парень - простой и веселый.
"Она могла быть очаровательной, а минуту спустя - невыносимой. Я
был совершенно опьянен ею после первой же ночи", - вспоминал Дафф.
Их бурный роман длился два года, они мирились и ссорились каждую неделю.
Ава отказывалась выходить замуж за Говарда, понимая, что между ними не
любовь - только дружба и секс. А ей все еще казалось, что для счастья
этого слишком мало...
Романтическое увлечение закончилось весьма печально. Ава забеременела,
решила сделать аборт и обратилась к врачу из Беверли-Хиллз, как выяснилось,
не самому лучшему. Мало того, что он оперировал без анестезии, - Ава получила
серьезные осложнения, делавшие почти невозможным рождение детей. Роману
с Даффом пришел конец. Ава погрузилась в депрессию.
Но от ужасного до счастливого один шаг. И Ава Гарднер сделала этот шаг
в том же 1950 году, когда пришла на премьеру фильма "Джентльмены
предпочитают блондинок" и встретила там Фрэнка Синатру, брюнета-итальянца
с гибким сильным телом и неприкрытой сексуальностью во всем - голосе,
взгляде, движениях. "Как только мы оказались вместе, я просто голову
потерял, - восхищенно вспоминал Синатра. - Как будто она мне чего-то в
стакан подсыпала..." В тот вечер они не стали "любовниками с
первого взгляда" - Ава сказала, что это было бы "дешево и неправильно".
Но долго сопротивляться нахлынувшему чувству она не могла. Мечта наконец
сбылась - Ава встретила мужчину жизни.
"Не будь дурой, он разобьет тебе сердце", - хором увещевали
ее те, кто неплохо знал Синатру. Фрэнк считался первостатейным голливудским
сердцеедом, и никто не верил, что он добровольно откажется от этого "титула".
"В жизни я хочу испытать все, пока еще молод и крепок, - твердил
Фрэнк друзьям. - Чтобы потом не пришлось жалеть, что того не успел, этого
не попробовал..." "Этот сукин сын просто не умеет любить",
- горько вздыхала Лана Тернер. Но Ава и слушать ничего не хотела. Через
неделю Синатра уже возил ее в кабриолете по окрестностям Палм-Спрингс,
распевая песни и паля из револьвера. Они были очень похожи - веселые,
открытые, эмоциональные, оба вели ночную жизнь, любили простую итальянскую
еду, виски, боксерские матчи. Но за внешним благополучием таились сомнения,
боли и страхи - у каждого свои.
Их внезапно вспыхнувший роман сразу же обернулся скандалом. У Фрэнка имелись
жена и трое детей. Газеты называли Аву распутницей и разрушительницей
семей. Вездесущие репортеры следовали за влюбленными по пятам - Синатра
грозился надавать писакам по зубам, если их не оставят в покое. На концертах
публика весело свистела всякий раз, как только в зале появлялась Ава.
От этого Фрэнк, карьерные дела которого были в то время весьма плачевны,
нервничал еще больше.
После окончания съемок картины "Одинокая звезда" Фрэнк и Ава
отправились на отдых в Мексику. Когда влюбленные вернулись в Лос-Анджелес,
их опять встретили репортеры. На сей раз Фрэнк не выдержал - ударом в
челюсть он свалил одного из газетчиков и пригрозил: "В следующий
раз я убью тебя, сукин ты сын". Скандал принял поистине угрожающие
размеры. Луис Майер пришел в бешенство. 19 августа Фрэнку пришлось публично
объявить о своем намерении подать документы на развод и жениться на Аве.
Они не могли дождаться, пока уладятся все формальности. Ава даже на месяц
легла в больницу - нервотрепка не лучшим образом сказалась на здоровье.
Наконец 7 ноября в Филадельфии Ава Гарднер и Фрэнк Синатра стали мужем
и женой. Фрэнк подарил ей норковый палантин с сапфировыми застежками,
она ему - золотой медальон со своей фотографией. Чтобы избежать очередных
стычек с прессой, супруги покинули город столь стремительно, что Ава даже
забыла свой багаж. Дожидаясь его во Флориде, они гуляли по пустынным,
продуваемым холодным ветром пляжам Майами - на нескольких сохранившихся
снимках видно, что это самая счастливая пара в мире.
В 1952 году, после выхода картины "Снега Килиманджаро" отпечатки
ладоней Авы Гарднер появились в Голливуде на знаменитой мостовой перед
Китайским театром. Годовщину свадьбы праздновали в Кении. "Я уже
дважды была замужем, - говорила репортерам Ава, - но никогда это не продолжалось
целый год".
Карьера Фрэнка пошла в гору: он получил роль в фильме "Отсюда в вечность",
его концерты собирали полные залы. Теперь супруги почти не виделись -
плотные графики съемок и гастролей разлучали их на месяцы, а краткие встречи
все чаще заканчивались ссорами: похоже, в качестве "однолюба"
Фрэнк сумел продержаться лишь год, и газетчики вновь оживились, сообщая
об очередных похождениях ретивого итальянца, о шумных вечеринках в Лас-Вегасе,
о бесконечных длинноногих танцовщицах из варьете, к которым Синатра питал
особую слабость. Все это стало для Авы настоящим ударом. Любовь, ревность,
ярость, уязвленное самолюбие - эмоции переполняли ее, казалось, вот-вот
- и они разорвут душу в клочья.
Фрэнк клялся, что все это ложь, Ава гневно требовала: "Выбирай -
либо я, либо все остальные!", но пока еще ссоры заканчивались примирениями
и страстными объятиями. В результате одного такого "примирения"
она забеременела, а потом у нее случился выкидыш. Ава снова погрузилась
в депрессию - ей стало казаться, что у нее никогда не будет нормальной
жизни, той, о которой она так мечтала. "Зачем мне слава и деньги,
если я несчастлива?" - вопросы повисали в воздухе, и рядом не оказалось
никого, кто мог бы на них ответить. Она искала объяснение собственным
неудачам - и запутывалась еще больше. А вскоре и Фрэнк признался в интервью,
что их браку приходит конец. Вся Америка уже знала, что у него начался
роман с Мэрилин Монро. Ава не смогла этого вынести: она решила навсегда
покинуть Америку, где все теперь казалось таким унылым и безнадежным...
В декабре, за несколько дней до своего тридцатитрехлетия, Ава Гарднер
переехала в Испанию, купив дом в местечке Моралеха - "испанском Беверли-Хиллз",
неподалеку от Мадрида. Она так надеялась, что яркая жизнерадостная Испания
поможет ей наконец избавиться от чувства щемящей тоски и одиночества.
Ава ездила на корриду в Малагу и Севилью, в любимую Хемингуэем Памплону,
в Сан-Себастьян, с головой окуналась в ночную жизнь клубов и таверн Мадрида
и часто гостила у цыган. Ее "мерседес", несущийся с огромной
скоростью, часто видели на шоссе в окрестностях Мадрида, два раза она
попадала в аварии (к счастью, без особых последствий).
Однажды в Мадрид на съемки приехал Синатра, формально все еще остававшийся
ее мужем. "Да, похоже, подонки - мой удел. Но это не остановит меня
в поиске идеального мужчины", - отвечала Ава на вопросы о своих отношениях
с Фрэнком.
Три года Фрэнк и Ава не решались завершить процедуру развода - между ними,
казалось, оставалось еще что-то неуловимое, мешающее поставить финальную
точку. Синатра словно с цепи сорвался: Мэрилин Монро, Грейс Келли, Джуди
Гарленд, Ким Новак, многочисленные звезды-однодневки с внешностью "а-ля
Ава Гарднер" - он стремительно соблазнял, столь же стремительно бросал
и каждый раз старался сделать так, чтобы известия о новом романе непременно
дошли до Авы. А она язвительно комментировала его похождения: "Фрэнку
просто недоступен оригинал, поэтому он довольствуется бледными копиями".
Ава все чаще запиралась за высокими воротами своего дома, общаясь с немногими
друзьями и читая сценарии. Один из них, посвященный судьбе Кончиты Кинтрон,
известной женщины-тореро, ее действительно заинтересовал и подтолкнул
к безрассудному поступку, которых в жизни Авы Гарднер становилось все
больше. В октябре 1957 года она приехала на ранчо тореро Ангело Перальты
и заявила, что сама хочет сразиться с быком. Перальте эта авантюра абсолютно
не понравилась, но в конце концов он уступил уговорам Авы: дал ей лучшую
лошадь и вывел быка. Но стоило уколоть его пикой, как лошадь встала на
дыбы и сбросила наездницу. Ава вскочила, хотела убежать, но бык был слишком
близко. Она выставила вперед ладонь, пытаясь хоть как-то защититься от
удара, но это не спасло - бык пырнул ее в щеку.
Ава была в шоке не столько от боли, сколько от сознания того, что ее единственному
несомненному достоянию - красоте - пришел конец. Уже на следующий день
она примчалась в Лондон, к одному из лучших пластических хирургов. Врач
сказал, что не в силах ничего сделать - надо просто подождать, пока пройдет
ушиб. У Авы не прекращалась истерика, она отменила все съемки и выходы
в свет. Щека быстро зажила, и только при самом пристальном взгляде можно
было заметить небольшую припухлость. Но убедить в этом саму актрису не
мог никто.
Снявшись в нескольких неудачных картинах, Ава Гарднер заперлась на два
года в своем доме, целыми днями слушала пластинки и очень редко выезжала
в город. В конце концов затворничество ей наскучило, она продала особняк
и купила квартиру в Мадриде, прямо над апартаментами изгнанного аргентинского
диктатора Перона. Постоянные сборища с гитарами и танцами фламенко так
бесили старого опального генерала, что однажды он вызвал полицию. О вечеринках
в доме Гарднер, куда стекались молодые актеры, тореро, музыканты, студенты,
судачил весь Мадрид. Ходили слухи, будто из-за нее молодой танцор фламенко
выбросился из окна, что во время ссоры с любовником Ава разбила гаечным
ключом его спортивную машину... У всех голливудских друзей, с которыми
ей доводилось встречаться, Ава непременно, как бы мимоходом и равнодушно,
справлялась о Синатре. "Никогда не смогу понять женщин! - качал головой
Хэмфри Богарт. - Половина девчонок мира готовы броситься к ногам Фрэнка,
а ты флиртуешь с ребятами в каких-то клоунских плащах и балетных тапочках!"
Ава лишь грустно улыбалась: "Наверное, если бы у меня получалось
делиться Фрэнком с другими женщинами, мы действительно были бы счастливее".
Ее поведение становилось все более странным - Ава созывала друзей, а сама
исчезала из дома; журналисты приходили за интервью, а мисс Гарднер лишь
пожимала плечами: "Зачем? Разве я кому-нибудь интересна? Давайте
лучше выпьем!" Казалось, ничто не могло вывести ее из состояния вечной
скуки. "Быть кинозвездой, поверьте, так тоскливо. Я делаю это ради
денег, вот и все, - признавалась она газетчикам. - Вы думаете, я понимаю
что-нибудь в кино?"
Наряды от Валентино и Диора уступили место непритязательным свитерам,
вязаным жакетам и английским юбкам. Она проводила почти все время дома,
продолжала содержать свою сестру Баппи и никогда не отказывала в помощи
друзьям.
В середине 60-х Ава устала от Мадрида. Фламенко, тапас и смуглые красавцы-тореро
уже не вызывали в ней ничего, кроме раздражения, и она решила переехать
в Лондон: "Это единственное место на земле, где можно гулять незамеченной".
"Но ведь в Лондоне нет солнца и все время идет дождь!" - удивлялись
репортеры. "А на что мне солнце? Я его и так никогда не вижу. Днем
я сплю. Ночь - вот моя подружка. Ребенком я боялась темноты и плакала.
Теперь все по-другому. Мне нравится лондонский дождь. Такой чудный накрапывающий
дождь... он меня успокаивает".
Уже туда, в Лондон, Аве позвонил Синатра: в тот день должна была состояться
его свадьба с актрисой Мией Фэрроу. Голос Фрэнка был тихим и неуверенным
- казалось, он звонит, чтобы спросить у нее совета. "Какой-то ты
нерадостный, - сказала Ава, - может быть, стоит повременить с женитьбой?"
"Слишком поздно, детка, - вздохнул Синатра. - Я должен идти. Но знай,
что бы ни было у меня с этой девчонкой... я по-прежнему люблю тебя..."
Ава повесила трубку и разрыдалась. А на следующее утро опять была обычной
Авой Гарднер - спокойной, гордой, убийственно ироничной. Увидев фотографии
новобрачных, на которых коротко стриженная Миа напоминала тринадцатилетнего
подростка, Гарднер пренебрежительно пожала плечами: "Я всегда знала,
что он закончит в постели с мальчиком". К самой Мии тем не менее
Ава относилась с какой-то странной нежностью. И однажды сказала ей: "Ты
- ребенок, которого у нас с Фрэнки никогда не было. И уже никогда не будет".
Она все больше и больше удалялась от шумного мира, общалась лишь с узким
кругом самых преданных друзей и изредка снималась в кино и телепостановках.
Как и Грета Гарбо, Ава не хотела, чтобы люди видели, как она стареет,
как день ото дня увядает ее красота. За ставнями викторианского дома в
Кенсингтоне Ава наконец-то обрела покой и уединение - то, к чему уже так
давно стремилась.
Фрэнк Синатра часто приезжал к ней в Лондон и остался, пожалуй, единственным
человеком, кого она хотела видеть рядом. В последние годы жизни, когда
Ава была уже тяжело больна, Синатра истратил на ее лечение более миллиона
долларов. Они очень трогательно смотрелись вместе - седой голливудский
казанова и постаревшая кинобогиня часами сидели у камина и, глядя на огонь,
думали о чем-то своем.
Ава Гарднер тихо скончалась в Лондоне в 1990 году. Когда однажды ей предложили
сыграть роль шикарной, богатой, но одинокой женщины, она возмутилась:
"Вы что, издеваетесь? Да я играю ее всю жизнь!" Наверное, она
и вправду была слишком красива для нашего мира. И быть может, немного
наивна - ведь очень непросто стать счастливым, живя по принципу "Все
или ничего". Под конец Ава смирилась с этим и оставила мир в покое.
Разве не это называется хэппи-эндом?..
Автор: Тони Рэндалл
Сайт: People's History
Дата публикации на сайте: 12.12.2000
Ирина Дворовенко
Увидеть танец украинско-американских звезд балета Ирины Дворовенко и Максима Белоцерковского - большая редкость: они живут в девяти часах полета от Москвы, но слухами об успешной нью-йоркской карьере супружеской пары из Киева давно полнилась земля. Премьеры Американского театра балета (АВТ) впервые за десять лет приезжали в Россию на два дня, чтобы принять участие в гала-концерте памяти Рудольфа Нуреева. (Тут и обнаружилось, что мы потеряли, а Штаты приобрели двух превосходных исполнителей.) Балетный обозреватель "НГ" встретился с новыми гражданами США и полюбопытствовал: легко ли танцовщику из СНГ выстроить качественную профессиональную судьбу за океаном? И хотя некоторые детали воспоследовавшего рассказа и могут навести многих российских граждан на мысль о поговорке "У кого щи пустые, у кого жемчуг мелкий", мораль их истории подходит для всех: спасение карьеры - дело рук самого карьериста.

Максим Белоцерковский: Как мы сделали карьеру? Об этом
можно говорить часами, если вспомнить все, через что Ире и мне пришлось
пройти. Десять лет жизни в Америке ушло на то, чтобы достичь уровня, на
котором мы находимся, - ведущих солистов (principal dancers) ведущей труппы.
Это совсем не так легко, как складывалось у Рудольфа Нуреева, Михаила
Барышникова или Натальи Макаровой, когда они просто сбежали из СССР и
сам факт бегства из-под железного занавеса автоматически обеспечил интерес
к их таланту. А сейчас, когда кто-то приезжает, в Америке говорят: "О,
еще один из России". Ты начинаешь на общих основаниях, с нуля. Хотя
я убежден, что русская школа балета - одна из лучших в мире, в Штатах
к ней существует немножко настороженное отношение: "Вы, может, и
хорошие, но у нас есть свои традиции, и мы на том стоим".
Ирина Дворовенко: Я думаю, что, если б мы пробивались поодиночке, нам
было бы труднее. А так мы - готовый дуэт классических исполнителей, это
удобно для работодателя. Плюс характер и целеустремленность. Но трудность
в том, что все способные американские танцовщики, которые по идее должны
были блистать и быть номером "один", отодвинулись на вторые
места, когда Рудольф, Миша и Наташа начали танцевать на Западе. Это до
сих пор стоит у американского балета поперек горла.
 |
 |
М.Б.: Я попал в АВТ с приключениями.
Приехал в Нью-Йорк по гостевой визе в 1994 году, летом. Никогда не видел
эту лучшую в США труппу, никого в ней не знал, только слышал, что репетитором
там работает Ирина Александровна Колпакова, бывшая прима-балерина Кировского
(Мариинского) театра. Позвонил ей, представился, сказал, что хочу посмотреться
в компании. В ответ слышу: "Сейчас лето, сезон закрыт, никого из
руководства нет, босс за границей, не знаю, чем вам помочь. Приезжайте
в другой раз". На что я ответил: "Ирина Александровна, вы забыли,
что русские "в другой раз" в Америку не приезжают, им бы один
разочек в страну попасть".
Ну нет так нет. Мне оставалось три дня до отъезда. Чтобы не терять форму,
я стал заниматься в одной из частных балетных студий. В один из дней открывается
дверь, и заходит директор АВТ Кевин Маккензи - тот самый "босс за
границей". В этой студии занималась девочка, которую он подумывал
взять в компанию. После класса Маккензи сам подошел ко мне и спросил,
кто я, откуда. "Мистер Белоцерковский, вас устроит, если я сейчас
же предложу вам контракт?" С этого дня началась моя работа в Америке.
Первые два месяца я, премьер Киевской оперы, заслуженный артист Украины,
числился в кордебалете, потом меня перевели в солисты.
И.Д.: А я в то время получала звания и регалии: золотую
медаль и приз Анны Павловой на Московском конкурсе имени Дягилева, были
победы на конкурсах в Осаке, Киеве, в американском городе Джексоне, а
до этого, в 14 лет, я выиграла Всесоюзный конкурс артистов балета. Мы
с Максимом в Киеве перетанцевали весь классический репертуар, и, когда
муж подписал контракт в США, я приехала к нему и пришла к Маккензи. Тот
меня взял, но тоже на самый низкий, кордебалетный контракт: мол, в труппе
нет денег. Мне пришлось ждать полтора года, прежде чем я стала солисткой,
но с самого начала я занималась в классе ведущих танцовщиков и тем наводила
на них страх: меня воспринимали как потенциальную конкурентку. Позже Маккензи
откровенно мне сказал: "Ирина, я боюсь давать вам контракт балерины,
пойдут разговоры, что слишком много русских в труппе переходят дорожку
американцам". Числясь в кордебалете, я с самого начала танцевала
ведущие партии - на третий день моего пребывания в АВТ Маккензи звонит
в панике: у нас срываются гастроли в Бразилии, заболела балерина, некому
танцевать Гамзатти в "Баядерке". Пришлось срочно вводиться в
спектакль. Потом было "Лебединое озеро" в Метрополитен-опере
с Владимиром Малаховым, после чего газеты обо мне написали: "Новая
звезда родилась". Тут уж Кевину пришлось дать мне контракт солистки,
но не ведущей балерины - "принсипал дансер", а просто солистки
(в АВТ существует три ступени - кордебалет, солист и ведущий солист).
Мы с Максимом танцевали главные и вторые партии в семи балетах, критики
писали о нас восторженно, все билеты в трехтысячный зал Метрополитен-оперы
на наши балеты раскупались, но дело не сдвигалось с мертвой точки.

М.Б.: В 1999 году, когда, кажется, весь Нью-Йорк уже
знал о нас и сочувствовал, Маккензи пригласил нас в кабинет и сказал:
в этом году опять не получится повысить. Ира в слезах вылетела из комнаты.
На следующий день у нас был "Дон Кихот". Мы от злости станцевали
балет особенно хорошо, а когда вышли на поклоны, зрители, наши поклонники,
встали и скандировали: "Контракты! Контракты!"
И.Д.: Разница в оплате между солистом и ведущим солистом
весьма существенная. Солист начинает с полутора тысяч долларов в неделю
("грязными", на налоги вычитают 30%), "вилка" оплаты
ведущих танцовщиков начинается с двух тысяч. (Правда, в Америке каждый
артист имеет право на ежегодное повышение зарплаты на 6% - из-за инфляции.)
Когда мы в 2000 году наконец получили контракт ведущих солистов, все понимали,
что нас безумно долго передержали "внизу". И сразу дали высшую
ставку "принсипал дансер" - четыре тысячи в неделю.
М.Б.: Конкретную сумму зарплаты приходится "выбивать"
лично. Русским всегда трудно говорить о деньгах, так мы были воспитаны.
Но в Америке быстро переучиваешься. В конце сезона идешь к финансовому
директору, и начинается интересный разговор. Директор: на следующий год
я могу дать вам столько-то. Вы красноречиво молчите, пьете воду, кашляете.
Директор: хорошо, даю на 15% больше. Вы крутите головой, оглядываетесь
по сторонам, чешете в затылке. Директор: ну ладно, даю больше на 25%.
Вы говорите: согласен. Тут важно вовремя остановиться, чтобы учесть взаимные
интересы. В АВТ были удивлены, когда я попросил контракт на три года:
там принято подписывать годовые договоры, но русскому человеку, особенно
за границей, необходима уверенность в завтрашнем дне, а мне лично в 30
лет хочется уже немножко покоя на душе.
И.Д.: В контракте расписаны все детали нашей работы вплоть
до количества бесплатных билетов, положенных мне в дни спектаклей. Оговаривается
число рабочих недель в сезон. Мы получаем зарплату за 36 недель в году,
но вразбивку: работаешь - неделя отдыха, работаешь - опять неделя отдыха,
что в принципе хорошо, дает возможность прийти в себя. Отдых не оплачивается,
это как отпуск за свой счет, хотя по американским законам, если ты работаешь
больше чем 18 месяцев в одной компании, ты имеешь право на государственное
пособие в период безработицы. В недели отдыха мы получаем такое пособие,
это примерно четверть зарплаты.
В Америке балетные труппы не поддерживаются государством, они существуют
за счет частных пожертвований и собственных доходов. Американский балетный
театр только недавно погасил восьмимиллионный дефицит бюджета, который
остался после руководства Миши Барышникова - он очень щедро платил артистам,
но ситуация для труппы сложилась финансово провальная. Ведь у АВТ нет
своего здания, во время сезона в Нью-Йорке мы арендуем зал в Метрополитен-опере,
а это в неделю стоит полмиллиона. На зарплату штату труппы уходит до четверти
миллиона в неделю. Создание новой продукции тоже обходится недешево: в
недавнем "Лебедином озере" два миллиона ушло только на декорации
и костюмы.

М.Б.: Сейчас Кевин Маккензи бьется, чтобы объединить
в Метрополитен оперный и балетный сезоны, как во всех музыкальных театрах
мира, но пока ничего не получается. В Америке балет не стоит на той же
ступени общественного признания, как опера. На оперу и билеты дороже,
и солисты получают больше. И так везде в мире. Только в Японии очень любят
балет и щедро платят.
И.Д.: Недавно в Нью-Йорке пела Мирелла Френи - у нее
гонорар 15 тысяч за спектакль. В балетном мире, за редкими исключениями,
больше 5 тысяч за вечер никто не получает.
М.Б.: Мы пытаемся поломать такое отношение, и в определенной
степени это удается. Приглашаем на спектакли известных людей, их присутствие
- это антураж, бум, пресса, это поднимает статус балета. К нам на спектакли
приходят бизнесмен, миллионер Дональд Трамп, кинозвезды Пирс Броснан и
Алек Болдуин, модельер Келвин Кляйн, Барбара Уолтерс - очень известный
журналист, интервьюирующий президентов и королей. Так что можно считать,
мы прорвались. Критика нас ценит и часто пишет: "Дворовенко и Белоцерковский
- самая любимая балетная пара американцев". Они говорят, что на спектаклях
между нами есть "химия" - американцы так называют эмоциональный
контакт в дуэте. Правда, Анна Киссельгоф из "Нью-Йорк таймс"
как-то раз написала, что Ирина двигается как советская балерина. Мы так
и не поняли, хорошо это или плохо.
Дай бог мне здоровья танцевать еще лет пять-шесть, а потом... В Америке
нет возраста балетной пенсии. Танцуй столько, сколько можешь, если ты
продаешь зал и не стыдно смотреть на себя в зеркало. Люди говорят, что
у меня есть талант руководить. Наверно, это потому, что я как бы из двух
миров, смотрю на американский балет изнутри и снаружи, вижу все непредвзято.
Есть еще частные балетные школы, есть бродвейские шоу, кино, в конце концов.
У меня уже было предложение из Голливуда, от которого я отказался, - сыграть
русского алкоголика.
И.Д.: Пока мы наслаждаемся танцем. В Америке постановки
недолго стоят в афише, спектакль прокатывается два-три года и заменяется
новым. Обширность репертуара невероятная! Мы танцуем каждую неделю по
пять балетов, и заменить нас некому.
Источник: http://www.ng.ru/saturday/2003-10-31/15_balley.html
Сара Шахи

Полное имя: Сара Шахи (настоящее имя Ааху Яхансузшахи-
Aahoo Jahansouzshahi)
Дата рождения: 10 января 1980 г.
Место рождения: Euless, Texas, USA
Место жительства: Лос-Анжелес, Калифорния, США
В сериале "the l word" Сара Шахи играет Кармен де ла Пика Моралис-диджея,
которой удалось покорить сердце сторонящейся обязательств Шейн.
 |
 |
Сара Шахи родилась 10.01.1980 г. в консервативном маленьком городишке Юлесс в Техасе. Её отец - иранец (азербайджанец), был очень строг, что выражалось не только в том, что он не пускал её на свидания, но и в том, что он запрещал ей изучать язык её матери (испанский). Из-за того, что он был мусульманин, ей не разрешалось посещать церковь, хотя она и хотела походить на остальных девчонок из школы. Мать Шахи, предпринимательница, всегда хотела, чтобы дочь прославилась. Сара вняла материнскому совету и сделала своим хобби конкурсы красоты с 10 лет принимая в них участие.
 |
 |
Родители развелись, когда Саре было 13. В 17 она выиграла корону Мисс Fort Worth USA. После школы Шахи была зачислена в Southern Methodist University (Даллас, США). Тогда же она американизировала своё имя. Кроме непосредственно учебных дисциплин она осваивала оперное пение и карате (имеет коричневый пояс). В 1999 она вошла в состав элитной группы поддержки "Даллаские ковбои" (Dallas Cowboy Cheerleaders).
 |
 |
Во время работы над фильмом "Доктор Т. и его женщины"
её заметил режиссер Робертом Олтмен, который сподвиг её переехать в Голливуд.
Не особо думая о возможном провале там, она собрала чемоданы и переехала
в Лос-Анжелес.
Роли, которые она получала поначалу, были малозначительными и не особо
запоминающимися. Более-менее заметную роль она получила в сериале Alias
(1 сезон), где играла Дженни. Потом она появлялась в других хитовых сериалах,
типа Frasier, Dawson’s Creek и даже ER. На большом экране она засветилась
в фильме Old School, где играла с Люком Уилсоном, Винсом Воном и Уиллом
Фаррелом. Готовясь к этой роли Шахи даже брала живые уроки орального секса.
В середине 2004 г. Сара присоединилась к команде the l word, где отработала
2 и 3 сезоны шоу, играя Кармен де ла Пика Моралес.
Источник: http://www.thelword.ru/ac_sara.html
Анна Марли

Анна Юрьевна Смирнова-Марли (девичья фамилия - Бетулинская) родилась 30 октября (17 октября по старому стилю) в 1917 году в Петрограде, охваченном бурей революции. После расстрела отца в 1918 году, мать с двумя дочерьми и верной няней уезжает из России в эмиграцию. Детство и юность Анна провела во Франции, долгое время жила в Аргентине, где вышла замуж за русского инженера-металлурга Юрия Александровича Смирнова, а затем они переехали в США. Всю свою жизнь Анна Юрьевна прожила вдали от родины, но сохранила свой родной язык, православную веру, любовь к России. Она не утратила почву под ногами, не дала захлестнуть себя убийственной ностальгии, а, выражаясь мудрыми словами Семена Липкина, «обратила свою беду в счастье», в жизнеутверждающее творчество.
 |
 |
Балерина, писательница, певица, композитор, Анна Марли создала свыше 300 песен на пяти языках, стала автором книг «Мессидор», «Певец свободы», «Дорога домой», сборника басен. Анна Марли - творческий псевдоним Анны Юрьевны Бетулинской, выбранный ею из телефонной книги в начале творческого пути. Среди исполнителей её песен были такие прославленные певцы, как Эдит Пиаф, Ив Монтан, Джоан Баэз, Леонард Коэн и другие.

В годы второй мировой войны Анна Марли прославилась как Трубадур Сопротивления и создала большой цикл антивоенных песен. Одна из них – «Песнь партизан» ( на слова Ж.Кесселя и М.Дрюона) стала всемирно известным гимном антифашистских сил, второй после «Марсельезы» патриотической песней Франции. Анна Марли - кавалер орденов Заслуги и двух Почетного Легиона, высшей награды Франции.

В последние годы стали крепнуть связи Анны Юрьевны Смирновой-Марли с Россией и россиянами. Зародилась большая дружба с творческим Союзом «Москвички», с радиостанцией «Голос России», с певицами, музыкантами, переводчиками, писателями, художниками. В результате этих творческих контактов в московском издательстве «Русский путь» вышел сборник «Дорога домой», в котором впервые на русском языке были опубликованы поэмы, стихи и басни Анны Юрьевны, её песни, переписка с выдающимися российскими деятелями культуры. И что очень важно – приложением к нему стал диск с песнями Анны Марли в её исполнении. Художник Евгений Вельчинский и составитель сборника Асия Хайретдинова вложили много любви и уважения к автору. Их труд был отмечен Дипломом Ассоциации книгоиздателей России как одно из лучших изданий 2004 года.
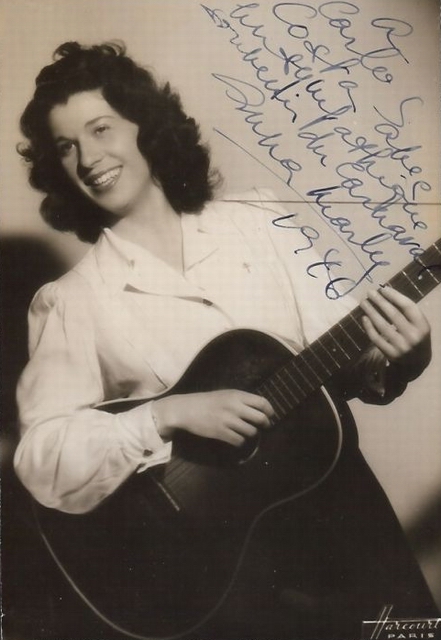
Большим событием в культурной жизни России, открывшим
для миллионов россиян имя Анны Юрьевны, стал фильм «Русская муза французского
Сопротивления» в цикле «Русские без России», прошедшем по телеканалу «Культура»
(автор проекта Елена Чавчавадзе, режиссер Татьяна Карпова, ведущий Никита
Михалков). А на кинофестивале «Злата Прага» этот фильм получил специальный
приз Президента фестиваля.
На презентации фильма в Доме кино, где выступали писатель Валентин Распутин,
искусствовед Савва Ямщиков, ветеран французского Сопротивления Глеб Плаксин,
Анна Юрьевна посмертно была награждена Диплом и памятной медалью "60
лет окончания Второй мировой войны" от Международной ассоциации Фондов
мира, Всемирной федерации ветеранов, Международного Фонда ветеранов "Память
народная".

Анна Юрьевна Смирнова-Марли только начала свой путь к нашим сердцам. Чем больше мы будем узнавать об этой стремительной жизни, об этом великодушном сердце, о питавших его корнях, тем больше у нас будет повода гордиться теми нашими соотечественниками, которые будучи разлученными с родиной и рассеянными по всему миру, пронесли через всю жизнь любовь к России, прославляли её своими талантами и внесли огромный вклад в культуру многих стран.
Автор: А. С. Хайретдинова
Источник: http://anna-marly.narod.ru/0280.html
Нина Бродская

Судьба Нины Бродской как и судьба любого
творческого человека – необычна. В ее судьбе много ярких страниц,а также
много грустного, порой и печального. Словом, все, как у творческих людей,
стремящихся к высотам, где музыка и вдохновение сплетаются в одно целое.
Нина Бродская родилась 11 декабря в городе Москве в музыкальной семье.
Ее отец, Александр Бродский был музыкантом. Стоит ли удивляться тому,
что уже в пять лет маленькая Нина стала заниматься музыкой. После окончания
музыкальной школы, по классу фортепьяно, девочка поступила в музыкальное
училище имени Октябрьской революции на дирижерско-хоровое отделение. А
дальше произошло, словно как в сказке. Однажды ее знакомят с известным
музыкантом, композитором и дирижером большого джаз-оркестра Эдди Рознером.
Услышав, как поет Нина, Эдди Рознер, сразу же приглашает ее работать в
свой оркестр, в качестве певицы-солистки. И вскоре Нина впервые отправляется
в гастрольную поездку по городам России. Было Нине в ту пору 16 лет.
С того времен и начнется ее блистательная карьера солистки джаз - оркестра Эдди Игнатьевича Рознера, Это были самые престижные концертные залы Москвы, Ленинграда, Киева и других больших городов Советского Союза, Появляются первые записи на радио, а после озвучания песни «Любовь-кольцо» композитора Яна Френкеля и поэта Михаила Танича в фильме «Женщины» голос Бродской становится узнаваемым, а ее имя обретает популярность. Нина становится все чаще желанной гостьей многих популярных радио передач и программ телевидения. Появляются первые пластинки с песнями известных композиторов и поэтов в ее исполнении, которые расходятся по всему Советскому Союзу миллионными тиражами, среди которых появляются настоящие шлягеры, такие как «Август», «Как тебя зовут», «Если ты словечко скажешь мне», «Выходной», «Разноцветные кибитки» и многие другие.
Лирические героини молодой певицы постепенно становились
взрослыми, однако «детское» долго еще ощущалось, Нина озвучивала детские
фильмы «Приключения Буратино» с чудной песенкой Алексея Рыбникова записывала
много песен для радио-передачи «Радио-няня». Она много работает, сотрудничает
с известными советскими композиторами – Я.Френкелем, Э.Колмановским ,
С.Туликовым, О.Фельцманом, а также с молодыми авторами. Записывает много
новых песен. Это в ее исполнении в фильме «Три дня в Москве» звучит прелестная
мелодия Эдуарда Колмановского на стихи Леонида Дербенева «Ты говоришь
мне о любви» («Одна снежинка еще не снег, одна дождинка – еще не дождь).
Исполняет песни композитора Д.Тухманова в известном диске «Как прекрасен
этот мир». Песни композитора А.Мажукова- «Первая любовь», «Все до поры».
др.
Выступает с оркестром ВИО-66 под управлением известного
композитора Юрия Саульского.
В 1968 году Нина выезжает на международный конкурс песни в Румынию, где
удостаивается звания Дипломанта конкурса. Принимает участие в программе
«Москва-Париж» Московского Государственного мюзик-холла под руководством
А.Конникова и выезжает с ними на гастроли в Польшу .
В том же году она принимает участие в создании вокально-инструментального
ансамбля «Веселые ребята» уже вместе со своим мужем Владимиром Богдановым
музыкантом-трамбонистом. Выезжает на гастроли с оркестром Всесоюзного
радио и телевидения под управлением Ю.Силантьева и оркестром под управлением
В.Людвиковского. Работает с ансамблем « Мелодия» под управлением Георгия
Гараняна.
В начале 70-х годов Бродская уверенно входила в число самых популярных
певиц Советского Союза. В 1971 году у Нины и Володимира родился сын Максим.
В те годы она работает с оркестром композитора А.Мажукова
«Советская песня» и оркестром под управлением О.Лундстрема.
В 1973 году Леонид Гайдай пригласил Нину Бродскую спеть песню в фильме
«Иван Васильевич меняет профессию» «Звенит январская вьюга…». Автор слов
Леонид Дербенев, композитор Александр Зацепин. Вот как. описывает свое
первое знакомство с исполнением песни Ниной Бродской журналист Игорь Манцов:
«Я хорошо помню три минуты своего раннего детства, где-то в 1974 году
я сидел за столиком тульского кафе «Малыш» и жадно, ложку за ложкой, поедал
сливочное мороженое, обсыпанное шоколадом, как вдруг в зале заиграла музыка:
может, радио, а скорее всего магнитофон. И я уронил мороженое на пол.
Нина Бродская спела свежеиспеченный шлягер Добрынина-Дербенева
«Кто тебе сказал». Имена авторов и исполнительницы я узнал много позже.
Это было первое эротическое впечатление. Это был шок».(31.01.2006) Газета
«Взгляд.
В середине 70-х годов Нина Бродская участвует в больших концертных программах
, проводимых организацией « Пропаганда советского кино и театра киноактера»
под названием «Товарищ кино». В программе концерта принимали участие самые
популярные артисты театра и кино – А.Ларионова, Н.Рыбников, З.Федорова,
М.Ладынина, С.Мартинсон., Н.Румянцева, Б.Андреев, Г.Вицин, Е.Моргунов,
Н.Караченцев и многие другие. Бродская исполняла в этих концертах песни,
которые были озвучены ею в телевизионных и художественных кинофильмах.
Концерты проходили на стадионах и в многотысячных спортивных залах.
Бродская участвует в Международных программах, концертов телевидения и Евровидения в странах Германия, Болгария, Монголия, Польша, Венгрия, Чехословакия. Но наряду с успешными выступлениями на концертных площадках, Бродская, благодаря стараниям Председателя Гостелерадио тов. Лапина была отлучена от выступлений на телевидении и радио и это продолжалось до 1979 года. И в конце 1979 года Нина с семьей покидает пределы страны - несмотря на любовь зрителей, на успех песен, многочисленные гастроли по стране и за рубежом. После отъезда Бродской все пластинки и записи песен были уничтожены. Сохранились записи песен, но не всех, только у коллекционеров и поклонников певицы.
Нина Бродская с семьей поселилась в Нью-Йорке, где и
живет по сегодняшний день. Она по-прежнему полна творческих сил, записывает
и пишет много своих песен на английском, еврейском и русском языках.
Одна из первых пластинок выпущенных в Нью-Йорке это - «Мое прошлое и настоящее»,
в которую вошли песни прошлых лет и уже новые авторские песни Нины Бродской.
Нина выпускает аудиокассету со своими авторскими песнями на русском языке
«Москва-Нью-Йорк».
Через некоторое время в Нью-Йорке выходит пластинка с её авторскими песнями
на английском языке “Crazy Love”. Она неоднократно звучала по радио и
отмечалась в журналах музыкальной индустрии Америки “Billboard” и “Dance
music report” `Бродская становится членом «АСКАП» США.
В Нью-Йорке выходит диск с песнями ретро «С любовью встретиться». А 1992
году фирмой «Мелодия» была выпущена пластинка "Москва Нью-Йорк"
.
В 1994 году после 14 летнего проживания в Нью-Йорке
Бродская приезжает в Москву и получает приглашение быть членом жюри Международного
фестиваля песни «Славянский базар», который проходил в Белоруссии.
В 1995 году в Германии выходит диск Нины Бродской «Приезжай в USA». Здесь
она опять выступает как автор стихов и как композитор. Она грустит по
Москве, по друзьям, по тем, кто был многие годы рядом, тоска по России
– все это было, была обида на чиновников, вынудивших покинуть Москву,
была тоска по любимой работе, по гастролям. В 1997 году Нина приезжает
в Москву по приглашению Художественного руководителя и Директора Московского
Театра Эстрады Бориса Брунова и участвует в праздничных майских концертах
на Красной площади и 9 мая на Поклонной горе и в разных концертных залах
Москвы. В сентябре 1997 года состоялось празднование 850-летия г. Москвы
и Нина участвует в концерте на Манежной площади.
В этом же году в Нью-Йорке она записывает альбом «Тум-балалайка»
и выпускает в г. Москве в 1998 году.
В 2003 году выходит «Золотая коллекция РЕТРО», где записаны песни 1965-1978.,
1998 г.г.
В 2005 году вышел диск «С новой надеждой» - содержащий 2 диска:1.СД песни
ретро, а второй СД - авторские песни Нины Бродской, где она выступает
как автор музыки и стихов, а также как аранжировщик и певица.
В 2006 году записан альбом американских песен ретро из кинофильмов 50-60
годов на английском языке.
В 2007 году записан диск «А идише Маме» на идиш, иврите и английском языке,
где выступает как аранжировщик и исполнитель.
Источник: http://www.brodskaya-nina.narod.ru/bio.html#
Мария Моравская
Моравская Мария Магдалина Франческа Людвиговна (1889-1947). Родилась в Варшаве в польской католической семье, переехавшей позже в Одессу. В два года потеряла мать; отец женился на сестре матери, и Мария, не ладившая с мачехой, в 15 лет уехала в Петербург. Жила в бедности, зарабатывала на жизнь уроками, перепиской, с 16 лет — литературным трудом (статьи и стихи сначала в одесских газетах, потом — в петербургских журналах). В 1910 познакомилась с М. Волошиным, который оказывал ей моральную и житейскую поддержку. С 1911 стала посещать литературные собрания у Вяч. Иванова и познакомилась с З. Гиппиус («чрезвычайно талантливой особой» назвала ее Гиппиус в одном из писем к К. Чуковскому), входила в «Цех поэтов». Первый сборник Моравской — «На пристани» — вышел в 1914 и почти целиком состоял из стихов, в которых поэтесса тосковала по дальним теплым странам, по южной экзотике.
Эта мечта, по свидетельству самой Моравской, передалась ей по наследству,
от отца (стихотворение «Пленник» — об отце). Книга М. Моравской обратила
на себя внимание необычной «инфантильной» интонацией, несколько наивным,
но чистым голосом («тонкий голосок капризной девочки», — позже вспоминал
о ней К. Луковский). С. Парнок писала, что главный пафос лирики Моравской
— «это жалость к себе самой».
Следующие книги — «Стихи о войне» (1914) и «Прекрасная Польша» (1915)
оказались менее удачными и прошли почти незамеченными; сборник стихов
«Золушка думает» (1915), посвященный памяти Елены Гуро, вызвал издевательские
отклики в критике («Золушка совсем не думает», — называлась одна из рецензий).
Предельная искренность и намеренная «беспомощность» формы делали ее поэтику
уязвимой для насмешек современников. «У меня кукольный стиль, / Трагических
жестов мне не простят», — говорила о себе Моравская. Она много переводила
— с финского и польского, писала рассказы, удачно сочиняла для детей.
Книжку «Апельсинные корки» (1914), посвященную «младшим братьям и сестренкам»,
которых не видела много лет, она называла своей самой любимой.
В 1917 Моравская совершила путешествие в Японию, оттуда поехала в Латинскую
Америку и осталась жить в США. Здесь она перешла на прозу, писала по-английски
для десятков журналов на самые разные темы — статьи, очерки, рассказы,
большую поэму «Черепичная тропка»; роман о петербургской жизни «Жар-птица»,
вышедший в Нью-Йорке и Лондоне.
Постоянный мотив позднего творчества М. Моравской — тоска по России: «живешь,
как мертвая, мертвая для поэзии, потому что тут ведь стихов писать не
стоит» («Литературные записки», 1922, №2, с.19).
Источник: http://slova.org.ru/moravskaja/about/
Вот ещё один материал о талантливой поэтессе:
Нескончаемый поэтический фейерверк, взорвавшись над Россией на рубеже 19 и 20-го столетий, дал миру огромное количество имен — ярких, «разноцветных», взлетевших выше других. Эти имена образовали контур, абрис этого фейерверка, названного позже Серебряным веком русской поэзии. А потом пришли войны и революции, и праздник закончился. Многие уехали — долго и мучительно приживались на новом месте, что-то писали, что-то издавали, оставив нам стихи и воспоминания. Многие разделили судьбу страны, что-то писали, что-то издавали, долго и мучительно привыкали к новым условиям. А некоторые просто исчезли в никуда — растворились в различных советских конторах и учреждениях, растворились в эмиграции, где уже ничего не писали, ничего не издавали, и только скудные сведения об их частной жизни вне поэзии доходили на родину.
А еще были такие, кто уже не ждал от жизни ничего и сводил
с нею счеты.
Мария Моравская — одно из «потерянных» имен Серебряного века, случайно
увиденное в какой-то статье. Вот о ней я и хочу вам рассказать, собрав
информацию по крупицам, буквально по слову, по строчке, по абзацу, по
оброненному упоминанию в контексте вроде этого:
«Сколь обширным и разнообразным было поле женской поэзии в начале XX века.
Сколько имен еще известно пока лишь номинально, по поводу чего-либо: Надежда
Львова, Лидия Лесная, Паллада Богданова-Бельская, Анна Радлова, Аделаида
Герцык, Мария Моравская…»
Холодно Я жду неожиданных встреч, — Мосты, пароходы, все встречное, Я жду неожиданных встреч, |
Стихотворение «Белая ночь», которое предваряет рассказ
о Моравской, на мой взгляд, самое удачное из того, что мне удалось прочитать.
В нем безусловно присутствует поэтическое мироощущение и интересный образный
ряд. Другие тексты, увы, мне кажутся беспомощными и не дотягивают до лучших
образцов поэзии Серебряного века. В этом смысле я согласна с матерью Александра
Блока Александрой Андреевной — «По-моему, это не поэзия». Поэтому предлагаемый
читателям рассказ — это, скорее, история литературы, чем сама литература.
Забытая поэтесса Серебряного века Мария Моравская, как ее часто называют,
забыта, да не совсем. Просто ее имени многие не замечают… в сборниках
стихотворений для детей, появившихся в России в 90-х годах уже прошлого
века.
Согласно сведениям, почерпнутым мною на сайте «Серебряного
века силуэт», Моравская Мария Магдалина Франческа Людвиговна родилась
в 1889 году (по другим источникам — в 1890-м) в Варшаве, в польской католической
семье, а умерла в Майами (США) 26 июня 1947 г.
Дата и место смерти требуют уточнения, поскольку не соответствует действительности.
Но об этом позже.
Итак, Мария Моравская родилась в Польше. Мать умерла, когда девочке было
два года, отец женился вторично — на сестре матери, и семья переехала
в Одессу. Отношения с теткой-мачехой складывались непросто, и 15-летняя
Мария покинула родительский дом, уехав в Петербург, где зарабатывала на
жизнь уроками.
Некоторое время она училась на Высших женских курсах,
увлекалась политикой, в частности, польскими проблемами и социалистическими
идеями. Даже дважды (в 1906-м и 1907 гг.) подвергалась аресту и сидела
в тюрьме.
Черным ходом, по лестнице длинной, Говорила так плавно и звонко, И выпытывать стала искусно, И мне этого было довольно, Я по лестнице, грязной и липкой, 1914 |
Мария очень рано и ненадолго вышла замуж, а первые ее стихотворения были
напечатаны в газете еще в Одессе.
В 1910 году Моравская познакомилась с М. Волошиным, сотрудничала в литературном
журнале «Аполлон», через год вошла в «Цех поэтов», пользовалась покровительством
Зинаиды Гиппиус, посещала литературные собрания у Вяч. Иванова.
В одном из писем к Корнею Чуковскому Гиппиус назвала ее «чрезвычайно талантливой
особой».
Первый «Цех поэтов», (1911-1914 гг.) объединил тогдашних акмеистов. В
него входили Н. Гумилев, С. Городецкий, Кузьмины-Караваевы, А. Ахматова,
М. Лозинский, В. Пяст, В. Нарбут, М. Зенкевич, О. Мандельштам и др. А
с 1915-го Моравская сближается с Г. Адамовичем, Г. Ивановым и др., сотрудничая
с «Новым журналом для всех».
Моравская часто печаталась в различных журналах — «Вестник
Европы», «Ежемесячный журнал», «Журнал журналов», «Заветы», «Современный
мир», «Русская мысль» и др.
В 1914 г. вышел ее первый сборник поэзии «На пристани». Второй сборник
— «Стихи о войне» (1914) был подвергнут острой критике. Через год вышли
еще две книги Марии — «Прекрасная Польша», посвященная Адаму Мицкевичу,
и сборник «Золушка думает» («памяти Елены Гуро», оказавшей значительное
влияние на творчество Моравской). Второй сборник вызвал насмешливые отклики
(«Золушка совсем не думает», — называлась одна из рецензий).
Золушка Хозяйка квартирная, как мачеха! На бал позовут меня? Не знаю. Умирай, Золушка, умирай, милая, Умирай, Золушка, нет воскресенья. |
Сотрудничество в детских журналах «Тропинка» и «Галчонок», стихи для детей
«Апельсинные корки» (1914) и книга рассказов «Цветы в подвале» (1914)
принесли Моравской известность и на этом поприще. В 1910-х Марию считали
одной из самых талантливых поэтесс, а М. Волошин предрекал ей роль второй
Черубины де Габриак (Е. Дмитриевой), о которой мы рассказывали в нашем
журнале. Е.И. Дмитриева писала М.А. Волошину 18 января 1910 года: «… Я
еще не получила письма от Моравской — очень хочу ее видеть, я прочла несколько
ее стихов Маковскому, он в восторге, хочет ее печатать; так что это уже
ее дело. Аморя, по-моему, ей ничего не даст, ей нужен возврат в католичество,
или через него. Диксу ее стихи не понравились. А у меня чувство — что
я умерла, и Моравская пришла ко мне на смену, как раз около 15-го, когда
Черубина должна была постричься. Мне холодно и мертво от этого. А от Моравской
огромная радость!»
(15 октября 1909 года, в ходе мистификации, поэтесса
Черубина де Габриак должна была исчезнуть, якобы постригшись в монахини.
Сергей Маковский — художественный критик и поэт, создатель журнала «Аполлон».
Аморя — домашнее имя Маргариты Васильевны Сабашниковой, первой жены М.
Волошина. Дикc — псевдоним Бориса Алексеевича Лемана, поэта, критика,
педагога). В стихотворениях Марии Моравской — стремление к одиночеству,
мечты о прекрасном Принце, понимание несбыточности надежд, а отсюда —
стремление к бегству. Уехать, улететь, уплыть… Даже в названиях стихотворений
звучат эти мотивы — «Уехать», «На пристани», «Уходящие поезда», «В крылатый
век», «Пленный».
Уходящие поезда Туман мутный над городом встал Буду слушать торопливые прощанья, Заблестит над рельсами зеленый сигнал, Я купила накидку дорожную И висит, покрываясь пылью, Разве долго мечтать я бессильна, |
Из книги M.A. Бекетовой «Александр Блок и его мать»:
Ал. Ал. всегда находил, что мать его работает и добросовестно,
и талантливо. Между прочим, он очень ценил ее отзывы о разных литературных
произведениях. Иногда он поручал ей писать рецензии на пьесы, которых
ему приходилось рассматривать целые груды…
Вот образчик рецензий Ал. Андр., единственный из уцелевших ее работ этого
рода. Не знаю, для чего понадобилась эта рецензия, но интересно то, что
на ней есть пометка, сделанная рукой Ал. Ал-ича. Рецензия написана на
сборник стихов поэтессы Моравской, одно время (незадолго до войны) прошумевшей
в Петербурге. Главные темы сборника касаются стремления на юг, тут и мысли
о Крыме, и хождение на вокзал и т. д. Вот рецензия.
«По-моему, это не поэзия. Но тут есть своеобразное. Очень искренно выказан кусок себялюбивой мелкой души. Может быть, Брюсов и А. Белый думают, что стремление на юг, в котором состоит почти все содержание — это тоска трех сестер и вообще по Земле Обетованной. Они ошибаются. Это просто желание попасть в теплые страны, в Крым, на солнышко. Если бы было иначе, в стихах бы чувствовалась весна, чего абсолютно нет. Да и вообще ни весны, ни осени, ни зимы, никакого лиризма. Я очень добросовестно прочла всю тетрадь. Это только у женщин такая способность писать необычайно легкие стихи без поэзии и без музыки».
Пометка Ал. Ал-ича: «7 июня 1913 года о стихах Моравской.
Очень, очень верно».
Речь идет о рукописной книге стихов, которую Иванов-Разумник отправлял
на просмотр некоторым литераторам, в том числе В.Я. Брюсову (его предисловие
к стихам Моравской «Объективность и субъективность в поэзии» сохранилось
в архиве поэта).
Произведения Моравской анализировали В. Брюсов, А. Гизетти, С. Парнок
и многие другие. Сравнивая творчество Надежды Львовой, Анны Ахматовой
и Марии Моравской, литературный критик А.А. Гизетти в статье «Три души»
(1915) очень положительно отзывается о возможностях ее дальнейшего роста.
Из отзывов о лирике Марии Моравской — «Тонкий голосок
капризной девочки» (К. Луковский), «Это жалость к себе самой» (С. Парнок).
«У меня кукольный стиль, трагических жестов мне не простят», — говорила
о себе Моравская.
Среди скупых сведениях о поэтессе существует упоминание о ее дружеских
отношениях с выдающимся мордовским скульптором Степаном Эрьзя.
Говорят, что подробнейшая автобиография Марии Моравской хранится в Рукописном
отделе ИРЛИ, в фонде Венгерова.
В 1917 г. Мария Моравская уехала в Японию, а оттуда в США. Там она сотрудничала
с множеством американских журналов, печатая в них на английском языке
короткие рассказы, статьи и очерки. В 1927 г. в Нью-Йорке на английском
языке был издан ее роман «Жар-птица» о петербургской жизни 1910-х гг.,
вышедший в Нью-Йорке и Лондоне. Постоянный мотив позднего творчества М.
Моравской — тоска по России: «Живешь, как мертвая, мертвая для поэзии,
потому что тут ведь стихов писать не стоит» («Литературные записки», 1922,
№2, с.19).
А теперь вернемся к дате смерти поэтессы, которая указана во множестве
источников — 1947 год.
Совершенно неожиданно имя Марии Моравской всплыло в воспоминаниях
поэтессы Маргариты Алигер о Корнее Чуковском «Долгие прогулки» (1973-1974),
отрывок из которых связан с ее книгой очерков «Чилийское лето», опубликованной
в 1965 году в журнале «Новый мир» (II-144; III-167):
«Прочитав в «Новом мире» мои очерки «Чилийское лето», он вручил мне номер
со своими замечаниями, всеми до одного учтенными мною впоследствии, при
отдельном издании книжки о путешествии в Чили. Высказав мне все свои замечания
и соображения, он в заключение сказал: «Знакомо ли вам имя Марии Моравской?»
Да, я помнила такое имя и милые стихи моего детства, подписанные этим
именем. Но при чем тут Чили?
— Так вот, представьте себе — она эмигрировала после революции, и след
ее совершенно затерялся. Я, пожалуй, и о существовании ее забыл, хотя
помнил, что она была талантлива и книга ее «Апельсиновые корки» мне в
свое время очень понравилась. И вдруг несколько лет назад я получил от
нее письмо из Чили. Судьба забросила ее туда, она вышла замуж за почтальона
и с ним доживает свой век. Как было бы интересно вам ее повстречать. Представляете
— рафинированная петербургская барышня, поэтесса, подруга поэтов, завсегдатай
«Бродячей собаки», и вот какой финал — супруга чилийского почтальона!»
Разговор Алигер с Чуковским мог произойти не ранее 1965
года — времени публикации «Чилийского лета» в «Новом мире». Фраза Чуковского
«И вдруг несколько лет назад я получил от нее письмо из Чили» опровергает
дату смерти Марии Моравской — 1947 год. О прошедших двух десятилетиях
так не скажешь.
И еще одно свидетельство — книга Павла Николаевича Лукницкого «Acumiana.
Встречи с Анной Ахматовой». В «Указателе имен» значится Моравская Мария
Людвиговна (1889-1958) — поэтесса, участница первого Цеха поэтов. Эта
дата смерти подтверждает рассказ Корнея Чуковского.
К сожалению, мы не можем показать нашим читателям, как выглядела «Золушка»
Серебряного века Мария Моравская. Ее фотографию можно найти в очень редком
малотиражном издании воспоминаний И.Г. Эренбурга «Портреты русских поэтов»
(2002, тираж — 2000, издательство — Наука, СПб), выходивших до этого в
Германии в 20-х годах прошлого века.
В крылатый век Я доживу до старости, быть может, И вниз земля не уплывет от взора, |
Источник: http://www.vilavi.ru/sud/050408/050408.shtml
Наталья Толстая

Она любит белые лилии, Asti Martini, и мужчин, которые умеют шутить.
Психолог Наталья Толстая выпустила новую книгу, и продолжает давать советы
звездам шоу-бизнеса и читательницам WMJ.ru.
- Наташа, почему ты выбрала темой своих книг именно измену?
Личное что-нибудь замешано?
- Конечно, - я живой человек. И книги не были бы такими искренними, если
бы жизнь не потрясла и меня за грудки. Я знаю измену в лицо. "Так
же как все, как все, как все я по земле хожу, хожу. И у судьбы как все,
как все счастья себе прошу…"
- У тебя много опыта. Дай совет читательницам WMJ: как
подстраховаться от измены любимого?
- Верность – это осознанный выбор. Любовь – это чувство, которое нужно
все время беречь, трудиться над его сохранностью. Основная женская задача
– быть разной и искренней. А вообще моя новая книга называется "Поединок
с изменой". Там есть стратегии и тактики не только подстраховки,
но и победы над ней.
- Бывают ли измены во благо?
- Есть. Я видела очень много сохраненных браков, когда женщина перетерпела
мужское "бесилово". Есть много гармоничных пар, которые стали
таковыми только после того, как мужчина вернулся от любовницы в семью
и сказал: "Я виноват перед тобой. Ты самая лучшая женщина на свете.
Прости и пусти обратно, в сердце и душу"…

Измена – не самая большая беда для семьи, если ты нашла в себе силы простить
и принять мужчину обратно. Обнуляются чувства, анализируются ошибки, появляется
возможность что-то изменить к лучшему в ваших отношениях.
- А кем ты хотела быть в детстве?
- Во мне всегда жили параллельно две мечты: я хотела быть актрисой и врачом.
Я с глубоким уважением относилась всегда и к одной, и ко второй. Они материализовались
обе и теперь тесно переплелись.
- Как тебя занесло в шоу-бизнес?
- "Звездным" ветром. Среди моих пациентов много талантливых
актеров, режиссеров, людей индустрии красоты. Человек с ухоженной внешностью,
умеющий говорить в своем стиле, мыслить не стандартно – на телевидении
всегда в цене. Еще мне очень помогли курсы теле- радиоведущих в Останкино.
- Не было ли у тебя мысли слегка пошантажировать наших
звезд? Ты ведь наверняка знаешь некоторые их тайны…
- Никогда даже в голову не приходила такая мысль.
- Хорошим психологом быть можно. Как стать известным
психологом?
- Я просто хорошо делала свое дело. Наверное, мне повезло. Могу только
сказать, что никогда не платила денег ни в институте, ни в ординатуре,
не оплачивала статьи в глянцевые журналы и теле-радиоэфиры. Кому-то интересно,
что я думаю – прекрасно! Никогда не отказываюсь быть экспертом, когда
приглашают. Уважаю журналистов и вообще люблю людей. Вот и весь секрет.

Из консультации на WMJ.ru
Добрый день, Наталья! Подскажи, пожалуйста, что делать, если я не люблю своего избранника. Он от меня без ума, делает ВСЕ для меня и отношений, терпит все мои капризы. Сейчас он уехал надолго, а я осталась в своем небольшом городке. Мне 21 год, а вместе мы уже 10 месяцев. Он хочет меня забрать к себе в тот город. Я туда тоже хочу, но не знаю смогу ли я с ним жить? Заранее спасибо, Лена
Лена! Для меня "не люблю" - это красная тряпка корриды. В жизни каждого человека есть перекрестки, на которых приходится выбирать тропу, которой идти дальше. А самый сложный вопрос с КЕМ. Тебе 21 год и переезд в большой город с человеком, который тобой дышит не самая плохая перспектива. Твоя адаптация к одиночеству тоже не "фонтан". Главное, что я могу посоветовать – поезжай. Ты ничем не рискуешь. Не возьмешь "счастливый билетик", который протягивает тебе судьба – не выиграешь.
Объясни, что идешь навстречу его желанию быть рядом с тобой, но в ближайшее время о регистрации отношений вы разговаривать не станете. Так и скажи: "Я хочу попробовать жить с тобой". Жизнь дает тебе шанс познакомиться с ним поближе. Влюбиться или понять, наконец, что душа не лежит к этому человеку. Даже если поймешь, почувствуешь, что с отношениями не получится, ни дня не продержишься больше в его доме – соберешь вещи в кошелку и уедешь домой: адью! А представь сейчас с ним попробовать расстаться? Он же гипервлюблен, он тебе весь мозг "выест" разборками и слезами. Ладно! Не будешь рубить хвост по частям и скажешь: "Прости и отпусти. Не звони. Не приходи. У нас нет будущего". А вдруг в возрасте черепахи Тортилы, покачиваясь в кресле-качалке, укрытая пуховым оренбургским платком ты пожалуешься внучке: "Знаешь, был в моей жизни человек, но я предпочла одиночество и покой, потому что боялась потрясений и не знала, что мое решение за собой потянет". Представила, как она тебе у виска покрутит?..
Источник: WMJ
Автор: Рита Железнякова, специально для WMJ
Наталья Басовская
Начиная с 1970-х годов Наталья Ивановна не раз в качестве историка
выступала в теле- и радиоэфире, а с сентября 2006 года еженедельно выходит
ее совместная с Алексеем Венедиктовым программа «Все так» на культовом
радио «Эхо Москвы». Программа идет по воскресеньям в прямом эфире, и все
те отзывы, звонки, смс-сообщения, которые получают ведущие от самых разных
людей по ходу передачи, доказывают, что место духовной истории – не только
в университетских аудиториях, библиотеках и музейных залах. МЕЙНСТРИМ
– вот где истинное место истории и культуры. И символично, что делает
такую знаковую передачу именно профессор Российского государственного
гуманитарного университета, главное здание которого принадлежало до революции
народному университету Шанявского, бесплатному университету, куда поступить
мог каждый, независимо от национальности, социальной принадлежности и
уровня образования.
Беседу с доктором исторических наук Натальей Басовской, возглавляющей
работу кафедры Всеобщей истории Российского государственного гуманитарного
университета, провел журналист Сергей Журавлев. Наталья Басовская является
содиректором Российско-американского центра библеистики и иудаики РГГУ,
а также директором учебно-научного центра визуальной антропологии и эгоистории
РГГУ.

– Наталья Ивановна, вот Вы делаете передачу про Яна Жижку,
и складывается такое впечатление, что рассказывает узкий специалист по
чешской средневековой истории. Про Торквемаду - специалист по испанской
инквизиции… Про Перикла – антиковед. И так далее. Причем дело даже не
в деталях, а в том, что невозможно подделать, – в интонации, в нюансах
диалога с Алексеем Венедиктовым. В чем секрет?
– Я очень счастлива это слышать, правда, на самом деле, все это адский
труд. Меня спасает фундаментальное образование, полученное на историческом
факультете МГУ. Горжусь своими учителями – Сергеем Даниловичем Сказкиным,
Евгенией Владимировной Гутновой. Это были вообще блистательные люди. И
главное, как меня там научили работать с источниками и научной литературой.
Здесь, в РГГУ, отличная научная библиотека. Еженедельно я уношу домой
сумку книг для подготовки следующей передачи. Я стремлюсь быстро и эффективно
извлечь из них главное – найти нюансы жизни и психологии своего очередного
будущего персонажа.
– Все-таки как Вам удается совмещать несовместимое? С
одной стороны – академизм, фундаментальное источниковедение, трезвость,
взвешенность взгляда, а с другой – такая убежденность, как будто Вы только
что на машине времени перенеслись из той эпохи.
– Да, переношусь иногда. Со мной это бывает. Это, наверное, от любви к
истории, которая у меня с самого детства. У меня подчас появляется такое
ощущение. Очень люблю процесс чтения, книгу люблю держать в руках, особенно
старинную. Вы знаете, у старых книг даже запах необыкновенный. Знаете,
что меня поддерживает в надежде понять людей прошлого? Был такой историк
ХХ века Марк Блок, основоположник знаменитой Школы анналов. Во время войны
его расстреляли фашисты за участие в Сопротивлении. Великий человек и
великий историк. Он совершил переворот в исторической науке, сказав: «Для
того чтобы что-то реально узнать о прошлом, нам прежде всего надо стремиться
понять, что было в головах людей». Мы же, задавленные на долгое время
догматическим, примитивным марксизмом, долбили какие-то «производительные
силы». Однажды в школе, где я давала мастер-класс, ребенок сказал: «В
Италии очень хорошо развивалось сукноделие. И поэтому там появились такие
художники, как Рафаэль, Микеланджело, Леонардо да Винчи». Вот горе-то!
На самом же деле, история – это история людей. Это мы сами. Марк Блок
приблизился к самому существу. История – одна из труднейших наук потому,
что это – самопознание человечества. А древние не зря говорили: «Познай
себя». Самая трудная задача! Вот я в этом самопознании не вдруг, не сразу,
но пришла к тому, что ничего интереснее человека нет.
– Это, действительно, не так просто, как кажется. Например,
когда Андрей Тарковский снимал «Солярис», он исповедовал те же убеждения.
А Лемм был недоволен этой экранизацией. Для него более ценен был Космос
и разумный океан Соляриса. Тарковский же в уста одного из персонажей вложил
реплику, кощунственную для научной фантастики, да и для всей идеологии
того времени: «Человеку не нужен космос. Человеку нужен только человек».
– Категорически согласна с Тарковским. Вот и мое убеждение: мы изучаем
историю не потому, что надеемся поумнеть, хотя хотелось бы, а потому,
что просто не можем без этого. Это наше человеческое свойство, такое же
органическое, как дышать. Помнится, меня рассмешила одна знакомая. Она
спросила, кто изображен на обложке моей книги «Леопард против лилии».
Я говорю: «Вильгельм Завоеватель, тот, кто в 1066 году привел рыцарей
из Нормандии для завоевания Англии». Она говорит: «Ты знаешь, а я его
совсем другим представляла!» Меня очень тронуло, что человек, не имеющий
отношения к изучению истории, вообще думал о Вильгельме Завоевателе и
пытался его себе представить.
– Это книга о Столетней войне?
– Да. Практически все иллюстрации в ней воспроизводят средневековые изображения
английских и французских королей и королев. Столетняя война была неразрывно
связана с человеческими страстями – любовью, ревностью, изменами, разводами…
Какие там «производительные силы»? Просто «производительные силы» – это
почва, на которой растет роза, их друг от друга не отделишь. Но если мы
изучаем красоту, то мы изучаем розу, хотя почва – это тоже очень важно.
– Давайте приведем какой-нибудь пример.
– Среди персонажей, чьи имена недавно звучали в передаче «Все так», –
Эразм – Роттердамский. Что он такое для широкой публики? Для широкой ничего,
для культурной – автор знаменитого произведения «Похвала глупости». свое
время оно просто правило умами. Произведение, действительно, потрясающее.
В людей. Но когда мы начинаем вглядываться в личность Эразма Роттердамского,
мы ценим его еще больше…
Незаконнорожденный ребенок, дитя любви. Его отец – торговец средней руки
– не получил разрешения родителей на брак с матерью вот в четыре года
мальчика отдают в специальную школу, которая считалась очень хорошей,
но благотворительной. Детдомовец! Он растет без родительской ласки, любви,
в этой школе, где достаточно суровые нравы. И когда мы узнаем, что у него
было трудное детство, мы иначе воспринимаем фразу из «Похвалы глупости»,
где Глупость заявляет, как бы шутя (там все как бы шутя): «Да, все говорят,
что наши школы – это настоящие пыточные камеры». Почему? Мы это уже знаем.
Эразм чуть не умер с голода, когда все-таки поступил в Парижский университет.
Он был очень талантлив. Талант, жажда знаний – и никаких средств. Эразм
заболел так, что был на пороге смерти. Что его спасло? Репетиторство (мы
так это сегодня называем). Он начал готовить детей богатых людей к поступлению
в университет, продолжил свое образование и окончил Парижский университет.
Великий мыслитель ХVI века становится нам ближе, когда мы узнаем такие
подробности его жизни.
– Алексей Венедиктов назвал его «книжным червем»…
– И это справедливо. Мечта жизни Эразма – увидеть Италию. Но не Леонардо
да Винчи, не Микеланджело, не Рафаэля (они почти все в это время там были).
А ему надо было только в архивы. При виде античных рукописей он забывал
все, его охватывала дрожь, и он все время проводил в тесных хранилищах,
делая переводы произведений античных авторов, анализируя их труды… Он
проделал гигантскую работу. А помимо переводов он стал писать стихи, что
было в то время естественным свойством высокоорганизованного интеллекта.
Кстати, и во Флоренцию Эразм попал благодаря репетиторству. Некий богатый
человек нанял его сопровождающим репетитором по древним языкам к своим
двум сыновьям, которые ехали в Италию учиться. Это потом Эразм получил
достаточные средства для жизни.
– Нашелся спонсор?
– Это же век Возрождения, век выброса интеллекта, его произведения стали
популярны в узком кругу интеллектуалов, но именно этот круг властвовал
над умами. И вот уже встретиться с Эразмом стремятся короли, императоры.
Дабы посоветоваться! Король Испании Карл I (впоследствии известный своей
жестокостью император Карл V) в молодости предложил Эразму должность некоего
консультанта без всяких обязанностей и с постоянным содержанием. Чтобы
был рядом такой разум. Папа римский стремился встретиться с ним и добиться,
чтобы Эразм, чего доброго, не поддержал Реформацию. Потому что – авторитет.
Когда в итоге разгорелась борьба Лютера с католической церковью, все бесконечно
обращались к Эразму с вопросом: как ты, за кого, ты за кого? Как некто
презрительно писал в советские времена: «Он высказался достаточно неопределенно,
как бы сел между двух стульев». А он и не хотел садиться ни на один из
этих стульев. Потому что он видел: и там фанатизм, и здесь фанатизм. Он
был за мир, за толерантность, за понимание, и высшей его мечтой было,
чтобы все говорили на одном языке – высокой латыни. Красиво? Такие герои
или подобные им встречаются часто в нашей передаче.
Например, Томас Мор – лучший друг Эразма Роттердамского. Эразм написал книжку «Похвала глупости», считая ее шуткой. Это была шутка гения. Написал лично для Мора, чтобы его развеселить. Эразм очень любил улыбку Томаса Мора. Он писал, что лицо Мора светится добротой, благожелательностью, хорошо бы все люди были такие. «Чтобы ты почаще улыбался, я по пути в Англию сочинил эту шутку». И вот многие столетия мыслящие люди с наслаждением читают эту «шутку». А поводов для веселья было не много. Когда Томас Мор стал лордом-канцлером английского короля Генриха VIII, он понял, что им не сойтись, потому что Генрих быстро превращался в деспота. Но было уже поздно. Генрих его погубил. Мора признали изменником, врагом, за то, что не одобрил реформ короля (среди которых был кровавый закон о бродяжничестве: казнили десятки тысяч согнанных со своих земель крестьян). Но главное – Мор не поддержал развод Генриха VIII с его первой женой Екатериной Арагонской. Мор знал, что его ждет в случае отказа, и три дня бичевал сам себя, чтобы, чего доброго, не дать слабину. Томас Мор отправлен на плаху. Это была страшная казнь, не хочется даже зачитывать приговор… Когда Мора вели на плаху, на улицах Лондона стоял громкий отчаянный плач. То есть не всегда современники не понимают, что среди них есть «человек среди людей». Через какое-то время известие о казни Мора пришло к Эразму (он тогда жил в Швейцарии). Он написал: «Когда мне сообщили, что умер Томас Мор, мне показалось, что это умер я». И через несколько месяцев скончался. Но разве они не элита? Это какая-то общеевропейская суперинтеллектуальная элита. И странно, я не так давно слышала, кто-то выступал по радио, кажется, по «Свободе»: «В России недостает лидера духовного, нравственного авторитета нации». И это так.
– А когда «доставало»?
– Ну, например, академик-славист Дмитрий Сергеевич Лихачев мог быть так
назван. В какой-то мере очень большим интеллектуальным авторитетом был
Юрий Михайлович Лотман. Его беседы о русской культуре влияли на общество,
на мыслящих людей. Сейчас действительно с этим скудновато. Но это вновь
обязательно придет. У человечества есть такое свойство – время от времени
достигать духовных вершин.
– Во время передачи про Лоренцо Великолепного, мецената
Рафаэля и Микеланджело, был ли звонок от господина Абрамовича: «Куда и
сколько?»
– Не припомню.
– Что они так все в этот футбол уперлись?
– Да потому что те ценности, которые поддерживал Лоренцо Великолепный,
были высшими ценностями той эпохи, а господин Абрамович, вероятно, – я
могу только предположить, – поддерживает ценности, кажущиеся особенно
важными для нашей эпохи, более близкие простому люду. Ведь великолепие
Флоренции, огромные средства, которые тратились на украшения города, на
архитектурную роскошь, искусства, тоже не всеми одобрялись. Даже Эразм
сказал: «Можно было бы и поскромнее, главное – рукописи». Каждый ищет
свои ценности.
– Так чего же так не хватает нашим олигархам, чтобы
стать современными Лоренцо Великолепными, Мамонтовыми, Морозовыми?
– Надо быть более утонченно образованными.
– Хотя бы иметь идеалы?!
– Да, более сложные идеалы, чем футбол, например. Мамонтов, Морозов, они
были типа Лоренцо Великолепного. И с капиталом, и с интеллектом. Лоренцо
же и философ, он оставил литературное наследие, он писал художественные
произведения, это не то же, что: пойду, прикуплю себе футбольный клуб.
Лоренцо не стал великим поэтом, может быть, потому, что вокруг были люди
уровня Петрарки. А ведь вполне, с литературной точки зрения, был достоин.
Его просто затмили. Но все равно он не был только денежным мешком. Находились
люди, меценаты (при римском императоре Августе в I веке нашей эры был
такой любитель искусств Меценат, а потом слово стало нарицательным), которые
считали, что сюда стоит вложить деньги, и именно таким образом войти в
историю. Потом таких людей стало довольно много. А в России это никак
не родится.
– Но ведь было!
– Было. Россия стояла на пороге великолепного меценатства в интеллектуальной
области: Мамонтов, Третьяков… Шанявский Альфонс Леонович, который отдал
все свое состояние для создания народного университета, а потом его вдова
Лидия Алексеевна, дочь золотопромышленника,
пожертвовала еще больше денег. Для народного, вольного университета.
– А что, интересно, говорит исторический опыт по поводу
материального достатка работников интеллектуальной сферы? Художнику, ученому
полезно быть голодным?
– Духовная элита обязательно должна быть состоятельной. Только тогда она
сможет создать шедевры. Случаи отдельных голодных художников – это скорее
исключения. Великие историки прошлого, написавшие многие тома, спокойно
сидели в своих кабинетах потому, что им не надо было бегать по урокам
и добывать хлеб насущный. Я не идеализирую Россию дореволюционную, революции
случайными не бывают, но какие-то плюсы уже намечались, они просто не
успели развиться. Профессор – это был состоятельный человек, не богач,
но он мог уделять своим любимым штудиям достаточное время. И это уже складывалось
параллельно с меценатством. Если даже ему не досталось в семье состояния,
ему платили очень приличное жалование в университете. А если находился
какой-то любитель, то выдавал ему что-то вроде стипендии или позволял
жить в своем особняке. Как Лоренцо, который строил особняки для ученых
с одним условием – чтобы они не отвлекались от своих штудий. Это может
вернуться, это должно вернуться. Просто по пути была очень большая беда.
– Беда случилась все-таки давно. Я вижу, что, по крайне
мере, за тридцать лет учебник истории по своей сути не изменился. Та же
свалка сведений по географии, геодезии, земледелию, праву, тактике и стратегии
войны, вооружению, расстановке политических сил и прочее. А про Александра
Македонского – один живописный мазок: убил друга, Клита, на пиру. Это,
конечно, важный, знаменитый эпизод из жизни Александра, но ровно через
двадцать две строчки (я подсчитал): «… летом 323 года до н. э. Александр
Македонский внезапно заболел и умер». Нет, я утрирую, есть там, конечно,
пара анекдотов мелким шрифтом про Диогена и Гордиев узел, но все равно,
сухой остаток такой: один закрыл собой другого в бою, спас ему жизнь,
тот, черная душа, убил своего спасителя по пьянке на пиру. Это такой принципиальный
вопрос: почему история великих людей должна вызывать в пятиклассниках,
в лучшем случае, отторжение, отвращение, как нынешние таблоиды, а в худшем
– просто скуку?
– Про Александра у нас была передача – «Мир идей Александра Македонского».
В ней я хотела показать, что Александр вовсе не примитивный вояка, каким
он предстает во многих учебниках. Почему его образ стал таким? Это уродство,
которое мы получили под влиянием долгого господства социологических схем,
оно быстро не излечивается.
Знаменитая школа Покровского еще в 1920-х годах постановила: людей прошлого изучать вообще не надо. Надо изучать процессы, законы и локомотив истории – классовую борьбу. Это вколачивалось насмерть. Как это было, мне – студентке рассказывал еще академик Сергей Данилович Сказкин, заведующий кафедрой истории средних веков истфака МГУ. Он Пажеский корпус заканчивал до революции, поэтому не особенно советский был академик. «Вы представляете, – говорил он мне, – я помню статьи в газетах в двадцатые годы: «Нужны ли пролетариям фараоны?» – и ответ: «Нет! Вся история, написанная до нас, – это история кровопийц, злодеев и эксплуататоров». А я категорически знаю, – продолжал Сергей Данилович, – что король – не значит злодей, а злодей – не значит король. Не так злодейство складывается, механизмы у него не такие». Потом еще придумали историю фабрик и заводов. Мы лишаем розу аромата. Поэтому учебник вот такой. Традиция жива. Но появляются и другие учебники. Они еще не победили. Потому что есть всякие комиссии министерские, грифы. Мое личное школьное воспоминание. Шестой класс. Учительница была на редкость неудачная, малообразованная, серая женщина. Ее вечная фраза: «К следующему уроку – глава такая-то, параграф такой-то. Да, в конце – культура мелким шрифтом, можно не читать». В конце и мелким шрифтом! Эти два тезиса передают большую трагедию.
– Мне почему-то кажется, что мракобесие вообще проще изжить, чем элементарную поверхностность: и хотелось бы живее написать учебник, да «местов нет». Была такая показательная история экранизацией BBC романа Кафки «Процесс». Есть формат для кинотеатра, и вот логичным образом длине?сократили монологи главного героя – Йозефа К. Несмотря на то, что именно в этих монологов – весь трагический юмор романа. Это глас вопиющей культуры в пустыне. Почему-то никому не приходит в голову, что монологи Тарантино слишком длинны. А тут Кафку, в силу экономии пленки, подрезали. И получился Кафка без юмора. То есть уже не Кафка. Сюрреалистическое занудство. Несмотря на отличных актеров, на великого Энтони Хопкинса. Самое интригующее, что сценарий написал Гарольд Пинтер – в сущности, современный соперник Кафки, классик пьесы абсурда. Вполне возможно, что это было сознательное уничтожение романа «Процесс». Так вот мне кажется, что только мастера, Пинтеры, в хорошем смысле слова, могут знать, чего и сколько должно быть в учебнике, чтобы не нарушить восприятие. А решают все явно не Пинтеры.
– А это уже вопрос общей культуры, утонченности образования… И если наша передача, о которой мы говорим, наша попытка привлечь внимание людей хоть кирпичик, хоть песчинку в этой нашей драме сдвинут в нужную сторону, ей Богу, можно сказать, жили не зря. Я своим студентам за 35 лет много успела передать, я знаю своих бывших учеников, это замечательные мыслящие, умные, образованные люди. Среди них есть историки, есть и неисторики. Но они подвижны и растут по службе. История не мешает, а помогает. Вообще, если бы я была за насилие, я бы всех насильственно учила духовной истории. Прямо насильственно. Это не испортило бы людей.
– Духовная история важней истории политики?
– Нет, будут, конечно, говорить и о Ельцине, и о Горбачеве, но думаю,
что о Солженицыне, Бродском будут говорить больше. А Ельцин, Горбачев
и другие политические деятели станут той самой рамкой, в которой творилось
нечто великое. А политики будут чем? Они будут фоном.
– Но все-таки это будет позитивный или негативный фон?
– Я, например, убеждена, что со временем Михаил Сергеевич Горбачев, при
любом к нему отношении, останется в истории в силу одного своего тезиса
– «общечеловеческие ценности выше классовых». Почему западный мир прокричал
истерически: «Горби! Горби!»? Западный мир избавился от страха, от великого
страха, что завтра «империя зла» взорвет себя и всех остальных… А сколько
потом всякого и разного Горбачев наделал… А вот этот тезис все равно останется
в истории.
– А чем запомнится потомкам Борис Николаевич?
– Ельцин останется в истории, я думаю, защитой Белого дома. Когда мы увидели
его на танке, вряд ли у кого-нибудь были сомнения в том, что это харизматичный
лидер. Все, что было потом, мы очень хорошо знаем. Знаем его личные недостатки,
назовем их так: глупости, которые он делал.
– Глупости на закате правления всем нашим правителям
были свойственны.
– А это уже явное одряхление мозга, что тоже не случайно. Мозг должен
быть очень натренирован, чтобы не одряхлеть, а у современных политиков
образование не самое утонченное. Потом это изменится. Будут люди типа
Горчакова, Витте, Столыпина, а сейчас у большинства лидеров партийные
школы позади, винить их в этом нельзя.
– Нужно закончить на оптимистической ноте. Надеюсь, вы
не собираетесь в ближайшее время прекращать передачу на радиостанции «Эхо
Москвы»?
– Я не имею права на полный ответ, потому что главный редактор радиостанции
– Алексей Алексеевич Венедиктов. Но я бы хотела, чтобы передача жила столько,
сколько хватит сил, энергии, знаний. Один очень наивный человек спросил
у меня: «А сколько еще наберется таких персонажей, о которых стоит рассказать?»
Бесконечно! У человечества им несть числа. Конечно, легче говорить о близких
мне временах, никогда не возьмусь за ХХ век: это почти политика. Но там,
в глубинах, близких мне глубинах веков, эти сокровища неисчерпаемы. Ведь
мы даже не говорили еще, например, о фараоне Эхнатоне, о царице Хатшепсут,
о зодчих, которые увековечили их красоту. Не говорили и о раннем христианстве.
Да Боже мой, дна не увидишь…
Источник: www.esj.ru/.../april_2007/natalja_basovskaja/
Ольга Кирий

Ольга Кирий всю жизнь мечтала стать актрисой, даже снялась в фильме Самсона Самсонова "Танцплощадка". После школы поступала на актерское отделение ЛГИТМиКа в класс Льва Додина. Закончила Тамбовский филиал Московского института культуры, отделение театральной режиссуры. На студенческой сцене сыграно немало ролей, среди которых - Оливия в "Двенадцатой ночи" Шекспира. Затем - работа на телевидении в Минеральных Водах. Приходилось быть и режиссером, и корреспондентом, и оператором, и ведущей информационной программы.
"Считаю, что здесь меня научили работать. Думаю, что самое главное в профессии - уметь добывать информацию, не сидеть, сложа руки, ожидая, когда произойдет событие. Интересных тем очень много, их нужно только найти. Важно сделать сюжет так, чтобы людям было интересно его смотреть, даже если "тема не тянет", а это уже зависит от корреспондента. А уж если репортаж "запал" кому-то в душу то это настоящая победа!"

В России не редкость, когда именно милиционеры, которые должны защищать людей, нападают на журналистов. Но редкий случай, когда журналист пытается восстановить справедливость. Стоит так же добавить, что это не первый случай с Ольгой Кирий: год назад, 3 апреля, на нее напали в Пятигорске, но дело тогда замяли. Теперь Ольга решила бороться, и прокуратура Северной Осетии возбудила уголовное дело по факту воспрепятствования журналистской деятельности журналиста.
5 апреля начался судебный процесс, который уже дважды переносился. На связи со мной из Пятигорска адвокат Ольги Кирий Владимир Геворков. Но прежде познакомьтесь с репортажем нашего корреспондента во Владикавказе Аллана Цурубаева.
Аллан Цурубаев: «Он затащил меня в кабинет, ударил, я упала на кушетку, микрофон вылетел из рук», - рассказала Ольга Кирий сразу после инцидента, случившегося в Центральной клинической больнице Владикавказа. Съемочная группа Первого канала приехала в больницу снимать репортаж о раненых во время двух терактов в залах игровых автоматов города. Свой репортаж Ольга Кирий сделала, после чего в прямом эфире рассказала о нападении. По словам журналистки, в одном из кабинетов, где Ольга Кирий пыталась найти врача, она натолкнулась на трех милиционеров, которые вели себя очень агрессивно, стали кричать и отталкивать журналистов.
После этого журналистку затащили в процедурный кабинет, где в этот момент никого не было, и закрыли дверь изнутри. Как утверждает Ольга Кирий, один из них принялся избивать ее кулаками и ногой, бил по лицу и в живот, двое других молча наблюдали за происходящим. Избиение продолжалось до тех пор, пока на крики не сбежались люди. Ольге Кирий был поставлен диагноз «сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей». Журналистка также настаивает на том, что нападавшие были в нетрезвом состоянии.
Спустя несколько дней был задержан основной подозреваемый, старший лейтенант Георгий Тотоев, суд над которым начался во Владикавказе на прошлой неделе. Сотрудник милиции обвиняется по двум статья Уголовного кодекса России: «Превышение должностных полномочий с применением насилия» и «Воспрепятствование законной деятельности журналистов». По этим статьям подсудимому грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. Родственники подсудимого встретили журналистов, пришедших освещать процесс, оскорбительными выкриками. Сама Ольга Кирий ранее уже заявляла, что на нее со стороны родственников Тотоева оказывается давление, ее не раз просили забрать заявление из суда и угрожали.

Получилось так, что чуть ли не виновата Ольга Кирий, что ее избили. Два сотрудника милиции, которые могли бы препятствовать этому, вообще не привлекаются, они даже к административной ответственности не привлекались. То есть мы как будто бы приехали кого-то наказывать, и нас общество не защищает. То есть представитель Первого канала приехал снять, показать людям, всему миру, что происходит в многострадальной, прекрасной стране, стране гор, где женщин вообще бить нельзя. Я вам скажу, что мама обвиняемого отреагировала, на мой взгляд, очень верно и красиво, она сказала: «Если действительно установится, что мой сын бил женщину, у нас это вообще в роду, в семье, в нашей республике не принято, то пусть сидит».
В настоящее время дело об избиении корреспондента Первого канала Ольги Кирий закончено, и избивший её милиционер осуждён. Я специально не указываю: на сколько и по какой статье. Важно другое – создан прецедент. Только остановит ли это других мужчин, осмелившихся поднять руку на женщин, стариков, детей, то есть тех, кто слабее и кого они были бы обязаны защищать? В современной России ответить на этот вопрос однозначно нельзя.
Источник: http://www.attacks.cjes.ru/?p=6&id=4422 (сокращено)
Искусство менди (мехенди)
В течение пяти тысяч лет индийские женщины украшали свои руки и ноги специальными узорами, искусство нанесения которых со временем превратилось в одну из самых узнаваемых примет Индии. Нанесение на тело узоров хной - это древнейшее искусство, место которого в роскоши гаремов, среди мелодичного журчания фонтанов и сладкого аромата роз. Именно в Индии и Средней Азии это искусство достигло своего настоящего апогея. Но зародилось оно еще в Древнем Египте, где женщины проводили многие часы за украшением своего тела.

Мехенди - это роспись по телу хной. В XII веке она закрепилась в Индии,
став не только лишь украшением. Целебные свойства хны сохраняют мягкость
кожи, несмотря на тяжелый физический труд.Раскрашивание рук и ног не производится
без разбора, а подчинено строго определенным традициям – в зависимости
от времени года, праздников, торжественных церемоний. Изысканный узор
приковывает взгляд к изящным движениям рук во время исполнения танца.
Волнующий аромат разжигает страсть мужчины. Именно поэтому в старину перед
свадьбой на руках и ногах невесты рисовали хной различные узоры и орнаменты,
которые по преданиям охраняют брак. Так во время свадьбы невесту расписывают
рисунком, а оставшуюся хну закапывают в землю, чтобы защитить брак и избежать
неверности мужа.
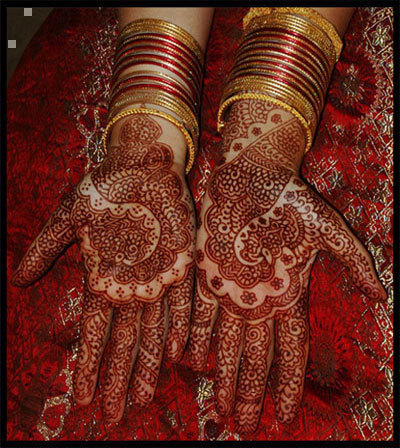 |
 |
Этот узор на свадьбе имеет большое значение! Именно
поэтому, просматривая индийские фильмы, иногда сталкиваешься с картиной
- будущая невеста сидит в окружении девушек и женщин, протянув им свои
руки. Одна группа над ними колдуют, а другая - развлекает невесту. Чем
богаче, изысканнее, утонченнее узор на руках и ногах, тем красивей считается
невеста и тем богаче будет жизнь с ней, и не только в материальном плане.
В отличие от татуажа менди не причиняют никакого вреда здоровью, держатся
на теле от двух до четырех недель и являются одним из самых модных индийских
аксессуаров. Впрочем, отныне элегантные узоры восточные узоры украшают
не только индийских красавиц, но и звезд Голливуда.
 |
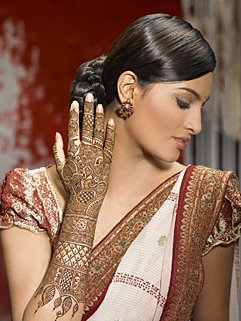 |
В числе поклонниц нового аксессуара Деми Мур, Мадонна,
Наоми Кэмпбелл, Дрю Берримор и бесчисленное количество других звезд и
звездочек американского кино.Не удивительно, что этот модный аксессуар
стремительно перекочевывает в арсенал европейских модниц, украшая не только
руки и ноги, но и шею, грудь и другие, более пикантные части тела.
Интересно то, что листья кустарника лавсония (Lawsonia Inermis),собранные
с верхних веток, имеют более интенсивные красящие свойства и собираются
именно для живописи по телу, остальные же листья измельчаются более крупно
и предназначаются для окраски волос и ногтей.
Отсюда следует вывод, что для рисования на теле нельзя использовать обычную
хну, которая продается как краска для волос. Для этого существуют специальные
наборы, которые содержат и порошок(или пасту в тюбике), и масло для обработки
кожи, и даже трафареты.
Наносят рисунок сначала на специальную пленку фломастером. Еще влажный
рисунок накладывают на кожу, а отпечаток обводят хной. Рисунок наносят,
по меньшей мере, дважды. Хна должна сохнуть не менее часа: в этом случае
цвет обещает быть максимально интенсивным. После того, как рисунок высохнет,
избыток краски убирается.
Источник: http://www.botinok.co.il/node/54670
Кончита
Донна Мария де ла Консепсьон Марселла Аргуэльо родилась 10 февраля 1791 года. По воспоминаниям современников, Кончита отличалась от других живостью и жизнерадостностью, своими воспламеняющими любовь глазами, белоснежной улыбкой, выразительными и приятными чертами, стройностью фигуры и природной добротой. Доктор Георг Лангсдорф, участник первого русского кругосветного путешествия и экспедиции в Калифорнию, натуралист и личный врач Резанова, так описывает ее в своем дневнике: «Она выделяется величественной осанкой, черты лица прекрасны и выразительны, глаза обвораживают. Добавьте сюда изящную фигуру, чудесные природные кудри, чудные зубы и тысячи других прелестей. Таких красивых женщин можно сыскать лишь в Италии, Португалии или Испании, но и то очень редко».
 |
|
С того времени, поставя себя коменданту на вид близкого
родственника, управлял я уже портом Католического Величества так, как
того требовали и пользы мои, и Губернатор крайне изумился, увидев, что
весьма не в пору уверял он меня в искренних расположениях дома сего и
что сам он, так сказать, в гостях у меня очутился. ...Миссии наперерыв
привозить начали хлеб и в таком количестве, что просил уже я остановить
возку, ибо за помещением балласта, артиллерии и товарного груза не могло
судно мое принять более 4500 пуд, в числе которых получил я сала и масла
470, и соли и других вещей 100 пуд».
Историк Российско-американской компании Петр Тихменев в 1861 году так
писал об отношениях Резанова и Кончиты: «Резанов, заметив в Консепсии
независимость и честолюбие, старался внушить этой девице мысль об увлекательной
жизни в столице России, роскоши императорского двора и прочем. Он довел
ее до того, что желание сделаться женою русского камергера стало вскоре
любимою ее мечтою. Первый намек со стороны Резанова о том, что от нее
зависит осуществление ее видов, был достаточен для того, чтобы заставить
ее действовать согласно его желания». Пообещав Кончите вернуться через
год, когда будет получено разрешение Папы и российского императора, Резанов
покинул Калифорнию. «Юнона» привезла в Ново-Архангельск 2156 пудов пшеницы,
351 пуд ячменя, 560 пудов бобовых, и, разгрузившись, с Резановым на борту
направилась в Охотск.
«Лета 1831-го августа 16-го дня воздвигнут иждивением Российско- Американской
Компании в ознаменование незабвенных заслуг, оказанных ей Действительным
камергером Николаем Петровичем Резановым, который, возвращаясь из Америки
в Россию, скончался в городе Красноярске 1-го марта 1807-го года, а погребен
13 числа того же месяца» Николай Резанов cобрался с отчетом в Санкт-Петербург,
но до столицы не доехал - умер в Красноярске в марте 1807 года. Прямых
потомков Резанова по мужской линии после смерти его детей не осталось.
Существовали женская псковская линия от сестры Екатерины Петровны (1771-1812)
по мужу Корсаковой, а также, видимо, линия от дочери Ольги по мужу Кокошкиной.
Многие из родственников Резанова, включая Ольгу Николаевну и её мужа,
были похоронены в Аннинском (ныне несуществующее село в Псковской губернии,
основаное Резановым в 1800 году и названное им в честь жены). Здесь же
обрела покой и мать Резанова Александра Гавриловна (около 1741 - не ранее
1807).
Младший брат Резанова Александр Петрович скончался в
1853 году в возрасте 83 лет и был похоронен при той же церкви Тихвинской
Божией матери в селе Аннинском. О среднем брате Дмитрии Петровиче, который
в начале 1790-х годов служил в Пскове, сведений пока не обнаружено.
Памятник и церковь, в пределе которой был похоронен Николай Резанов, были
разрушены в 1954 году, во время строительства Концертного зала.
Через год, в 1808 году, в письме брату Кончиты, дону Луису Аргуэльо, главный
правитель Русской Америки Александр Баранов сообщил о смерти Резанова
и освободил Кончиту от данного ею обещания1. Но Кончита свободой не воспользовалась.
До 1829 года ее судьба связана с судьбой родителей. Вместе с ними она
переезжает из Сан-Франциско в Санта-Барбару, оттуда в Лорето, из Лорето
- в Гвадалахару и затем возвращение в Санта-Барбару. Всю свою жизнь донна
Консепсьон посвятила благотворительности и обучению индейцев. В Новой
Калифорнии ее называли La Beata (Благословенная).
В начале 1840-х годов донна Консепсьон поступила в третий Орден Белого Духовенства. После основания в 1851 году конвента (монастыря) Св. Доминика она приняла монашеский сан под именем Мария Доминга. Вместе с монастырем она переехала в Беницию, где и встретила свою смерть 23 декабря 1857 года. Ее тело было захоронено на кладбище монастыря, а в 1897 году перенесено на специальное кладбище Ордена Святого Доминика. «Консепсион оказалась не только внешне прекрасной, своевольной и страстной женщиной. Она оказалась сильной духом, способной вынести все с гордо поднятой головой и без жалоб и компромиссов прийти к своему горькому концу», - так напишет о первой красавице Калифорнии американский писатель Гектор Шевиньи в романе «The Lost Empire. The Life and Adventures of Nikolai Petrovich Rezanov».
В своем последнем письме от 24 -26 января 1807 года своему свояку, директору РАК Михайло Булдакову Резанов так отзывается о своей калифорнийской невесте: «Из моего калифорнийского донесения не сочти меня, мой друг, ветреницей. Любовь моя у вас, в Невском под куском мрамора, а здесь – следствие ентузиазма (орфография Резанова.- Авт.) и очередная жертва отечеству. Контенсия мила, добра сердцем, любит меня, и я люблю ее и плачу, что нет ей места в сердце моем». Подобное замечание сделал в своем дневнике доктор Лангсдорф: «Все-таки надо отдать справедливость оберкамергеру фон Резанову, что при всех своих недостатках он все же отличается большими административными способностями. И не все человеческое ему чуждо. Можно было бы подумать, что он уже сразу влюбился в эту молодую испанскую красавицу. Однако, в виду присущей этому холодному человеку осмотрительности, осторожнее будет допустить, что он просто возымел на нее какие-то дипломатические виды».
Источник: http://america-xix.org.ru/russkie/rezanov.php (сокращено)
Жоржетта Бергер-Магритт

Рене Магритт (Rene Magritte), бельгийский художник-сюрреалист.
Родился 21 ноября 1898. С 1916 по 1918 Магритт обучался в Королевской
Академии искусств в Брюсселе (Academie Royale des Beaux-Arts). По окончании
работал оформителем обоев и художником по рекламе. Ранние работы Магритта
были выполнены в в стиле кубизма и футуризма под влиянием Фернана Леже.
В 1922 Магритт вступил в брак с Жоржеттой Бергер, с которой
познакомился в пятнадцать лет. После свадьбы она стала единственной моделью
для его картин.
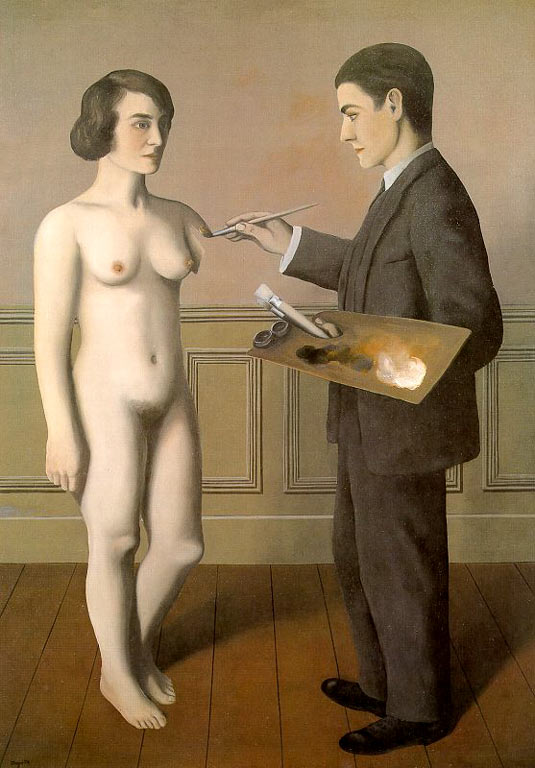
Знакомство с метафизической живописью Джорджа де Кирико и поэзией Dadaistic
было важным поворотным пунктом для творчества Магритта. В 1925 Магритт
входит в группу дадаистов, сотрудничает в журналах "Aesophage"
и "Marie" вместе с Жаном Арпом, Пикабия, Тцара и другими дадаистами.
В 1925-1926 Магритт написал "Оазис" и "Затерянного жокея"
- свои первые сюрреалистические картины. В 1927-1930 Магритт проживал
во Франции, участвовал в деятельности группы сюрреалистов, тесно сблизился
с Максом Эрнстом, Дали, Андре Бретоном, Луи Бунюэлем и особенно с Полем
Элюаром.
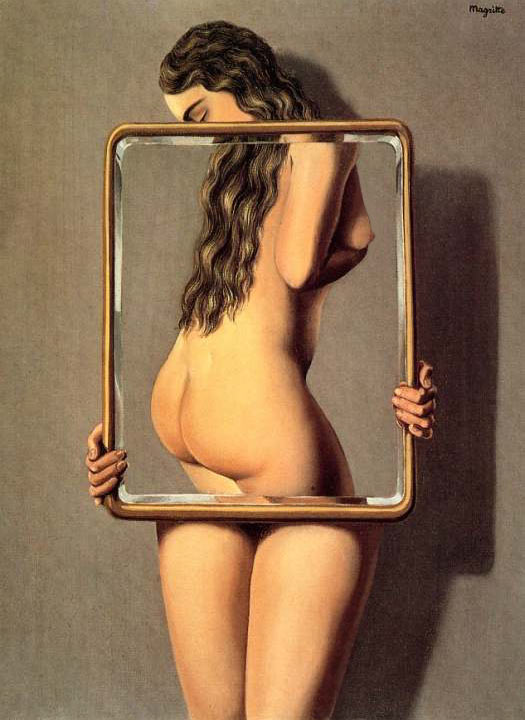
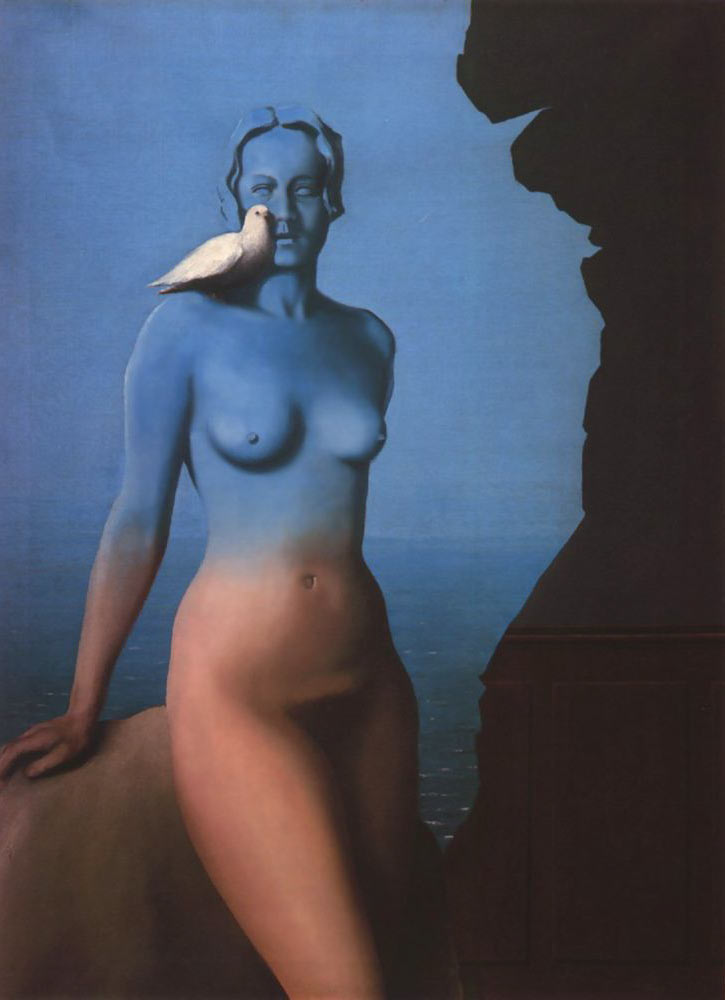
В Париже система концептуальной живописи Магритта окончательно сформировалась
и осталась почти неизменной до конца его жизни. В картинах художника постоянно
присутствует ощущение напряженности и таинственности ("Компаньоны
страха", 1942; "Объяснение", 1954; "Букет слез",
1948). Странный ночной пейзаж блестит под освещенными дневным светом небесами
("Империя света", 1954). Магритт мастерски создавал контраст
между прекрасно выписанными странными сочетаниями ирреальных предметов
и естественным окружением, с этой целью он активно использовал в своих
полотнах символы зеркал, глаз, окон ("Фальшивое зеркало", 1935;
"Ключ к пространству", 1936; "Прекрасный мир", 1962).
Увлечение Магритта философией и литературой нашло отражение во многих
его картинах, напр. "Гигантесса" (по Бодлеру), 1929-1930; "Область
Арнхейм" (по Эдгару По), 1938.

В 1940-х Магритт попытался изменить свой стиль живописи. Но так называемые
периоды “plein-soleil” в 1945-1947 и “epoque vache” в 1947-1948 годах
не оказались сколь нибудь эффективными и художник вернулся к своей манере
письма. В 1950-х годах Магритт выполнил два цикла фресок: "Пространство
очарования" для казино Knokke-le-Zut (1953) и "Несведущая фея"
(1957) для Palais des Beaux-Arts в Шарлеруа.
Рене Магритт умер 15 августа 1967 года в Брюсселе от рака в возрасте 69
лет.
Источник: http://smallbay.ru/magritte.html
Майя Туровская
Майя Туровская - киновед, культуролог и сценарист, лауреат Международной премии Станиславского, ведущий научный сотрудник НИИ киноискусства. М.И.Туровская в 2008 году удостоена специальной премии "Ника" "За вклад в кинематографические науки, критику и образование". Этой почетной наградой киноакадемики отметили многолетнюю литературную, исследовательскую и популяризаторскую деятельность Туровской.
 |
|
Через сорок лет после премьеры "Обыкновенного фашизма", в 2006 году, увидела свет одноименная книга, посвященная фильму. Все это время уже готовый макет хранился в фондах Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ). Майя Туровская вновь заявила о своем неприятии человеконенавистнических и шовинистических идей, неожиданно получивших широкое распространение в современной России: "Меня всегда поражали эти молодые русские люди, которые надевают свастику, не понимая того, что они предназначались в рабы великой Германии. До чего же нужно презирать свой народ или не знать историю, чтобы преклоняться перед идеями тех, кто прочил истребление и рабское ярмо ему, твоему народу!"
Последние годы Туровская живет в Мюнхене, много печатается, выступает с лекциями по истории кино, участвует в работе кино- и театральных фестивалей.
Источник: http://www.lenta.ru/topics/nika2008/turovskaya.htm
Елена Гинзбург
А начиналось всё так:
День рождения "Вокзала"
27.01.2003 / 19:02
Центру авторской песни «Вокзал» исполнилось два года. Поздравить ребенка приехали гости из Перми и Иваново. За время существования центр «Вокзал» стал местом встречи любителей авторской песни со всей России. Именно за этим столом и родилась идея создания центра авторской песни «Вокзал». Мамой ребенка стала Елена Гинзбург.
Е. Гинзбург («мама» центра авторской
песни «Вокзал»): « Название символично. Здесь на самом деле вокзальная
атмосфера».
За два года центр «Вокзал» стал любимым местом сбора любителей авторской
песни. А квартира Елены Гинзбург превратилась в творческую мастерскую.
Здесь строят планы на будущее. О центре, говорят не иначе, как о ребенке,
которому еще расти и учиться.
Е. Гинзбург («мама» центра авторской песни «Вокзал»):
«Он обязательно пойдет в школу и станет творческим человеком, правда ему
предстоит учить экономику, так как в наше время без нее никуда».
На день рождения приехали гости из Перми и Иваново.
С пермяками у кировчан давняя дружба. Здесь шутят, что дружат не только
семьями, но и домами и улицами. Впрочем, в доме Елены Гинзбург рады любому
гостю. И каждый из них создает свое настроение.
Н. Кислухин (г. Пермь): «Я думаю я создаю хорошее настроение».
Представители центра авторской песни «Вокзал» стали организаторами фестиваля
«Гринландия». Недавно они воплотили в жизнь проект «Поющие улицы». Идей
здесь много. Их постепенно воплощают в жизнь.

Потом было вот что:
Клуб авторской песни “Вокзал” вручил премии “Белое перо”
Были подведены итоги. Год прошел ярко и заметно: беспрецедентную акцию «Поющие улицы» помнят многие жители города. Выступив одним из организаторов фестиваля авторской песни «Гринландия Новый век», «Вокзал» вывели его на качественно новый уровень. Фестиваль стал окружным и собрал более 5 тысяч человек на праздник музыки на поляне в Бошарово. Год назад благословение клубу дал такой мэтр авторской песни, как Александр Городницкий. С тех пор бард-кафе (кафе «Метро» в кинотеатре «Алые паруса») каждый вторник проводило концерты кировских бардов, гостей со всех уголков страны. Этот праздник любители авторской песни отметили альтернативной церемонией вручения премии «Белое перо». Начальник «Вокзала» Илья Оленев и стрелочник Елена Гинзбург собрали на сцене уже полюбившихся кировских авторов, исполнителей, поэтов, бардов.

Прозвучали в слова благодарности в адрес тех, кто поддерживал
и помогал клубу не просто выжить, но и жить весело. Это Роман Зянчурин,
Ольга Гусарова, Татьяна Клестова, Илья Васин и многие другие. Примечателен
тот факт, что впервые на концерте присутствовал чиновник. С поздравлениями
и подарками пришла Валентина Берендюгина, начальник управления культуры
администрации города. По словам Сергея Ворончихина, одного из отцов-зачинателей
клуба, давшего ему имя: «Авторская песня привлекает, прежде всего, искренностью.
Уровень же мастерства многих авторов и исполнителей становится выше».
Самым главным достижением, Елена Гинзбург, руководитель бард-кафе, считает
то, что «клуб стал известен, и у него появилось огромное количество друзей».
Следующий год деятельности клуба будет отмечен созданием Центра авторской
песни, документы некоммерческого партнерства (такую форму будет иметь
новая НКО города) уже проходят регистрацию.
Источник: http://ngo.kirovnet.ru/klub-avtorskoj-pesni-vokzal-vruchil-premii-beloe-pero
Страна Грина становится Страной
«гринов»
Набирающая обороты коммерциализация фестиваля бардовской песни в Бошарово
приводит к вырождению его идеи. И, может быть, станет причиной его закрытия.
По мнению руководителя Клуба авторской песни «Вокзал» Елены Гинзбург,
которая была творческим организатором этого мероприятия, фестиваль прошел
успешно:
- Все удалось. Вся программа выполнена. Все прошло на редкость спокойно,
без происшествий. И даже такое форс-мажорное обстоятельство как гроза
не повлияло как-то существенно на нормальный ход фестиваля. Можно также
сказать, уровень фестиваля растет. Поскольку все, с кем приходилось разговаривать,
отмечают, что уровень и гостей, и кировских исполнителей, и всех прошедших
концертов на этот раз был более высоким, чем в прошлые годы.
Победителей или лауреатов нынче решено было не определять.
Принять участие в концертах могли все желающие. Исключение составил лишь
гала-концерт, в котором участвовали 27 человек: признанные мастера авторской
песни Андрей Козловский, Александр Сафронов, Шухрат Хусаинов, Владимир
Каденко, Дмитрий Дихтер и представленные ими лучшие исполнители из числа
прошедших через мастер-классы. В общем, как считает Елена Гинзбург, фестиваль
становится все интереснее.
Между тем слухи, что барды, которым претит положение бедных родственников
на собственном празднике, подыскивают другое место для проведения своих
фестивалей, занимают, пожалуй, первую строчку в рейтинге новостей, наиболее
активно обсуждаемых на сей раз грин-ландскими старожилами.
Гриновской романтикой и романтиками на берегу Быстрицы теперь почти не пахнет. Порядка и «цивильности», возможно, стало больше: даже за дровами в лес уже не нужно ломиться - их можно просто купить. Зато безвозвратно ушло и то, что составляло сам дух, изюминку этих фестивалей, напоминавших, по образному выражению одного из бардов, «большое братство под открытым небом». Уж больно разный по социальному статусу, по интересам, по карману, наконец, народ стал собираться в последние год-два на берегу Быстрицы. По сравнению с предыдущими годами, нынче население «Гринландии» сократилось почти вдвое: с 30 до 17 тысяч человек. Изменился и его качественный состав. Знакомых по прежним годам лиц стало гораздо меньше. А среди легко фиксируемого аборигеновским глазом поголовья вновь прибывших явно превалировали те, кому вся эта самая «бардовская нудистика», мягко говоря, до лампочки.
Кто, прихватив вместо гитары магнитофон, просто приехал
оттянуться: покупаться, позагорать, попить пивка и поесть шашлыков. Как
раз для такого контингента теперь в Бошарово созданы все условия, начиная
с выездной торговли, ассортимент которой в этом году значительно пополнился.
Самым романтичным из всего увиденного, услышанного, прочувствованного
оказалась не входившая в планы организаторов гроза, которая разразилась
с субботы на воскресенье. К счастью, стихия пока не подчиняется власти
денег и по-прежнему неуправляема. А иначе и такой «романтики», как сверканье
молний, раскаты грома, шквальный ветер и надувшаяся от него, словно парус,
палатка, по которой барабанят струйки дождя, - здесь, наверное, тоже б
не было.
Елена КРАСНОПЕРОВА, «Вятский наблюдатель», 23 июля 2004
г.