Ирина Крутова

ИРИНА КРУТОВА – певица, исполнительница старинных и современных русских романсов, лауреат международных конкурсов. Имя Ирины Крутовой впервые прозвучало на Международном конкурсе молодых исполнителей русского романса "Романсиада-2002". Тогда молодая, 21-летняя студентка музыкального института им. Ипполитова-Иванова не только стала лауреатом одного из самых авторитетных современных конкурсов, но и привлекла к себе пристальное внимание музыкальной общественности столицы. Ее нежный серебристый голос, чуть напоминающий голос звезды голливудских музыкальных фильмов Дины Дурбин, природный актерский талант, южный темперамент (Ирина родом из казачьей станицы в Ростовской области) и особая одухотворенность исполнения позволяют надеяться, что в романсовый мир входит новая интересная творческая личность.
Подготовка множества самых разнообразных концертных программ, постоянные
выступления на малых и больших сценах столицы сделали имя Ирины Крутовой
узнаваемым и любимым многими москвичами. Концерт в прославленном Зале
им. Чайковского - итог этой работы и новая точка отсчета в творческой
биографии певицы.
Сегодня, на смене эпох, зритель словно вновь открывает для себя великое
искусство русского романса: рождается новая, яркая и современная плеяда
мастеров вечно любимого жанра, и Ирина Крутова имеет все основания занять
в ней свое особое место.
Художественный руководитель Международного конкурса молодых исполнителей
русского романса "Романсиада"
Галина ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ

КРУТОВА Ирина Витальевна, родилась 29 августа 1980 г. в Волгодонске Ростовской области. Окончила детскую школу искусств, затем Новороссийское музыкальное училище им. Д.Д.Шостаковича (по специальности дирижер академического хора). Донская казачка, станичница, Ирина с детства впитала в себя живительную духовную силу, особую энергетику малой Родины и красоту южных рубежей России. Петь Ирина начала с самого раннего детства - выступала в различных конкурсах, фестивалях, телевизионных смотрах, праздничных концертах и мероприятиях как сольно, так и в составе различных коллективов. Ирина Крутова - победитель детских и юношеских конкурсов: «Олимп», «Золотой ключик» – телевизионный конкурс ГТРК «Кубань», Победительница (Золотой призер) первых Международных Дельфийских игр (Саратов, 1999г.), Международного фестиваля «Морской узел» и мн.др. Как солистка народного камерного хора «Элегия» выступала на международном конкурсе им.Орландо Лассо в Италии (Рим, Ватикан – I премия). После окончания музыкального училища поступила в Ростовскую государственную консерваторию им.С.В.Рахманинова. Затем продолжила обучение в Москве, в Государственном Музыкально-Педагогическом Институте им.М.М.Ипполитова-Иванова (класс народного артиста Казахстана Исакова Е.И.).

Ирина Крутова – лауреат многочисленных фестивалей, дипломант Всероссийского
конкурса вокалистов им.Обуховой, участница Всероссийского конкурса вокалистов
им.Глинки. Одним из наиболее важных результатов участия в многочисленных
конкурсных баталиях Ирина Крутова считает победу в Международном конкурсе
молодых исполнителей русского романса «Романсиада - 2002». Ирина завоевала
I премию в региональном этапе конкурса в Могилеве (Белоруссия) и II премию
в финальном состязании конкурса, проходившем в Колонном Зале Дома Союзов
в Москве. С этого момента начинается отсчет новой творческой линии в жизни
Ирины Крутовой – она завоевывает не только почетные призы и награды авторитетного
жюри, но и любовь, и признание зрителей и статус «восходящей звезды русского
романса». И, пожалуй, важнейший итог победы Ирины Крутовой в Романсиаде
– знакомство и начало совместной работы с основателем и бессменным руководителем
этого конкурса, Заслуженной артисткой России Галиной Преображенской. Блестящий
эрудит, великолепный музыкант, чуткий и опытный наставник, Галина Преображенская,
веря в Ирину и понимая масштаб ее таланта, выступает инициатором и режиссером
первой сольной большой концертной программы Ирины Крутовой в одном из
самых престижных залов страны.

Вечер старинного русского романса «Помни обо мне» – сольный концерт Ирины
Крутовой состоялся 15 марта 2005 г. в Концертном зале им. П.И.Чайковского
(Московская государственная академическая филармония). В триумфальном
выступлении Ирины приняли участие именитые музыканты: Виктор Фридман (Заслуженный
артист России, фортепиано), музыкальное приветствие из Северной Венеции
восходящей звезде русского романса блестяще озвучил филигранным аккомпанементом
Михаил Аптекман (Заслуженный артист России, фортепиано, Санкт-Петербург).
А во втором отделении концерта слушатели были очарованы чутким, объемным
и завораживающим звучанием ансамбля солистов Национального Академического
Оркестра Народных Инструментов России им. Н.П.Осипова (под управлением
Дмитрия Дмитриенко). Поддержать Ирину в первом большом сольном концерте
на одной из главных концертных площадок страны пришли коллеги - «Романсиадцы»:
Алексей Кудря (тенор, солист Московского академического музыкального театра
им.К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко), Арсен Согомонян (баритон,
солист Ереванского государственного академического театра оперы и балета
им. Спендиарова) и Григорий Яковлев (баритон, Курск).

Знаменательно, что в концерте принял участие народный
артист России, лауреат Государственной премии Аристарх Ливанов – именно
он один из первых (будучи членом жюри Романсиады) заметил незаурядный
талант Ирины как певицы и драматической актрисы. Выступая в финальной
части концерта он сказал со сцены такие слова: Задача искусства – делать
человека выше, добрее, тоньше! И эта задача сегодня решена! Сегодня состоялся
экзамен «Романсиады», романса, русской культуры и Ирины Крутовой. После
этой победы она может носить звание, которое мы ей сегодня подарим, –
Национальное достояние России! Такие звезды делаются не на «Фабрике звезд»,
– подчеркнул Ливанов.
Концертная программа, представленная в зале Чайковского оказалась такой
яркой, что она неоднократно исполняется в дальнейшем на других площадках
Москвы. Более того, исполнительница романсов Ирина Крутова получает всероссийское
признание – сольные концерты и выступления Ирины проходят в Казани, Дзержинске
(Нижегородская область), Кирове, Нижнем Тагиле, Ярославле, Уфе, Североморске,
Саратове, Казахстане и в др. городах. Романсы в исполнении Ирины Крутовой
хотят слушать и моряки-подводники и ученые и простые поклонники этого
дивного, душевного жанра.

География выступлений Ирины и аудитория удивляют своим многообразием, талантливой певице удается покорять сердца сильных мира сего – не случайно Ирину приглашали выступать перед Президентом Казахстана в его личной резиденции. С не меньшей легкостью талант Ирины Крутовой убеждает и самых неискушенных слушателей - с большим успехом выступления Ирины на самых необычных концертных площадках – на подводных лодках (в Североморске), а также в военных городках (ракетные войска в Нижнем Тагиле). Все чаще в прессе Крутову именуют «московской звездой русского романса», но творчество Ирины не исчерпывается только романсом. Ей подвластна и оперная стихия, что доказало ее блистательное выступление в Большом зале консерватории на юбилейном концерте, посвященном 145-летию со дня рождения М.М.Ипполитова-Иванова и 10-летию ГМПИ им.Ипполитова-Иванова (5 апреля 2005 г.). Среди звездных выпускников, поздравлявших альма-матер в число которых входили: Екатерина Шаврина, Анна Литвиненко, Александр Малинин, Ирине Крутовой была доверена честь представить настоящее вокальной кафедры родного ВУЗа. Экспрессивное, драматически-наполненное богатыми тембровыми красками и филигранными вокальными переходами исполнение Ириной Крутовой арии Джоконды из одноименной оперы Понкъелли повергло зал в неистовство оваций.
Помимо исполнительской деятельности Ирина иногда выступает в роли режиссера
(программы «Война глазами женщины» и др.). В 2007 г. выступая с ансамблем
солистов Национального Академического Оркестра Народных Инструментов России
им.Осипова под управлением Дмитрия Дмитриенко на международных Глинских
чтениях, проходящих в зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя Ирина
Крутова была удостоена звания «открытия года» Народного радио. Символично,
что вел церемонию награждения народный артист России Аристарх Ливанов,
который еще за год до этого (после сольного концерта Ирины в зале Чайковского)
отозвался об Ирине как о народном достоянии России.
В 2005 г. Ирина выпускает свой первый компакт-диск «Помни обо мне» (при
помощи благотворительного фонда «Романсиада»), а через год по многочисленным
просьбам слушателей новый музыкальный альбом «Под чарующей лаской твоею…».
Весомая страница творческой биографии Ирины Крутовой сотрудничество с
ярким музыкантом, блестяще владеющим джазово-импровизационным стилем аккомпанемента,
что необходимо при исполнении старинного романса, Заслуженным артистом
России, композитором и пианистом Виктором Фридманом. Концертмейстер легендарной
Аллы Баяновой, он настолько высоко оценил талант Ирины Крутовой, что специально
для нее сочинил несколько романсов, многие из которых уже успели полюбиться
московской публике и стать шедеврами романсового искусства XXI века. Концерты
Ирины в рамках абонемента Московской филармонии открыли поклонникам таланта
молодой звезды романса имя виртуознейшей пианистки, искусного аккомпаниатора
Оксаны Петриченко. Тонко чувствующая певческую природу, имеющая большой
опыт работы с вокалистами, обладающая безупречным вкусом Оксана Петриченко
добавляет своим филигранным аккомпанементом магический ореол звуков к
волшебству обаяния голоса Ирины Крутовой.
Ирина Крутова выступала с такими коллективами как: Государственный академический
симфонический оркестр Ростова-на-Дону (под управлением Равиля Мартынова),
Государственный Духовой оркестр России (под управлением Анатолия Уманца),
Национальный Академический оркестр народных инструментов России им. Осипова
(под управлением Николая Калинина) и др. Ирина Крутова ведет активную
концертную деятельность, постоянно выступает на центральных концертных
площадках Москвы, среди которых ГЦКЗ Россия, Колонный Зал Дома Союзов,
Концертный зал им. П.И.Чайковского, Большой зал Московской консерватории,
Государственный Кремлевский Дворец, Зал Церковных Соборов Храма Христа
Спасителя, Центральный Дом Ученых РАН, Центральный Дом Работников Искусств,
Российская академия музыки им.Гнесиных, Культурный центр Меридиан, Концертный
зал Политехнического музея, Симфоническая эстрада в Сокольниках (музыкальный
салон Галины Преображенской), Лемешевская поляна (Серебряный бор) и др.
В ближайшие творческие планы Ирины входит подготовка
нескольких программ: ретроспективы «советских романсов» - популярной киномузыки
XX века, оригинальной авторской программы этнической вокальной музыки,
запись этих программ на компакт-диски, подготовка и запись программы классического
русского романса. С 2007 года в оазисе романса в Москве - Доме Романса
Галины Преображенской Ирина Крутова начала новый проект – цикл концертов
«Золотые страницы русского романса» - тематические вечера романса, где
любителям романса и поклонникам творчества Ирины Крутовой представлена
своеобразная антология искусства романса.
Источник: http://www.irinakrutova.ru/biogr.htm
А вот статья из газеты «Красная звезда»:
Московского искушенного зрителя трудно чем-либо удивить. Слишком часто в столице гастролируют лучшие мировые исполнители и коллективы, да и повседневно выступают лучшие представители отечественной культуры. И если в будний мартовский вечер на концерт студентки 4-го курса Государственного музыкально-педагогического института им. М.М. Ипполитова-Иванова Ирины Крутовой до отказа заполняется концертный зал им. П.И. Чайковского, вмещающий 1.565 человек, то это действительно событие неординарное.
- Имя певицы Ирины Крутовой впервые прозвучало на Международном конкурсе
молодых исполнителей русского романса «Романсиада-2002». Тогда молодая
21-летняя студентка не только стала лауреатом одного из самых авторитетных
современных конкурсов, но и привлекла к себе пристальное внимание музыкальной
общественности столицы, – свидетельствует заслуженная артистка России
Галина Преображенская, художественный руководитель Международного конкурса
молодых исполнителей русского романса «Романсиада». – Ее нежный серебристый
голос, природный актерский талант, южный темперамент (Ирина родом из казачьей
станицы в Ростовской области) и особая одухотворенность исполнения позволяли
надеяться, что в романсовый мир входит новая интересная творческая личность.
Два года увлеченной работы дали первые ощутимые результаты. Подготовка
множества самых разнообразных концертных программ, постоянные выступления
на малых и больших сценах столицы с оркестром, которым дирижировал Анатолий
Иванович Полетаев, сделали имя Ирины Крутовой узнаваемым и любимым многими
москвичами. Концерт в прославленном зале им. П.И. Чайковского – итог этой
работы, первый сольный концерт на широкой публике и новая точка отсчета
в творческой биографии певицы.
Свою программу в зале П.И. Чайковского Ирина Крутова открыла знаменитым
задумчивым монологом актрисы Марии Пуаре «Я ехала домой». Затем прозвучал
шутливый романс «Голубое письмо» Оскара Строка и Игоря Северянина.
...Зал замер, завороженный прекрасным голосом певицы. Кому-то, возможно,
поначалу исполнение Ирины Крутовой напоминало Анастасию Вяльцеву или Дину
Дурбин, но после того, как она исполнила два романса Бориса Прозоровского
– на слова Б. Тимофеева «Огни заката» и на слова К. Подревского «Шелковый
шнурок» – эти сравнения отпали сами собой. Ирина Крутова не подражает
никому, она самодостаточная, неповторимая певица. И, кстати, именно выступая
с этими двумя последними романсами, Ирина Крутова стала лауреатом 2-й
премии Международного конкурса «Романсиада-2002». Тем не менее Ирина действительно,
видимо, не лишена влияния творчества звезды сцены начала XX века Анастасии
Вяльцевой, поэтому включила в свою программу два известных романса Николая
Зубова из ее репертуара: «Взгляд твоих черных очей» и на слова Николая
Мурзича – «Опьянела». Причем исполняла их Ирина, вживаясь в образ настолько
вдохновенно, что едва не упала, споткнувшись о стоящие на сцене корзины
с цветами.
Конечно, нет смысла перечислять все романсы, спетые в этот вечер молодой
певицей. И тем не менее впечатление от концерта будет неполным, если не
упомянуть тех, кого Ирина пригласила разделить с ней успех и кто выступил
на сцене концертного зала им. П.И. Чайковского. Это исполнившие партии
фортепиано заслуженные артисты России Виктор Фридман (Москва) и Михаил
Аптекман (Санкт-Петербург), ансамбль солистов Национального академического
оркестра народных инструментов России имени Н.П. Осипова, где солировали
лауреат международных конкурсов Дмитрий Дмитриенко (баян), солист Московского
академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко
Алексей Кудря (тенор), солист Ереванского государственного академического
театра оперы и балета им. А. Спендиарова Арсен Согомонян (баритон) и приехавший
из Курска Григорий Яковлев (баритон).
Ирина Крутова и благотворительный фонд «Романсиада» отдельно поблагодарили
за помощь в организации концерта вице-президента компании ТНК-ВР Владимира
Ругу.
- Задача искусства – делать человека выше, добрее, тоньше, – сказал, обращаясь
к Ирине Крутовой и залу, народный артист России Аристарх Ливанов. – И
эта задача сегодня решена! Сегодня состоялся экзамен «Романсиады», романса,
русской культуры и Ирины Крутовой. После этой победы она может носить
звание, которое мы ей сегодня подарим, – Национальное достояние России!
Такие звезды делаются не на «Фабрике звезд», – подчеркнул Аристарх Ливанов.
А вот что сказал по окончании концерта корреспонденту «Красной звезды»
педагог Ирины Крутовой в институте – профессор, лауреат международных
конкурсов, народный артист России Евгений Исаков:
- Ирина очень талантлива, – сказал Евгений Иванович, – с богатым «нутром».
Можно сказать, драматическая актриса при наличии великолепного голоса,
красивой внешности. То есть комплекс у нее – божественный! И сегодня ее
исполнение романсов для многих слушателей, полагаю, было откровением!
Дай бог, что это – звезда романса!
Автор: Сергей КНЯЗЬКОВ
Има Сумак
 |
|
Подручными были Деннис Хоппер и Джек Николсон. Может, после этого
он придумал категорию «B», а они сняли «Беспечного ездока»... Совершенно
невозможно себе представить, чтобы голос человека (точнее, женщины) мог
подниматься с таких низин до таких высот. Без фальцета, между прочим.
Композитор Люка Бессона Эрик Серра как-то рассказывал мне, как ему пришлось
обрабатывать на компьютере голос сербской певицы, чтобы исполнить все,
что он задумал в фильме «Пятый элемент». Все, что там звучит при помощи
процессора, могло бы звучать вживую, если бы Эрик знал, как найти Иму
Сумак.
Кто такая, черт побери, эта Има Сумак, самый уникальный вокал прошедшего
века?
Наверняка у нее характер не подарок, в чем, наверное, и убедились офицеры
КГБ, которым она устроила истерику в московской гостинице, где тараканов
было больше, чем «жучков». Вокруг масса вранья и мифов. Никто точно даже
не может объявить ее настоящую дату рождения, сошлись примерно на 1927
г. Ее настоящее имя Зоиля Аугуста Императриц Каварри Дель Кастильо, родилась
высоко в Андах и уже с детства собирала толпы народа своим пением.
«Учителей у меня не было. Единственный мой учитель -- это Има Сумак, --
говорит она о себе в третьем лице. -- Я сама поставила себе голос, когда
еще была маленькой девочкой». Конечно, она мифологизирует, потому что
ею занимался потрясающий музыкант Мозес Виванчо (затем ее муж). О разводе
она говорит только то, что все мужики кукушки. И Виванчо типичная кукушка.
Тем не менее именно эта проклятая кукушка Мозес Виванчо привез ее в США
из ее задрипанного Перу и устроил контракт с Capitol Records в 1950 году.
У менеджеров «Кэпитола» «крышу» снесло от ее возможностей. Но у Голливуда
свои законы, и г-жа Сумак предлагала экспортное прочтение песен инков
и прочих южноамериканцев. На диске Voice of Xtabay она пела голосами птиц,
которых слышала у себя в перуанской деревне. Этот диск безо всякой рекламы
стал бестселлером, а ее концерт в Голливуд Боул 12 августа 1950 года стал
легендой. Продюсером ее пластинок стал Алан Ливингстоун.
Она часто рассказывает, как от ее голоса лопались бокалы и струны на гитаре
ее бывшего мужа. Может, это ложная память, как у ветеранов на встрече
с пионерами, но это в любом случае похоже на правду.
Она могла бы петь в опере, но почему-то не стала. «Оперных певиц тысячи,
а я одна такая», -- поясняет Има. Она всегда боролась за свою «самость».
Когда ведущие агенты в Нью-Йорке говорили ей, как одеваться и какую носить
прическу, чтобы певицу было выгоднее продать, она вела себя как разъяренная
кобра. Она кричала: «Вы знаете, кто я такая? Я Има!» И контракты отменялись.
Она утверждает, что написала 5000 песен. Скорее всего врет. Потому что
все ее настоящие великие произведения написал ее бывший муж. А «Кондор
Пролетел» и вовсе Пол Саймон.
Потом она выпустила диск Yma Sumak The Mambo. Вам, наверное, уже по самые
уши надоело Mambo#5, там, или Mambo Italiano -- новейшие хиты дискотек?
Послушайте Иму Сумак -- оригинальные песенки в стиле «мамбо»: Bo Mambo
Taki Rari Gopher Chicken Talk Goomba Boomba, Five Bottles Mambo, Malambo
#1, Indian Carnival, Cha Cha Gitano, Junga, Carnavalito Boliviano. Ритм
в них не такой простой, как кажется, наверное, эта пластинка откроет для
вас то, что пытались приоткрыть авторы фильма «Короли мамбо» с Бандерасом
и Ассанте в главных ролях.
В середине 50-х из-за налоговых неприятностей парочку
не пустили в Америку. Более того, шакалы налоговых реформ целые сутки
держали их на острове Эллис и пытались провести собственное расследование.
В 1957-м они развелись и поженились во второй раз только в 1959-м, когда
Има стала гражданкой США. Трюк известный всем, кто жил когда-либо без
прописки в лужковской полицейской Москве. Но Мозес не спешил платить налоги
в закрома новой родины-матери, и поэтому ему пришлось сделать финт ушами:
он организовал 6-месячное турне по СССР, которое потом перешло в мировое.
Има пела в сорока русских городах, ставя на уши публику своим «Гимном
солнцу», как он у нас целомудренно назывался. На самом деле, это была
«Девственница для Бога Солнца». Советы пытались построить на ее приезде
из Америки очередную пропагандистскую бредятину.
Кончилось все хреново, и вот она уже в Бухаресте (Румыния), где записывает
единственную свою живую пластинку Recital, которая недавно переиздана
на компакт-диске под названием «Yma Sumak Live In Concert 1961 Russian
Tour». Здесь звучит весь ее оркестр, с которым она мыкалась по холодной
стране -- Inka Taki Trio -- сама Има, Холита Ривьеро бэк-вокал и танцы,
и Мозес на гитаре. В 1965-м они развелись уже насовсем. И Мозес, не имеющий
возможности заплатить все то, что он задолжал властям, смылся в Испанию.
Девушку перестали показывать по телевизору, записывать диски и давать
концертировать. А не фига было кокетничать с красными и хамить агентам.
Даже когда три фаната Имы Сумак, увидев, в каком она положении, решили
на свои деньги (один из них был инженер-конструктор ракет) издать ее новую
пластинку, ни одна серьезная фирма не захотела с ними связываться. Все
помнили, насколько она высокомерна (как все малые народы), тупа и своенравна.
Кому нужен этот гемор, даже если у человека гениальный голос? Помните,
как у классика: «Конечно, певец Н -- круглый дурак, но ведь голос?..»
Подписался хозяин London Records, пластинка называется Miracles (1972)
и идет по разряду «рока».
После этого в 70-е она исчезла совсем и выплыла только к 1984 году. Кстати,
уже имея серьезных поклонников среди геев. Пятнадцать лет забвения. В
1987-м поучаствовала в записи альбома Stay Awake, посвященного полностью
музыке к фильмам компании Disney. Кстати, с кино у нее был роман довольно
короткий. В парамаунтовской картине Secret Of The Incas (1954) она торговала
своей экзотической внешностью, что вылилось потом в Omar Khayyam (1957).
Кстати, бухарестский концерт тоже был записан на пленку и показывался
по румынскому ТВ. А немцы сделали фильм Yma Sumak: Hollywoods Inkaprinzessen
(1992). В 1998-м вышел очередной альбом мастерицы под общим названием
Yma Rocks!, куда вошли ее рок-опыты 70-х, в том числе Savage Rock, Magenta
Mountain, Remember, Medicine Man, Zebra, Parade и, конечно, El Condor
Pasa. По откликам на ее редкие концерты видно, что ее гениальный голос
ничуть не стал хуже. Может, хуже стал только характер -- так как концертов
не так уж и много.
Пять октав. Свихнуться можно.
И что самое интересное -- она до сих пор жива. (Примечание: Има Сумак
скончалась 5 ноября 2008 года)
Источник: журнал «Огонёк»
Автор: Игорь МАЛЬЦЕВ
Лайма Вайкуле
В списке стильных персон нашего шоу-бизнеса первый номер, без сомнения, у Лаймы Вайкуле. Можно, конечно, схитрить, заявив, что Лайма - не совсем "наша". Но это будет не честная игра: все население России не согласится с таким утверждением.
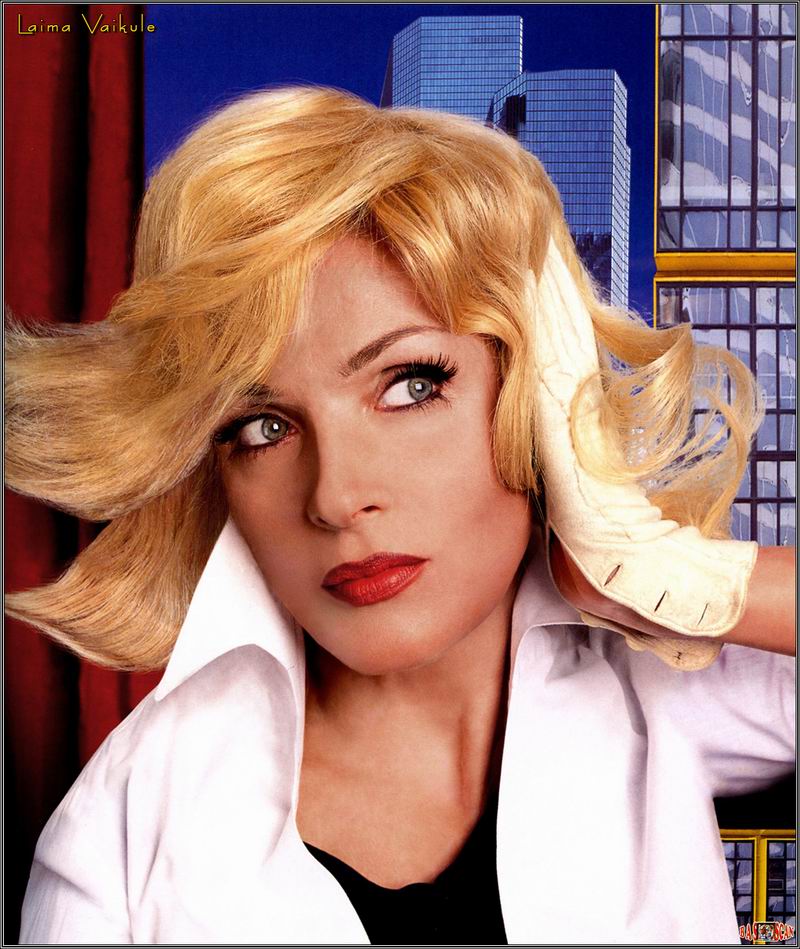
Вас называют самой стильной певицей на пространстве СНГ. Что такое
"стиль" применительно к эстраде?
Строгое соответствие репертуару, который вы поете. Вообще главное, чтобы внешние проявления не диссонировали с твоим внутренним содержанием. Как на сцене, так и в жизни.
Профессионализм подразумевает наличие стиля, или эти категории разные?
Конечно! Профессионализм и понятие стиля неразделимы
Можно ли обладать харизмой и не обладать ярко выраженным стилем?
Думаю, это невозможно. Харизма это уже своего рода стиль.
Майклу Джексону, Мадонне, Бритнис Спирс в профессионализме не откажешь. Но являются ли они, что называется, "стильными" исполнителями?
И Джексон, и Мадонна стали носителями и популяризаторами своих глубоко индивидуальных стилей. Они сумели стать образчиками, на которые равняются, которым подражают миллионы. А Спирс, как мне кажется, вторична.
Неумирающий успех "Биттлз", - не связан ли он с тем, что
ставку сделали именно на стиль?
В определенной степени, да. Но все-таки в первую очередь Битлз - великие
музыканты.
Кто, по-вашему, самые стильные персонажи мировой эстрады (кинематографа)?
Странный вопрос. Каждый из известных людей <стилен> по-своему и является носителем своего стиля. К примеру, Тарантино. Разве не яркий стиль во всем? А японцы? А итальянские мастера? А русские в конце концов?

С чувством стиля рождаются или ему учатся?
Изначально в каждом из нас что-то заложено. Со временем мы обрастаем информацией, впечатлениями и прочим. Огромное влияние в формировании стиля имеет окружающая среда.
Из чего складывается Ваш собственный стиль?
Из профессиональных требований, из удобства и, надеюсь, харизмы.
Проявляется ли он везде или только на сцене?
Конечно, сцена - главное. Все силы я отдаю профессии. А дома проявляется скорее мой характер.
Вы помните свой первый приезд в Москву? Какое впечатление произвел на Вас город? Насколько московский ритм созвучен Вашему?
Впервые Москва мне очень не понравилась. Были бесконечные встречи, назначенные, как мне тогда казалось, в ужасно неудобных местах, у каких-то станций метро, ЦУМа или ГУМа, где огромное количество снующих туда сюда людей. До этого я обыкновенно встречалась с людьми в небольших кафе, где пахло кофе и булочками. Разговоры там текли неспешно и мы по несколько часов проводили в уютной атмосфере, вальяжно расположившись за столиком. В Москве же приходилось постоянно куда-то бежать или ехать. Основной транспортной линией тогда было метро. А с моим намеком на клаустрофобию в метро мне было, мягко говоря, нелегко. Сегодняшний ритм Москвы мне гораздо ближе. Он очень созвучен с ритмом Нью-Йорка.
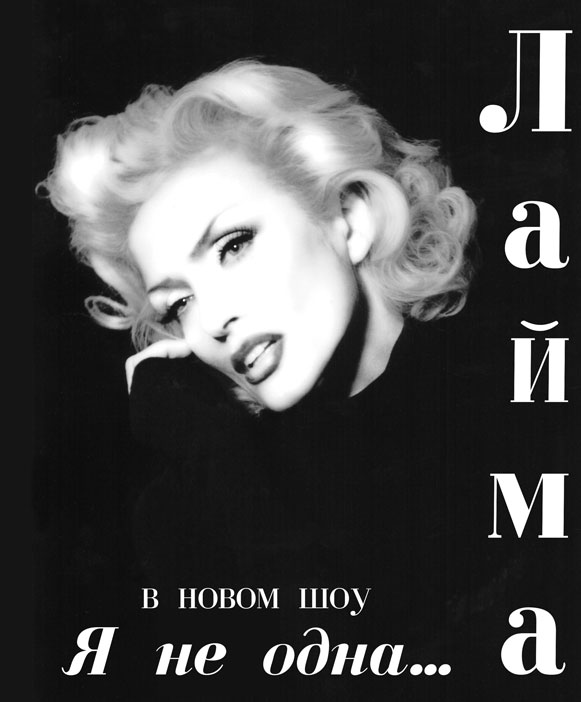
Как вообще складываются Ваши отношения с новыми городами? Это любовь
или нелюбовь с первого взгляда или отношения возникают постепенно?
Скорее, отношения возникают с целыми странами, континентами. Любовь с первого взгляда случалась с Японией, с Африкой. Это мое настроение, моя эстетика. А города: Знаете, города - это как-то более интимно. Города это люди.
Был ли город, который в реальности оказался не таким, каким Вы его себе представляли?
Да, Нью-Йорк. Мне казалось, что Нью-Йорк, это рай на земле. Но когда в
1989 году я там оказалась, то поняла, что в этом городе те же проблемы,
что и в других городах мира. Быть может далее более ярко выраженные. Меня
принимала американская сторона, которая ко всему еще снимала обо мне фильм.
Я ходила по улицам города и не переставала удивляться увиденному. Мне
встретился безработный нищий человек, которому я, не задумываясь, отдала
свои суточные. Американцы посмеялись надо мной, сказав, что он сам выбрал
свой путь. И вполне возможно, что он наркоман, а я всего лишь дала ему
денег на очередную дозу.

В какой момент Москва перестала быть чужим городом (если перестала)?
Когда я стала известной. Произошло это в 1986 году. Теперь, когда я говорю <у нас>, люди не сразу понимают, о чем именно я говорю. Для меня <у нас> это и Америка, и Россия, и Латвия.
Чем по духу Рига отличается от Москвы?
Она отличается буквально всем. Если сказать коротко, Москва - для работы, для бизнеса. А Рига для релаксации.
Ваше любимое место в Риге и в Москве.
В Москве ГЦКЗ <Россия> и Кремлевский дворец. А в Риге мой дом. Море.
Вы родились в Латвии, поете на английском и русском, но для российской публики вы всегда были своей. Кем Вы сами себя считаете, - латышкой, русской, европейкой? Может быть, немножко японкой?
Я считаю себя <своей>.
Вы признавались в своей любви к Японии. Чем именно близка Вам культура
этой страны? Как складывались Ваши отношения с японцами, ведь они так
непохожи на нас? Смогли бы Вы там жить?
Поработать с японцами было моей мечтой. Говорят, мы любим тех, кто любит нас. И наоборот. Наверное, эта закономерность сработала, потому что японцы тоже меня полюбили и сразу предложили мне контракт. Мне вообще близка культура Японии. Их незаметная услужливость, не рабство, но тихая доброжелательность и внимательность. Япония дарит удивительное чувство гармонии. Во всем: в еде, в манере поведения японцев, в их национальных костюмах, в их музыке, да же в их кладбищах. Я даже не могу себе представить, что меня может что-то раздражать в японцах или Японии.

Что в людях вызывает у Вас интерес, желание общаться? Что предпочтительнее
- человек, с совершенно непривычным для Вас взглядом на мир, или близкий
Вам по духу, по душевным свойствам?
Заинтересовать меня может любой человек. Все зависит от моего настроения и ситуации, которая нас свела с тем или иным человеком.
Меняется ли со временем Ваше отношение к людям, к их поступкам?
Думаю, да.
Какой грех Вам кажется самым страшным?
Предательство родных.
Вы начали выступать очень рано, в 12 лет. Как это получилось?
На самом деле выступать и записываться на радио я начала еще в детском саду. В 12 лет после конкурса, в котором я стала одним из лауреатов, мне пришлось поехать в гастрольный тур с Рижским оркестром радио и телевидения.
Вы помните ваш первый выход на сцену?
Да, я помню, что, выйдя на сцену, я ужасно растерялась. Вокруг было столько света, и я не знала, в какую сторону уходить. Почему-то меня больше всего волновал именно момент ухода.
Сейчас перед выступлением вы ощущаете себя так же, или иначе?
Абсолютно иначе. Теперь волнения нет. Исключительная концентрация.
Кто был вашим музыкальным кумиром в детстве и юности?
Дженис Джоплин.
Ваша эстрадная карьера началась со знакомства с Раймондом Паулсом. Как это произошло?
Я с детства знала его песни. Маэстро Заходник, у которого я занималась вокалом, преподавал еще у Раймонда Паулса в РЭО (Рижский Эстрадный Оркестр). Заходник всегда говорил мне, что я буду лучшей певицей Латвии. Мне казалось, что он незаслуженно делает мне такие авансы. Часто на занятиях он просил меня отойти подальше и называл меня Иерихонской трубой. Заходник очень хотел познакомить меня с Паулсом. Помню, однажды в филармонии я пела какую-то песню про Ригу. За роялем сидел очень популярный тогда в Латвии композитор Силдекс. Вдруг кто-то сзади похлопал меня по плечу, и я услышала голос Раймонда <Детка, я тебя беру>. Ощущение того, как мне на плечо ложится достаточно тяжелая рука в полутемном зале филармонии не оставляет менядо сих пор.
В 1986 вы побеждаете на конкурсе "Братиславская лира" в Чехословакии. Насколько эта победа была для Вас неожиданной?
Она была совершенно неожиданной. Я не собиралась ехать на конкурс, потому что по характеру я вообще не спортсмен и всяческие соревнования это не моя история. Но Министерство культуры приняло решение отправить меня на этот конкурс. Хотя, КГБ имело на мой счет свое мнение и объявило мне о том, что я <не выездная>. Именно в этот момент я поняла, что поеду на <Братиславскую лиру> чего бы мне это не стоило. Мне инкриминировались какие-то нелестные слова о Чехословакии, которые я якобы имела неосторожность сказать где-то в обществе. Но нашлись высокопоставленные люди, которые решили проблему моего выезда из страны. В напутственной речи Раймонд сказал <Без первого места не возвращайся>, чем вверг меня в состояние глубоко стресса. Добравшись до места, я увидела среди участников певцов, которых видела только на видео, артистов, которые работали исключительно по западному образцу. На последние копейки я позвонила Андрею (мужу) и сказала <Куда вы меня отправили?> Но мое неумение быть <второй>, ответственность перед Раймондом и господином Яковлевым, который мне помог выехать на конкурс, то раздражение, которое вызывал во мне ажиотаж вокруг победительницы конкурса <Евровидение> Николь, с которой носились, как курица с яйцом, сыграли свою решающую роль. Все знали, что победить должна Николь. Чехословакия меня не воспринимала в принципе, потому что я была из Советского Союза. И когда я вышла на сцену, в зале зааплодировали лишь представители посольства СССР. Мне пришлось воевать со всей Чехословакией. Но я <сделала> Николь и я победила Чехословакию. Это была честная победа. Моя личная победа.
После этого Вы становитесь по-настоящему популярной. Как это изменило Вашу жизнь?
Эта победа открыла мне все двери. Если бы я не победила, я бы так и пела в филармонии. Хотя, может спустя годы, я уехала бы на Запад и пела бы где-нибудь на Бродвее. Или на Брайтоне.
Как долго радовало Вас внимание поклонников (потому что не может же оно не начать раздражать)? Речь именно о поклонниках, а не о зрителях, которые просто Вас любят, не обременяя своим вниманием.
Такое внимание меня не радовало никогда. Потому что такие люди живут моею, а не своей жизнью. Для меня не было большей радости и уверенности в своей правоте, чем в день, когда одна из таких фанаток подошла ко мне на концерте и поблагодарила меня за то, что я <научила> ее ценить свою жизнь.
Что было самым трудным в Вашей карьере?
Сначала бесконечные худсоветы, потом поездка в Братиславу. После надо было научиться вовремя убежать с сорокатысячного стадиона, чтобы твою машину не перевернули фанаты, а тебя саму не разорвали на сувениры.
Шоу-бизнес - такое место, где приходится отстаивать свое право на существование. Вы встречали неприятие и противодействие со стороны коллег?
Нет, это сказки обиженных на жизнь людей. Какое отношение имеет ко мне любой из моих коллег? Разве мы мешаем друг другу? Сцена большая, иди и пой!
Многих музыкантов шоу-бизнес ломает. Они перестают быть тем, что они есть, и в результате ломаются. Как, отвечая требованиям продюсеров, публики и моды, сохранить свою сущность и не потерять себя?
Чтобы не потерять себя, надо изначально <быть>.
Сцена - это наркотик? Если да, то какое он производит действие? На что именно "подсаживаются артисты"?
Конечно наркотик. Ты теряешь себя, ломаешь всю свою жизнь, отказываешься от обыкновенных человеческих благ, от всего того, что щедро даровал тебе Господь и чем надо наслаждаться. Но отказаться от ощущения заведенного волчка, для которого остановка - конец, к которому никто из нас не готов, просто невозможно.
В 1989 г. известный американский продюсер Стен Корнелиус приглашает Вас в США, и 7 месяцев Вы записываетесь в студии Майкла Сембелло. Как Вы получили это предложение, как его восприняли?
Я была в Сочи, работала по три концерта в день, отрабатывая филармоническую норму ради десятидневного отдыха, когда мне позвонили из фирмы грамзаписи <Мелодия> и настоятельно пригласили меня на запись с американскими музыкантами. Нужно было спеть одну американскую и одну свою песню. Лететь надо было сейчас же. Эта скоропалительность меня ужасно разозлила. В который раз я сказала про себя горькое <Совок!>, но я согласилась, чтобы постоять за честь страны, которую мне предложили представлять. Мне не нравилось ничего из этой затеи: ни песни, которые мне предстояло исполнить, ни американский певец, с которым я должна была петь. Но, как говорит мой крестный отец Владыко Виктор, ни один хороший поступок не остается незамеченным. В общем, я так понравилась американцам, что через некоторое время мне пришло официальное приглашение от Стена Корнелиуса.
Вы были первой советской певицей, с которой заключили контракт американцы. Впоследствии Вы много выступали за рубежом, включая такие экзотические с точки зрения европейской музыкальной традиции страны, как Япония. Почему, по-вашему, выбирают именно Вас? Ваши продюсеры это как-то объясняют?
Не правда! Первым был БГ (Борис Гребенщиков). Потом уже были я и <Парк Горького>. Почему именно я? Не знаю. Американцы говорили обо мне <Это очень сексуально>. Хотя, как мне кажется, главным залогом успеха в шоу бизнесе является способность оказываться в нужном месте в нужное время. Конечно, нужно непрерывно работать и быть готовым к тому, чтобы <выстрелить> в любой момент. И, поверьте, этот момент обязательно настанет.
Как Вас принимают на западе, какие требования предъявляют и чем эти
задачи отличаются от тех, которые перед Вами ставят дома?
Западные продюсеры более требовательны. Там другой уровень музыкальной культуры, нужно соответствовать этому уровню, надо владеть языком, нужен яркий имидж. Минус - огромное количество затрат. Плюс - классный опыт.
Сегодня музыканты из СНГ много и плодотворно сотрудничают с западными продюсерами, но ни один из них не стал звездой первой величины. Почему? Успех наших певцов на Западе в принципе невозможен?
Я не знаю, кто с кем сотрудничает. На Западе нет иного сотрудничества, кроме как контракт с их фирмой грамзаписи. Все остальное всего лишь гастроли. Но если западная фирма подпишет серьезный контракт с нашим исполнителем, его успех возможен так же, как и успех любого другого талантливого музыканта из какой угодно страны мира.
Скандал, подобный британскому "триумфу" "Тату",
способствует продвижению российской эстрады за рубежом?
Успех <Тату> не имеет никакого отношения к продвижению русского музыкального продукта на Запад. Это всего лишь скандал, основанный отнюдь не на культурной платформе, а скорее на иллюзии свободы нравов. Где сейчас популярность <Тату>, о которой так кричали в России? Но я верю, что, в конце концов, появится музыкант или группа, которая сможет работать на должном уровне на Западе и, как следствие, попадет в число мировых <звезд>.
В 1984 г. Вы поступили на режиссерское отделение в ГИТИСа. Роль исполнительницы
стала для Вас недостаточной? Вас не удовлетворяла работа Ваших режиссеров?
Я сама себе режиссер. Так было и будет всегда. Мне просто хотелось заняться самообразованием. Лишней информации не бывает. Научиться быть хорошим режиссером невозможно. Это либо есть в тебе, либо нет. Но можно научиться каким-то приемам, можно узнать некоторые тонкости профессии. Немаловажно и то, что в течение шести лет ты общаешься с интересными людьми. Вот это было важным для меня.
Концерты Лаймы Вайкуле - настоящие спектакли, шоу. Вы сами осуществляете их постановку?
Идеи изначально мои. Но всегда есть люди, которые помогают мне воплотить эти идеи в жизнь. Сейчас это Алла Сигалова.
В начале своей карьеры Вы часто выступали в варьете. Как бы вы определили
жанр, в котором Вы сегодня работаете?
Популярная музыка. Теперь я ненавижу балет на сцене. То, что я привнесла на российскую сцену, сейчас я с удовольствием уничтожила бы. Потому что люди зачастую не понимают, какова их роль в той или иной программе. Балет создан быть частью единого полотна концерта, единой истории песни. Но ни в коем случае балет не должен отвлекать внимание зрители от исполнителя.
Помимо режиссуры Вы пробуете себя и в качестве актрисы: Вы сыграли
Снежную королеву в мюзикле Игоря Крутого и Анну в криминальной драме "В
русском стиле". Насколько серьезно Ваше увлечение кино?
После того, как я впервые снялась в кино, я поняла, что для успешной роли нужен безупречный рабочий сценарий, талантливый режиссер и какой-то особенный оператор. Кино дает возможность довести момент выражения до абсолюта. Потому что есть возможность дублей. К примеру, в моей профессии все обстоит иначе. У тебя нет права на ошибку, потому что искусство ты делаешь <здесь и сейчас> и дубля быть не может. Но в кино есть своя печальная особенность - это неизбежное расставание с людьми, с которыми ты работал над фильмом. За время съемок вся команда становится одной дружной семьей. И пережить расставание с этими людьми очень тяжело.
Часто ли Вам поступают предложения участвовать в съемках, и по какому принципу Вы их принимаете или нет?
Пока мне не предложили такую роль, которая могла бы меня заинтересовать. Играть распутниц или каких-то глупых красавиц мне неинтересно. Уж лучше сыграть Бабу Ягу.

Вы не единственный ребенок в семье. Чем занимаются ваши сестры и брат,
поддерживаете ли Вы с ними связь, собираетесь ли всей семьей?
Конечно! Моя семья очень дружная. Я вообще не могу себе представить, как могут рассориться брат с сестрой.
Вы много и напряженно работаете. Откуда берутся силы, чем Вы "подзаряжаетесь"?
Мне хотелось бы работать поменьше, а сил иметь побольше. Мечтаю о неком зарядном устройстве, доступном в любое удобное мне время. Но <заряжаться> получается только на отдыхе, да и то не всегда.
У Вас нескольких собак. Вы любите животных вообще или именно собак? Можете ли что-то рассказать о своей первой собаке? Как она появилась?
Это была беспородная собака, эдакий черный комок шерсти, оставляющий после себя лужицы. Мы назвали ее Тучкой. Когда мы гуляли с ней по утрам, мы часто встречали рыжего бездомного пса. Я смотрела на него и думала <Бедный несчастный пес. Не то, что моя Тучка>. Однажды я уезжала на гастроли, а моей семьи не было дома. Мне пришлось оставить Тучку на постой дальним родственникам. В общем, они ее потеряли. Перед моим приездом естественно они решили ее найти, но нашли только похожую шкурку у скорняка, который шил шапки из собак. Родственники долго скрывали от меня этот факт. Я ужасно переживала, узнав правду. Спустя несколько лет я гуляла по местам, где обычно мы играли с Тучкой и встретила того рыжего бездомного пса. Он остался свободным и пережил мою Тучку. Быть может, если бы не моя сердобольность, если бы я тогда не забрала щеночка домой, Тучка тоже осталась бы жива.
Есть люди, которые не любят животных (во всяком случае, в доме). Как
вы полагаете, это связано с каким-то душевным изъяном?
Изначально я не хочу никого ругать и критиковать. Думаю, они просто не познакомились с животными близко. Я уверена, что если человек узнает животное <глаза в глаза>, не на цепи на улице, а в личном контакте, он уже не сможет это животное не любить. Просто однажды нужно попробовать посадить дерево, и вы сами удивитесь, как пристально вы будете наблюдать за его ростом, за тем, болеет ли оно или здорово, цветет ли, плодоносит ли. Так и с животными. Просто нужно вложить в них свою любовь, усилия по воспитанию и тогда вы не сможете остаться к ним равнодушным.
Вы строили свой дом в Юрмале не один год, а проектировал его лучший
архитектор Латвии. Почему это так важно для Вас?
Мне важно, чтобы было уютно и хорошо моей семье.
Устаете ли Вы от города?
Да, в лесу я чувствую себя куда уютнее.
Источник: журнал "Столичный Стиль", 2005 г
Нелли Уварова
Актрису Нелли Уварову многие узнают только в образе закомплексованной дурнушки Кати Пушкаревой. Но это лишь одно из перевоплощений талантливой и достойной внимания актрисы. В 2001 году Нелли окончила ВГИК и целиком посвятила себя Российскому академическому Молодежному Театру. Ей блестяще удаются и образы маленьких девочек, и умудренных женщин. А особенно - сложные лирические героини с хрустальным внутренним миром и запертыми эмоциями.

Одновременно со съемками «Не родись красивой» Нелли играла в театре героиню с характеристикой «красивая женщина 35 лет». Огромный успех имел спектакль «Эраст Фандорин». В моноспектакле «Правила поведения в современном обществе» Нелли полтора часа на сцене совсем одна, и третий год она читает этот монолог при полном аншлаге. За эту работу Уварова была номинирована на престижную «Золотую маску».
Первый опыт работы в кино - фильм «Полетели», еще в начале учебы во ВГИКе. Руководитель Нелли, Георгий Тараторкин, категорически запрещал своим студентам сниматься до конца второго курса. Уварова боролась с соблазнами, но во время каникул все же снялась в студенческой картине Анны Меликян. Втайне от преподавателей. Но неожиданно фильм стал собирать международные награды. Нелли и Анну пригласили в Милан, а затем обеим вручили призы. Их дебютный фильм взял две награды из четырех, такого начала карьеры от студенток не ожидал никто. Разумеется, Георгий Тараторкин не мог долго обижаться на талантливую подопечную.

К 2005 она была уже известной театральной артисткой и подающей надежны актрисой кино (фильмы «Ангел на обочине», «До востребования», «Главные роли» и другие). В это время ее жизнь коренным образом изменилась. Благодаря режиссеру Александру Назарову, с которым Нелли работала в театре, Уварова оказалась на пробах сериала «Не родись красивой».
Роль Кати Пушкаревой - самая масштабная в карьере Нелли. Она совершила актерский и женский подвиг - согласилась стать некрасивой, зажатой девушкой без малейшего намека на обаяние. Одновременно, актриса смирилась с тем, что вся страна будет видеть в ней лишь «некрасивую Пушкареву», объект для насмешек и язвительных статей в гламурных журналах.
Причем, согласилась довольно легко. «Катя Пушкарева - всего лишь маска, - говорит актриса, - прикрывшись ею, можно быть смешной, нелепой, можно похулиганить». Не боится быть смешной и нелепой лишь очень уверенная в себе женщина. , что подтверждают многочисленные интервью и рассказы ее партнеров по сцене.

«Если бы изначально я была хорошенькой, молоденькой, это одно, но путь от жутко закомплексованной дурнушки, до стремящейся куда-то вперед, к светлому, счастливому - совсем другая история. Он меня привлекает гораздо больше, поэтому я иду на все это. Это очень интересно, как в «Пигмалионе». Несомненно, Бернарду Шоу понравилась бы современная Галатея!
Совсем скоро актриса станет помогать украинским женщинам обрести себя. С 11 сентября Нелли будет вести ток-шоу «Красуни» («Красавицы») на украинском канале НТН. «Это своеобразный советник и помощник, который подтолкнет всех женщин Украины к действию»,- сказал генеральный продюсер канала Алексей Семенов. Учитывая, что Нелли в глазах миллионов людей ассоциируется с чудесными превращениями, становится понятно, почему выбор пал именно на нее.
Как охарактеризовал ее Григорий Антипенко, «Нелли очень талантливая актриса с гиперобаянием». Образ Пушкаревой ей безупречно удался. Но впереди - новые роли. И, несомненно, многие из них станут не менее запоминающимися.
Автор:Дарья Печорина
(специально для журнала Женский клуб)
Елена Гурфинкель
Впервые попадаю в ситуацию, когда о героине публикации мне почти ничего
не удалось найти в Интернете, но несколько позднее, с её помощью мне эту
"прореху" удалось залатать. Итак, вот что сообщила мне о себе
героиня настоящего материала: "С 2006-го года учусь в Литературном
институте, в апреле попробую перейти на 4-й курс. По профессии журналист,
написала несколько статей для "Московского комсомольца", но
в штат я туда не поступала. Параллельно печаталась в "Работнице",
"Петровке, 38" и некоторых женско-детских журналах..."
Ну, что же, пословицу "Скромность украшает человека" никто пока
не отменял.
А вот какая информация о Леночке содержится в "Бардс.ру":
"Гурфинкель (Лорес) Елена Леонидовна родилась 24 мая 1977 года в
Саратове. Жила в Карелии, на Чукотке, в Новочеркасске Ростовской области.
В настоящее время живет в Москве. Одна из основателей и первый руководитель
КСП "Старый кораблик" в г. Новочеркасске. Бывший молодежный
редактор газеты "Донская речь".
Журналист.
Нынешнее занятие: всего полегоньку...
Лауреат II канала Грушинского фестиваля 1999 года.
Увлекается авторской песней, компьютерной графикой и моделированием женской
и детской одежды."
Я когда-то писал о её дочке Сонечке Лорес - можете найти эту публикацию по Алфавитному указателю. Кроме совершенно очаровательной Сонечки, которой 28-го марта 2009-го года должно исполниться 8 лет, у Леночки есть ещё одна малышка по имени Либи. И, если Соня постоянно участвует в фестивалях авторской песни (совсем недавно она пела c Борисом Вайхайнским на одном местном - по Московским меркам - фестивале), то Либи, которой всего лишь 5 лет, поет не хуже, только ее это увлекает от случая к случаю, в охотку...
Мне удалось найти биографию Лены Гурфинкель в стихотворной форме. Как вам это нравится? И из своего архива я "наскрёб" кусочек прозы. Но это - чуть позже. А пока вот вам её фотография:

А вот автобиография ( в стихах):
РОДОСЛОВНОЕ ДРЕВО
ПЕСНЯ МАТЕРИ РОДИТЕЛЯМ
|
А теперь кратко, как в конспекте, из ЖЖ:
"Привет, меня зовут Лена Гурфинкель. С некоторого времени мои документы говорят о другом, но гурфинкелизация во мне - дело окончательное и бесповоротное, так что остановимся на этой фамилии. Я родилась в Саратове 24 мая 1977 года. Как дочь военнослужащего, изрядно поездила по стране. Потом колесила по Югу России уже как жительница Новочеркасска и участница южных фестивалей авторской песни. Если я отображу на карте все свои путешествия графически, каляка-маляка получится немыслимая: Карелия-Чукотка-Саратов-Краснодар-Ростов-Москва. Дом мой - в Москве. Ибо твой дом -это гнездо, которое свил ты сам. И до того, как ты его не совьешь - ты бездомный, сколько бы недвижимости в твоей собственности ни находилось..."
И, разумеется, несколько стихотворений (как без них?):
*** |
 |
 |
 |
*** |
 |
 |
 |
| *** Ну, какие в строю разговорчики? Ясно сказано: здесь вам не тут! У меня за спиной заговорщики Постоянно интриги плетут. Мне рука безымянного мастера, Озабоченно прячась в тылы, Изрисует обои фломастером И подсунет в постель пластилин. Тяжело опускаюсь на корточки, Составляю реестр проказ, Ведь во все времена заговорщикам Полагалась публичная казнь. Отодвину событье режимное, Отложу миг расплаты, пока С криком «Дождик идет!» содержимое На ковер перельют из горшка. Средства боя у нас переменные И фломастер на мел заменим. Я орудие казни ременное Достаю из широких штанин. Но когда я начну приговор читать И построю в шеренгу двоих, Расцелуют меня заговорщики, И придется помиловать их. |
Марина Ким
Появление нового ведущего на телеэкране, никогда не проходит мимо внимания телезрителей. В гостях у «РК» ведущая программы «Вести» РТР Марина КИМ, которая появилась на российском канале недавно и, хочется надеется, надолго.

— Марина, сколько не спрашивал, никто не мог ответить, откуда вы?
— Училась в Санкт-Петербургском университете на факультете международных отношений, потом жизнь так распорядилась, что оказалась в Москве, окончила по профилю МГИМО. Уже на 5 курсе стала работать на телевидении. Сначала это был телеканал «Деловой», потом РБК, где работала аналитиком по финансовым рынкам. После этого получила приглашение работать в новостной программе телеканала Россия.
— Ваш выбор телевидения как профессии — это осознанный выбор, к которому вы шли долгое время или стечение обстоятельств?
— В школе я занималась балетом, хореографией, но балерины из меня не получилась, поэтому приходилось искать себе в чем-то другом. Закончилось тем, что мое образование — международные отношения — изначально открывает широкие возможности для выбора дальнейшего пути. Я, наверное, могла бы стать дипломатическим работником, но предпочла искать себя в телевизионной журналистике. Вообще сначала все получилось стихийно, что я пришла с телеканала РБК. Постепенно со временем пришло осознание того, что мне хочется работать в новостной службе, потому что телеканал РБК это все-таки деловая информация для узкого круга людей. Здесь же есть возможность транслировать новости для более широкой аудиторию. Отвечая на вопрос, наверно это все-таки стечение обстоятельств, которое совпало с моим желанием и мечтой работать на телеканале Россия, где самая мощная служба новостей.
— И соответственно, высокая планка требований. Над чем приходится работать?
— Прежде всего, над собой. Безусловно, нужно было себя подтянуть по многим параметрам, в первую очередь это касается техники речи и всего того, что должно быть присуще ведущему информационной программы. А что касается возможности роста, я не загадываю: как получится, как пойдет. Я сейчас вхожу в новый коллектив, с удовольствием для себя открываю новых знакомых, новых друзей, деловых партнеров. Меня увлекает рабочий процесс сам по себе, от начала и до конца, от гримерки — до выхода в эфир. Это большая работа, и она меня полностью поглощает и приносит ни с чем не сравнимое удовольствие.
— Если заглянуть в вашу телевизионную кухню, то рискну предположить: то, что озвучивает ведущий — итог работы большого количества людей. Какая доля труда приходится на вас, как ведущего?
— Интересный вопрос. Конечно, ведущий появляется в кадре и, казалось бы, видят только его. Но это работа действительно огромного штата высоко профессиональных людей. Можно долго перечислять: гримеры, редакторы, райтеры, которые подбирают информацию и её обрабатывают, продюсеры, корреспонденты, которые готовят оперативные материалы, шеф-редакторы…Что касается непосредственно эфира, то это осветители, операторы и масса других людей от которых зависит благополучие и успех эфира. А ведущий — он как вершина айсберга.
— Телезрители видят только то, что на экране, а что за кадром?
— Обычная жизнь молодой девушки в столичном городе Увлечения самые разнообразные: кино, литература, очень люблю смотреть телевизор, как это ни странно. Хотя обычно телевизионные работники пренебрегают, а я люблю, и с большим удовольствием провожу свободное время за телевизором, отсматриваю, что делают коллеги.
— Каким передачам отдаете предпочтение?
— Конечно, информационным в первую очередь. Смотрю свой канал, новости, другие развлекательные проекты. Для меня телевизор — бесконечное поле не только для познавания, но и для учебы.
— Какие телеведущие отвечают вашим требованиям?
— Мне нравятся очень многие ведущие информационных, и развлекательных программ. Но я понимаю, что если я выступаю в таком же качестве и действую на том же поле, я не должна ни кого ориентироваться, стараюсь ни кого не копировать. Стараюсь смотреть как сторонний наблюдатель. Если тебе понравится какой-то ведущий, то ты, сам того не замечая, начнешь невольно его копировать. Поэтому для меня они в равной степени все равны и в равной степени привлекательны.
— Вы мелькнули в утренних эфирах несколько раз. От чего зависит более частое ваше появление?
— Это зависит от рабочего графика. Я работаю в утреннее время, но это для европейского региона, а для Сибири, Камчатки, для Дальнего Востока это не утро, а день. Но когда меня можно видеть точно — это в субботу и воскресенье утром в семи и восьми часовых новостях.
— Стало быть, прайм-тайм еще впереди?
— А я считаю эти часы прайм-таймом.
— Несколько слов о вашей семье, близких, кто они?
— Появилась на свет в Ленинграде. У меня двойная кровь: корейский папа и русская мама. Мама преподаватель Санкт-Петербургской академии имени Лесгафта, отец занимается бизнесом. Много двоюродных, троюродных сестер, но родной брат один, по образованию юрист, живет тоже в Санкт-Петербурге. У меня очень много родственников по папиной линии, который родом из Нальчика. Они постепенно переезжают в Санкт-Петербург, особенно молодое поколение. Активно и небезуспешно устраивают свою личную, рабочую, деловую жизнь.
— Чего вы для себя пожелаете?
— Наверно трудоспособности. Нужно много работать, прежде всего, над собой, чтобы не разочаровать тех благодарных телезрителей, которых я себе представляю, когда веду информационную программу.
— Желаю того же.
Источник: http://www.arirang.ru/news/2007/07068.htm
Оксана Робски

Оксана Робски стала известна благодаря своему первому
роману «Casual», действие которого разворачивается на фоне современной
московской жизни с ее модными ресторанами, клубами и гламурными вечеринками.
Можно сказать, что это роман о «скромном обаянии» современной буржуазии.
Мы встретились с Оксаной, когда она была гостем программы Александра Шаталова
«Библиотека «Огонька», выходящая каждое субботнее утро на канале «Домашний».
 |
 |
«Век»: Оксана, есть ли книги, которые произвели на Вас в детстве сильное
впечатление?
— Одна из самых любимых — «От двух до пяти» Чуковского. Ее мне читала
мама, а моя старшая дочь даже завела тетрадку и записывает в нее истории
про своего младшего брата, которому всего пять лет. Он часто видит мои
портреты в журналах и я объяснила ему, что это происходит потому, что
я писательница. Когда умерла наша собака, Беня, мы ему сказали, что Беня
уехал и живет у своей подружки. И тут в магазине видим журнал, на обложке
которого фотография точно такой же собаки, что была у нас. «Смотри, мама,
это наш Беня!», — говорит сын. «Да, это он, наверное, в доме своей подружки»,
— отвечаю я, на что сын меня спрашивает: «А что, Беня тоже писатель?»
Уверена, что такие истории есть в каждой семье. Потом они, к сожалению,
забываются.

«Век»: Вы бы хотели написать книжку для детей?
— У меня с детства есть две любимые книги — «Три толстяка» и «Карлсон».
Они близки позитивным и ироничным отношением к жизни. Один герой слишком
толстый, второй — с пропеллером и тоже, кстати, не худой. Недавно я со
своим ребенком пошла в кино. Я несколько раз переспросила в кассах — можно
ли смотреть фильм пятилетнему мальчику? Говорят, да, это фильм как раз
для семейного просмотра. Заходим в кинотеатр — чудесная лента, мальчик
и девочка влюбляются друг в друга, фантазируют, придумывают свой мир.
Сын смотрит с широко раскрытыми глазами. И вот буквально за 20 минут до
конца фильма девочка умирает! Я, естественно, тут же кричу, что у меня
болит живот, хватаю сына и мы уходим, а он меня всю дорогу спрашивает
— умерла девочка или нет… Теперь ты понимаешь, чем мне нравится «Карлсон»
и «Три толстяка»? Свою детскую книгу я еще надеюсь написать.

«Век»: Когда вышел роман «Casual», ВАС сравнивали с Франсуазой Саган.
— Я читала ее, когда мне было семнадцать. Свой первый роман она тоже написала
в семнадцать лет. Читая Саган, я впервые задумалась о том, чтобы начать
писать… Мне нравятся авторы, которые создают собственный мир. Ведь у Саган
абсолютно четкий и ясный, только ей присущий мир романов, повторить который
невозможно.
«Век»: Это чувственный мир девочки, которая открывает себе любовь и одиночество…
— …открывает для себя пространство. Саган не выходит за его рамки, а остается
в нем. В 17 лет мы все открываем мир, он становится шире, не важно — взрослее,
темнее, светлее, каким угодно, но мы никогда в нем не остаемся. Я думаю,
литература — это один из способов закрепится в этом мире, придумывать
себе героев, делать мир совершеннее.
«Век»: Почему же вы решили поступить на факультет журналистики?
— Я уже тогда пробовала писать, например, написала продолжение «Трех мушкетеров».
Мама теперь жалеет, что выкинула мои бумаги. Она всегда очень скептически
относилось к моему творчеству. А вообще, я много куда поступала и много
где училась. Например, работала в суде архивариусом. Мне было интересно
разбираться в архиве, читать ту информацию, которая была ранее не доступна.
Помню себя сидящей на огромной стремянке, под потолком, листающей старые
дела…

«Век»: Какие книги вы сейчас читаете?
— Недавно мне свою новую книгу подарил Аркадий Инин. Еще перечитывают
«Антологию американского юмора», Вебера, Тома Вулфа, книгу Лари Кинга…
У меня есть свое маленькое издательство и мне интересно изучать бестселлеры,
стараться разобраться, почему та или иная книга стала бестселлером. И
я в очередной раз пришла к одному и тому же выводу - то, что продается
там, вовсе не обязательно будет хорошо продаваться здесь.

«Век»: Как вы относитесь к тому, что стали олицетворением отечественного
гламура?
— Если вы говорите о духах «Замуж за миллионера», на обложке которых я
и Ксения Собчак, то они лишь наглядный пример коммерчески удачного проекта.
Я не считаю, что художник должен быть голодным. Придуман неплохой бренд.
Будет очень смешная, очень позитивная книга под таким же названием, сейчас
мы работаем над настольной игрой «Замуж за миллионера».
 |
 |
«Век»: Вы действительно считаете, что девушки должны выходить замуж за
миллионера или может быть они сами могут зарабатывать себе на жизнь?
— Я считаю, что девушки просто должны выходить замуж и что они должны
влюбляться, но понимаешь, в чем дело… «Замуж за миллионера» — это идет
из детства, как в любой сказке героиня всегда влюбляется в принца.
«Век»: У вас нет принцев.
— Но у нас есть миллионеры, это те же самые принцы, которые были всегда.
Другое дело, что не нужно внушать девушке, что она должна влюбиться только
в миллионера. Если правильно ее воспитывают родители и девушка мечтает
о любви, а не о миллионере, то ей никак не навредят ни наши духи, ни наша
книга.
«Век»: Ваши размышления о том, что на Рублевке живут не все дегенераты,
очень свежие.
— Свежие, да. Причем, я вас поправлю, я не сказала «не все дегенераты»,
я сказала лучше — «необязательно дегенераты».
Источник: wek.ru
Дата публикации: 10 августа 2007 года
Ирина Рисензон – наша олимпийская надежда
Ей всего лишь пятнадцать лет (обратите внимание на дату публикации). Без
грима и ослепительных своих нарядов Ира выглядит как обычный ребенок ее
возраста. Разве что осанка, походка, жесты выдают «королевское происхождение».
Если вы видели ее, когда телевидение транслировало Гран-при по художественной
гимнастике в Холоне, вам будет трудно узнать в гимнастке, что с суровым
лицом и упрямо стиснутыми губами раз за разом повторяет один и тот же
поворот с мячом сияющую израильскую звезду, сразившую всех судей не только
своим мастерством, но и очаровательной, незабываемой улыбкой.

На недавнем чемпионате мира в Венгрии состоялся ее дебют – Ирина Рисензон впервые выступала уже не как юниор, а как мастер, соревнуясь на равных с лучшими гимнастками мира. В пятнадцать лет «художницы» считаются взрослыми. В Венгрии таких «малышек» на 250 гимнасток было десять, а израильтянка с голливудской улыбкой стала среди них второй, уступив немного немецкой девочке. Но симпатии зрителей и прессы были явно на стороне нашей дебютантки – человек непривычный сошел бы с ума, получив такое количество любви в единицу времени, но Иринка справилась, после холонских соревнований, где ее только что на руках не носили, венгерский костер восторгов не сжигал, но грел.
Этот чемпионат мира был не слишком удачным для Израиля. Фаворитка израильской федерации художественной гимнастики, на которую возлагались большие надежды, 17-летняя Катя Писецкая заняла в Венгрии всего лишь 20-е место. Разочарование израильских болельщиков смягчила 15-летняя Ирина Рисензон, которая сходу взлетела сразу на 23-е место.
Между прочим, это не чепуха для нашей страны, что сразу две «художницы» попали в финал тридцати, но на самом деле даже не в этом главное утешение. Дело в том, что наша «малышка» поразила тренеров и судей, которые написали на сайте международной Федерации художественной гимнастики, что юная израильская спортсменка произвела впечатление своим особым почерком и более всего – своими прыжками. Если еще раз вспомнить о ее возрасте и о том, сколько у нее впереди еще турниров, можно записать этот чемпионат мира в графу особых достижений.
- Волновалась, конечно, — смеется в ответ на мой вопрос юная звезда. – Первый год выступаю «по мастерам» — что ж удивляться! Но все кончилось замечательно, я выступила хорошо. Моя тренер мной довольна – это самое главное. Я ее очень люблю, хотя иногда и… побаиваюсь. Потому что не хочу ее разочаровать. Знаю, как она меня любит. Это самое главное, пусть даже она строга со мной, порой без этого не обойтись. Мне даже кажется, что этот страх я сама для себя выдумала, сама себя обманываю, чтобы не расслабляться. Это такой у меня способ-игра заставить себя не лениться, не наглеть. Родители? Да, мама у меня строгая, а папа не может, он у меня такой добрый…

В Холоне всегда была лучшая израильская школа художественной гимнастики. Наверно, с первой минуты существования этого вида спорта в стране. Знаете ли вы, что первая израильская гимнастка, выступавшая на Олимпиаде, была из Холона? Основная база Городского клуба художественной гимнастики находится в Кирьят-Шарете. Именно сюда, в большой благоустроенный зал, где уже дважды проводились Гран-при, каждый день приходит после школы Ирочка Рисензон. Здесь ее второй дом, ее друзья, ее «вторая мама» — тренер Ирина Вигдорчик, к которой она пришла более пяти лет назад забавной пампушкой.
- Мне было тогда девять с половиной лет, — вспоминает Иринка. – Мы только-только приехали в Израиль из Николаева, где я с четырех лет занималась художественной гимнастикой. Поначалу обосновались в Хадере, где жила бабушка.
Мама занималась в молодости спортивной гимнастикой, а папа – футболом, боксом и другими видами спорта. Меня отдали на художественную гимнастику по двум причинам: во-первых, потому что я часто болела, и врач посоветовала укрепить организм занятиями спортом. А во-вторых, я была толстенькая, и мама переживала, что такой и останусь. Ей хотелось, чтобы я стала стройной девушкой. Между прочим, я и сейчас очень склонна к полноте: чуть нарушу диету, сразу круглею.
Приходится держать себя в руках. Не всегда получается это у такой сластены, как я. Тортики люблю, пирожные. Мама работает в кондитерской и часто брату приносит сладости, а мне так трудно удержаться. Но потом приходится очень тяжело тренироваться, чтобы сбросить лишние килограммы, что я предпочитаю не набирать их. Себе дороже. Вы же понимаете, что это я из лени так поступаю?

Пончик превращается в газель
Они не сразу приехали в Холонскую школу художественной гимнастики. Сначала, прочитав объявление в газете, добрались до Нетании. А там уже тренер их перенаправила в Холон. Приехали посмотреть, оглядеться, познакомиться, но мама Ирины с первого взгляда признала в тренере Вигдорчик «своего человека».
- Она сразу сказала, что доверяет ей и готова признать моей второй мамой, — хохочет «дочь двух матерей». – Ну и в итоге нам пришлось переехать из Хадеры в Холон, не могла же я каждый день ездить так далеко. Вот и получается, что я всех перевезла!
У Ирины есть брат, он на два года старше ее и занимается дзюдо в секции, которую ведет Айзик, муж Ирины Вигдорчик, «папа команды», который не меньше супруги (а то и больше!) волнуется за ее девочек – как отдохнули, когда вернулись с прогулки, не обидел ли кто. Впрочем, девочки-спортсменки настолько ответственно относятся к своему положению, состоянию здоровья, что сами прекрасно соблюдают режим, привычно, автоматически – это уже как походка, как осанка.
- А вы знаете, что мне поставили условие? – говорит Ирина Рисензон. – Сказали, что возьмут, если я похудею. И были правы – я была, как пончик. Пришлось худеть. Очень уж мне хотелось продолжать заниматься художественной гимнастикой.
Тренер сама выбирала школу для своей воспитанницы, и в результате та оказалась в классе, где кроме нее не было ни одного «русского».
- Только поэтому иврит за год стал моим родным языком. Сейчас мне труднее выражать свои мысли по-русски. Но я стараюсь не терять язык. По совету папы читаю одновременно три книги – на иврите, русском и английском. Чередую. Времени много на чтение не остается, но хоть чуть-чуть, хоть перед сном каждый день – обязательно.
Из-за поездок на всевозможные турниры, сборы Иринка часто пропускает уроки. И не всегда она в состоянии самостоятельно усвоить пропущенный материал. Тренер идет в школу и договаривается о дополнительных занятиях для своей воспитанницы. О плохой успеваемости в их гимнастической тусовке не может быть и речи. А ездить им приходится много.
- Мои первые международные соревнования, — рассказывает гимнастка, — проводились в Холоне, в зале «Кацир». Мне было одиннадцать лет, совсем маленькая, и все меня поражало. Тренер то и дело говорила: «Закрой рот и работай». Просто я от удивления все время с открытым ртом ходила. После этих соревнований у меня появилось огромное желание заниматься на всю катушку, чтобы стать такой, как они, эти красивые девушки из России, Украины. У всех ноги такие… А на зарубежные соревнования первый раз я ездила в Чехию, в Брно. Совсем маленькая была, но выступила хорошо, всем понравилась, хвалили…

Чарли останется без сладкого
- Когда тренер сказала, что я поеду на чемпионат мира в Венгрии, это был шок, — признается Ирина Рисензон. – Не испугалась, нет. Вот в 2002 году… На позапрошлогоднем Гран-при в Холоне повсюду висели рекламные плакаты, на которых была я. Странное такое ощущение… Но приятно. Все меня узнавали. Я страшно волновалась. Особенно переживала за упражнение с лентой. Я не могла плохо выступить, ведь за меня болели столько людей, весь город практически. И плакаты эти… Боялась, что подведу всех.
Главной звездой Холонской школы долгое время была другая гимнастка – Яэль Юнгер. В шестилетнем возрасте она, коренная израильтянка, попала в руки «русских» тренеров, и те смогли вырастит из нее гимнастку международного уровня, которая не раз добивалась результатов, которых прежде в стране не добивался никто. Сейчас Яэль служит в армии и продолжает тренироваться. Поначалу она ревниво отнеслась к успехам младшей коллеги по команде, но сейчас все изменилось. Они стали подругами.
- У нас разные характеры, — рассказывает Ирина. – Яэль очень сильная, она выдерживает огромные нагрузки, а я могу выложиться сразу на тренировке, а потом у меня уже нет сил продолжать. Видимо, не умею правильно распределить силы. Яэль помогает мне. В последнее время она уже не воспринимает меня как соперницу. Яэль поддерживает меня: «Давай, ты можешь, ты самая лучшая!» Мы доверяем друг другу, а это так важно.
Занятия в школе, потом тренировки – родители почти не видят свою дочь. У них есть работа, так что времени на внутрисемейное общение остается катастрофически мало. - Папа больше переживает из-за этого. А может быть, мама просто не показывает виду, не знаю. А папа всегда старается как-то забрать меня, увезти, чтобы мы могли побыть с ним вдвоем, только он и я.
Скоро у меня день рождения, и я уже получила подарок от родителей – черного персидского котенка. Я назвала его Чарли. У нас в доме есть собака, но мне хотелось кошку. Это такие красивые животные, а как они движутся, какие позы принимают – попробуй скопируй!
Олимпийская надежда Израиля воспитывает Чарли в перерывах
между тренировками. Пушистый ее друг даже не догадывается, как порой устает
его «мамочка». Но характер Ирины такой, что на следующий день она уже
летит в спортзал, как на крыльях. Она не может жить без соревнований,
а потому спорт стал главной любовь ее жизни. Любовью смешливой девочки
из Холона, которая так любит тортики.
Источник: Holon.JNews.co.il
Дата публикации: 24.12.2003
Анастасия Чернобровина

— Настя, мы, наверное, что-то пропустили? Как давно ты запела?
— Все получилось случайно. Когда в прошлом году начали снимать новый сезон
конкурса Народный артист, всех ведущих канала обязали спеть несколько
песен. Для затравки, так скажем. Ну чтобы посмеяться, наверное, над нами.
Мы же не профессионалы. Мне достались две песни — Летите, летите Аллы
Пугачевой и Маленькая страна Наташи Королевой. Я приехала в студию, начала
их записывать, жутко волновалась, потому что никогда этим не занималась.
Исполнила. И тут мне звукорежиссеры говорят: Настя, а ты не хочешь посерьезней
этим заняться? Я им: Вы что, издеваетесь надо мной? Но они сказали, что
у меня очень хороший тембр, даже назвали российской Дайдо. Я забыла об
этом предложении на полгода, но потом вдруг написала стихи. Сделала подарок
своему любимому человеку на день рождения. Он не позволяет мне делать
дорогие подарки, а я люблю все неожиданное и оригинальное. И вот решила
ему написать песню. Принесла свой текст в ту самую студию, и буквально
через несколько дней композитор и звукорежиссер написал к ним музыку.
Потом песню услышали мои друзья, я дала послушать ее Андрею Державину
из Машины времени, он сказал: Неплохо. И меня, что называется, понесло.
В итоге моими песнями заинтересовался один продюсер, и не исключено, что
они станут музыкальным сопровождением к какому-нибудь фильму или сериалу.
А пока я просто получаю от этого удовольствие.
— Это твой первый опыт сочинения стихов?
— Нет. Стихи я писала и в 14 лет. Я с детства по натуре одиночка. Мама
у меня вечно была занята на работе, ей некогда было заниматься мной, папа
с нами не жил. И лет с семи единственным моим собеседником был мой дневник,
которому можно было выплеснуть все. Вот и выплескивала. Писала стихи.
До того момента, пока не случилось так, что одно стихотворение сбылось
с точностью до каждой строчки. Меня это напугало. А ты можешь себе представить,
что может написать подросток в переходном возрасте? Тогда я решила выплескивать
свою гиперэнергию в театральной студии.
— Музыкальное образование у тебя есть?
— Нет. Я пела в хоре, но в музыкальную школу не поступила. Мне это было
не близко. Зато в театральной студии была суперзвездой. Но перспектива
стать актрисой меня не возбуждала. После школы я была уверена, что во
мне живет великий психолог. Я даже отучилась полгода в университете. Но
в какой-то момент уже четко и окончательно поняла, что хочу работать на
телевидении. А дальше судьба все сама за меня решила. Однажды меня пригласили
сняться в телерекламе. Но я отказалась.
— Почему?
— Я же говорю, что хотела работать на телевидении, а не позировать перед
объективом. Мне очень хотелось работать в новостях. А в тот момент продюсеров
привлек мой внешний вид: я была единственной девушкой в городе, которая
носила в то время на голове 65 косичек. Мне нравилось шокировать. В 13
лет я первая в школе сделала себе вертикальную химию, первая стала ходить
в свободной форме, первой в классе начала краситься. Завуч постоянно грозилась
выгнать из школы, но это было невозможно, поскольку я была круглой отличницей.
А вот уже в 11-м классе, когда девчонки только-только начали, так сказать,
взрослеть, я уже наэкспериментировалась, не красилась и одевалась очень
скромно.
— И куда ты направилась, отказавшись от съемок в рекламе?
— В соседнюю дверь, где была служба новостей. Обратилась, попробовала,
покатило. Через год у меня уже была своя программа, где я брала интервью
у всех звезд, которые к нам приезжали. До сих пор помню свое первое интервью
с Александром Калягиным, потом с Валентином Гафтом, Игорем Квашой. Так
что, когда через три года я приехала в Москву, опыта было достаточно.
Я точно знала, чего хочу. Поступила в университет культуры на факультет
менеджмента кино и телевидения. И точно так же сама пришла на телевидение.
Начала в Вестях в 11 у продюсера Игоря Шестакова и вот с ним работаю уже
9 лет.
— Как приняли девушку из другого города на столичном канале?
— Мне повезло. Как и в Ижевске, я сразу попала в классную команду, с хорошим
руководителем, которому доверяю. Единственное, девочки, конечно, сразу
приняли меня в штыки, но потом мы сдружились. А половина мальчишек относилась
ко мне, как к сестре, другая половина сразу же повлюблялась. В общем,
весело было.
— С недавнего времени ты ведешь важные официальные концерты, которые по
статусу можно приравнять к прямо-таки правительственным мероприятиям.
Как же руководитель отпустил любимую сотрудницу?
— Сначала он был категорически против. Говорил, что меня эти концерты
испортят. Там же все такие пафосные, правильные, и у Игоря Леонидовича
появилось опасение, что я и в нашей программе стану безликим диктором.
Но со временем я научилась там быть пафосной, а в Добром утре, Россия!
— оставаться самой собой.
— С концертами, можно сказать, тебе тоже повезло. Ты первая из молодых
ведущих, сменивших поколение мэтров.
— Я помню свой первый концерт ко Дню милиции. Конечно, приятно было работать
на одной сцене с такими мэтрами, как Кириллов, Меньшов, Моргунова, Вовк.
В то же время некоторые женщины очень болезненно и ревностно отнеслись
ко мне и даже пару раз выгоняли из гримерки. Но я очень спокойно это воспринимала.
Мой концертный крестный отец Игорь Кириллов, когда-то он, можно сказать,
благословил меня перед первым в моей жизни выходом на сцену. А моя крестная
— Ангелина Вовк. Она всегда говорила: Деточка, никогда не обращай внимания
на злые языки. Я сама когда-то была такой же молодой, точно так же я сменяла
другое поколение, и точно так же ко мне относились. Просто спокойно работай
и делай свое дело. Пусть, как говорится, собаки лают...
— Благодаря твоим путешествиям в рамках акции Все утра мира мы теперь
видим, с чего начинается утро в разных странах. А с чего начинается утро
лично Насти Чернобровиной?
— Рабочая неделя — это банальный, четкий режим. В час ночи подъем, в два
я уже на работе, за компьютером, затем гримерка и эфир в студии. Спать
ложусь обычно часов в пять вечера. До этого занимаюсь еще проектами в
разных женских журналах. В выходную неделю первые два дня после эфира
я просто отсыпаюсь. Биологические часы меняются, и, чтобы плавно перейти
на нормальный график, нужно время. Я просыпаюсь, грызу яблоко, опять засыпаю.
Через пару часов просыпаюсь, выпиваю чай с йогуртом, затем снова сон.
А вообще на свободной неделе я пишу диссертацию, занимаюсь английским,
хожу в спортклуб либо уезжаю куда-нибудь отдохнуть. А летом у меня обязательный
ритуал — я вырываюсь на рыбалку! Это моя слабость.
— Ничего себе. Нестандартное увлечение для девушки.
— Я так горжусь своей удочкой! В прошлом году мой любимый подарил мне
хорошую японскую легкую удочку. Женскую. Привез меня к озеру, стал гордо
доставать блесны, леску, крючки, грузила... и вот она, удочка! Он сам
не рыбачит, он, как я его называю, профессиональный сачок. То есть сидит
рядом и книги читает. Но! Как только у меня клюет, он рядом — вовремя
и так мастерски рыбу сачком достает. Так вот, вынимает он новую удочку
и гордо начинает показывать, как она великолепно гнется. Начал ее сгибать,
и... на моих глазах она разлетается на мелкие кусочки. Новая удочка! На
следующий день я получила в подарок новую. Снова еду на рыбалку, ловлю
осетра. Осетр идет очень большой, подсекаю, и она под тяжестью снова ломается.
В итоге на третий день мой любимый привез мне просто гигантскую толстую
удочку в шесть колен. Рыбаки все были в шоке. Вы что, говорят, на кита
пошли, это же мачтовая удочка, чтобы рыбачить на крупную рыбу в море!!!
Зато в прошлом году, на закрытии сезона, я поймала огромного осетра. Килограмма
два, наверное. Это был мой скромный, но рекорд. И потом сделала из него
шикарное блюдо. Запекла с зеленью, овощами, друзьям понравилось. Сама
свои блюда я никогда не пробую.
— Так тщательно следишь за фигурой?
— За фигурой, конечно, слежу. Но у меня еще просто так устроен организм,
что ем я слишком мало. И это всегда всех шокирует. Мне часто задают вопрос:
на какой диете вы сидите? Отвечаю: Моя диета — это спорт, любовь, любимая
работа и много фруктов. Весь мой рацион: с утра йогурт и соки, днем —
колоссальное количество фруктов. Причем у меня посезонное питание. Зимой
— огромное количество гранатов, весной — виноград (5 кг на три дня), летом
— черешня и сливы, осенью — арбузы и хурма. И всегда вне сезона — яблоки.
В день могу легко съесть два килограмма. Еще ни дня без зелени: петрушки,
кинзы, укропа. Причем покупаю не пучками, как все, а килограммами. Мужчин
сразу предупреждаю, что со мной неинтересно ходить в рестораны. Но вот
операторам ездить со мной в командировки — одно удовольствие. На завтраках,
обедах и ужинах все мои блюда достаются им. А я пью только кофе или чай,
очень люблю вино. И это не диета, это стиль жизни.
— Настя, а что же за таинственный молодой человек, который дарил удочки?
— Он живет во Франции. А познакомились мы в Греции, очень забавно, в погоне
за закатом. Я много путешествую, и мне очень нравится фотографировать
закаты и рассветы в разных точках планеты. И вот в прошлом году, в Греции,
на острове Миконос я побежала к морю встречать очередной закат. Там есть
одно место, где солнце особенно красиво. Это целое шоу, когда собирается
много людей, все наслаждаются этим мимолетным зрелищем, и когда солнце
садится — все аплодируют. Рядом со мной фотографировал молодой человек.
Мы разговорились, выяснилось, что он такой же охотник. Стали общаться.
Нас многое сближало. Он ландшафтный дизайнер, ему около 40 лет. Сейчас
мы переписываемся по электронке, или он назначает свидания в разных странах.
Он такой же экстремал, как и я, так что либо мы на яхте уходим на морскую
рыбалку, либо он берет небольшой самолет, и мы путешествуем по островам.
— Он видел тебя на экране?
— Он даже специально купил себе спутниковую тарелку и всегда у себя дома
смотрит мои эфиры. Моя рабочая неделя — это его рабочая неделя. Он будит
меня трижды SMS’ками, так же не спит со мной ночью, когда я работаю, после
эфира всегда позвонит, поддержит, оценит. И критикует тоже. И дома у меня
круглый год маленький райский уголок, потому что он всегда присылает мне
живые цветы. В феврале у меня появляется сирень, в марте — самые настоящие
колокольчики. Охапками! Поэтому его отсутствия я фактически не замечаю.
Я знаю, что он всегда рядом. Ну а планов на будущее мы пока не строим.
— В прессе три года назад появились твои фотографии с другим молодым человеком
— Максимом Галкиным. У вас действительно был серьезный роман?
— Мы — хорошие друзья. Познакомились, когда я уже вела концерты, а он
только-только начинал в качестве шоумена и юмориста. Была смешная история,
когда я стояла за кулисами, читаю сценарий. Говорю: Так, кто у нас следующий?
Максим Галкин. А кто это? И тут голос из-за спины: Это я. Так мы с ним
познакомились. Потом мы как-то вели вместе концертные приемы Юрия Лужкова
в Дни города. Да, мы встречались, ходили в театры, кино, в метро еще тогда
ездили. Нас тогда еще никто не узнавал. Потом он пригласил меня на ТЭФИ.
Там нас сфотографировали, а на следующий день страна уже поженила нас.
— И даже после этого отношения ни во что не переросли?
— Он — молодой, привлекательный. Я — молодая, чертовски привлекательная.
Так зачем нам время терять на личную жизнь? Мы оба трудоголики. Так что
сейчас успеваем только созваниваться. Лично меня это вполне устраивает.
Мы — друзья. Не более.
— Я тебя слушаю, и у меня создается ощущение, что ты очень правильная
девушка, прямо пример для подражания. Отличница, всего сама добилась.
А что в тебе отрицательного?
— Наверное, я еще не научилась умеренности. Потому что когда я чем-то
увлекаюсь, то выкладываюсь полностью, отдаюсь этому до конца, а потом
сама себя начинаю разрушать. Сейчас работаю над собой. Стала изучать дао.
Еще, наверное, я очень ревнива. Не думаю, что это хорошее качество. Хотя
сейчас я уже мудрее, чем раньше. Вокруг моей персоны всегда было много
поклонников, но при этом я считала, что если человек мне симпатичен, то
у него не должно быть никого, кроме меня. Собственница. И еще я слишком
много занимаюсь самокопанием. Хорошо это или плохо, я не знаю.
— В умеренных дозах полезно.
— Да, особенно когда начинает заносить. Хотя сейчас эта проблема меня
уже вряд ли коснется. Я о звездной болезни. Через это все проходят, кто
бы что ни говорил. Еще в Ижевске, когда моя карьера пошла вверх, я стала
очень известной, на каждом шагу масса поклонников. Представь, девочке
19 лет, конечно, заносило. Но, слава богу, рядом оказались взрослые мудрые
люди, которые вовремя поставили на место и дали понять, что такое поведение
ни к чему не приведет. Было стыдно. До сих пор стыдно. В какой-то момент
я поняла и на примерах других уже уверена, что заносчивость — саморазрушающее
чувство. Сейчас рядом есть взрослый, опытный, любимый человек, который
любит и направляет. А я просто танцую.
Автор: Валентина Пескова
Сайт: Московский комсомолец
Дата публикации на сайте: 05.07.2005
Алла Баратта
Алла Баратта - тележурналист, автор и ведущая еженедельной программы «Визави с Аллой Баратта» на телеканале RTVi. Родилась в украинском городе Гайворон. Имеет высшее музыкальное образование по специальностям «фортепиано» и «теория музыки». Живя в Москве, работала в продюсерском центре «АРС». С 1993 г. живет в США.
|
 |
- Я знаю, что вы часто бываете в Москве. Где вы больше
ощущаете себя дома: в Америке или в России?
- 15 лет назад, приехав в Америку, я очень тяжело привыкала. Многое раздражало,
было непонятны, жутко хотелось вернуться. Я думаю, что именно работа спасла
меня тогда и дала возможность найти себя, понять и полюбить Америку. Сегодня
это моя страна. Что касается Москвы, то я очень люблю бывать там и достаточно
часто бываю. Москва для меня - фейерверк эмоций, нескончаемый праздник,
интересные встречи, театры, концерты, рестораны, обязательное посещение
рынка, посиделки со старыми и любимыми друзьями. Но это всё же временное
состояние души.
- С кем из ваших собеседников вам было особенно приятно общаться?
- Мои друзья часто подсмеиваются надо мной, говоря, что я обожаю всех
своих гостей. И это правда. Готовясь к очередному интервью, я в какой-то
степени «проживаю» жизнь моего будущего собеседника. Мне важно понять
и полюбить моего героя. Лишь только тогда мне будет интересно, а это значит,
что будет интересно и моим зрителям. Во всяком случае, я на это надеюсь.
Из последних встреч на меня неизгладимое впечатление произвело знакомство
с Еленой Образцовой. Вот уж, поистине, женщина, на которую хотелось бы
быть похожей! А еще я просто влюбилась в Гошу Куценко. Сначала он долго
отказывался давать интервью, потом согласился, но с одним условием: я
должна была побывать на организованном им благотворительном концерте,
на двух спектаклях и на съемках третьей части фильма «Антикиллер». Мне
пришлось отложить мой отъезд из Москвы, и я об этом не пожалела. Благодаря
общению с Гошей я увидела в нем совершенно другого человека, и мои заготовки
к интервью, сделанные на основе публикаций о Куценко, уже не понадобились.
Было бы здорово всегда так готовиться к интервью, потому что зачастую
многое из того, что пишут или рассказывают о звездах, совершенно не соответствует
действительности. Смею надеяться, что мне удалось увидеть и почувствовать
настоящего Гошу Куценко - доброго, трогательного, волнующегося о друзьях,
родителях, заботящегося о детях, больных церебральным параличом, страдающего,
смешного, совершенно незвездного, внимательного, обаятельного, умного,
тонкого и очень талантливого.
- Нередко вы очень мягко и убедительно опровергаете слухи и домыслы, которые
распускаются в прессе по поводу жизни знаменитостей...
- Так уж сложилось, что большую часть своей жизни я вращаюсь в кругу звезд.
Я знаю, как наш брат-журналист в погоне за сенсацией может больно ранить,
зачастую выдумывая или переиначивая факты. Я стремлюсь относится к своей
профессии честно и уважать частную жизнь других.
- Одни говорят, что родство со знаменитостью способствует карьере, другие
- что мешает. Как это обстояло в вашем случае? Ведь многим известно, что
вы - родная сестра знаменитого композитора Игоря Крутого.
- Я очень ценю свои близкие и дружеские отношения с братом. Бесконечно
люблю его, горжусь им, верю ему и прислушиваюсь к каждому его совету и
замечанию, обожаю его музыку, ценю его доброту, преданность, щедрость,
порядочность, профессионализм и увлеченность профессией. Стараюсь быть
ему достойной сестрой. Если я один день не разговариваю по телефону с
ним или мамой, то этот день прожит зря. Я ценю эту связь, ощущение того,
что на земле живут люди, которые близко принимают и мои радости, и мои
горести, которые думают обо мне если и не каждую секунду, то каждые несколько
минут. Как, впрочем, и я о них. И я знаю, что более тесной связи, чем
эта, быть не может. Что касается того, помогало ли родство моей карьере...
Наверное, было бы намного легче появиться впервые на телеэкране с фамилией
Крутая. Однако я выбрала более сложный, но, как мне кажется, более достойный
и честный путь.
- А кто ваши родители? Каковы были принципы воспитания в вашей семье?
- Наверное, это нескромно, но я всё же процитирую маму. Она в последние
годы всё время повторяет, что если бы знала, какие у нее получатся дети,
то родила бы еще несколько. Конечно это шутка, но ведь это же здорово,
что она нами гордится! Воспитывали нас строго, без поблажек, но в большой
любви. Родительская любовь, уважение и интерес к жизни детей дают уверенность
на всю жизнь.
Папа умер много лет назад. Ему было всего 53 года. О его выдержанности,
порядочности, доброте ходили легенды. Внешне, как говорят, я очень похожа
на него. Хотелось бы быть похожей на него и по характеру. Я очень тяжело
перенесла его смерть. Мне и сейчас его не хватает, хотя прошло уже 27
лет. Иногда я мысленно с ним советуюсь или представляю, как он повел бы
себя в той или иной ситуации. Как жаль, что его нет с нами... Как жаль,
что я многое не успела ему сказать...
Моя мама - это моя совесть. На все свои поступки пытаюсь смотреть ее глазами.
Она человек необыкновенной преданности, порядочности и доброты. Мама помогла
и помогает такому количеству людей, что только благодаря этому должна
жить очень долго. И делает она это от чистого сердца, порой даря людям
надежду, а может быть, и жизнь. Ее жизнестойкость, гостеприимство и дружелюбие
уже давно стали ее визитной карточкой. А ее вареники и пирожки знают и
любят не только в Москве, но и в Америке. Она до сих пор не утратила интереса
к хорошей книге, спектаклю, концерту. У нее замечательные подруги в Москве,
которых я очень уважаю и люблю. Так что у «мамчика», как мы с Игорем ее
называем, есть чему поучиться.
- Как вы считаете, в чем секрет женской привлекательности? В частности,
вашей.
- Благодарю за комплимент! Мне кажется, что привлекательность заключается
в естественности, женственности, уверенности в себе, умении использовать
данные природой ресурсы. Очень важно найти свой стиль в одежде, манере
общения. Найти ту «изюминку» в себе, которая потом привлечет и очарует
других. Это трудная работа, но наградой служат внимание и восхищение других.
Да, кстати, несмотря на то что мужчины, по статистике, не очень любят
умных женщин, мне кажется, что интеллигентность и тонкость в правильной
дозировке тоже не помешают.
- Чем вы обычно занимаетесь в свободное от работы время?
- Люблю читать, ходить в кино, готовить, слушать хорошую музыку, общаться
с друзьями, Люблю книжные, хозяйственные и мебельные магазины. Люблю плавать
и загорать. Люблю фотографировать, готовиться к новым программам, знакомиться
с интересными людьми. Люблю дарить подарки, смотреть телевизор. Люблю
фигурное катание, баскетбол и художественную гимнастику.
- О чем вы мечтаете?
- Вообще-то, я суеверная... Ну да ладно, в общих чертах не считается...
Я сейчас работаю над своей линией одежды и косметики. Мне это очень интересно,
тем более что когда-то я мечтала стать дизайнером. А с косметикой у меня
вообще особые отношения. Когда-то на последние деньги, сэкономленные от
стипендии, покупала духи и хорошую косметику. Всегда любила экспериментировать
и находить что-то новое. Мне часто задают вопрос, какой косметикой я пользуюсь
на съемках. Путем экспериментов и проб перед камерой я отобрала нужную
мне косметику разных фирм и теперь на основе этого опыта хочу создать
свою линию. Сейчас я занимаюсь этим с группой профессионалов. Посмотрим...Что
касается духов, то я достаточно консервативна и постоянна в своих пристрастиях:
люблю женственные, легкие, искристые, солнечные и, самое главное, натуральные
запахи цветов, цветущих фруктовых деревьев - чуть с горчинкой и цитрусовой
добавкой. Не переношу тяжелых, сладких и искусственных запахов.
Я также хочу выпустить DVD со своими самыми удачными интервью. Хочу написать
поваренную книгу. Я выросла в Украине, совсем рядом находилась Молдавия,
я дружила с бакинкой, не понаслышке знакома с итальянской и французской
кухней. Всё это переплелось в блюдах, которые я готовлю. Судя по отзывам
друзей, мне есть чем поделиться.
Но самая главная мечта заключается в том, что я хочу научиться ценить
каждую прожитую секунду и наслаждаться ею, не задумываясь о том, что будет
завтра или через несколько лет. Так что работы, как видите, непочатый
край.
Автор: Анна ЦИПРИС
Источник: «Европа-Экспресс»
8 Сентября 2008, номер 37 (549)
Надежда Чередниченко
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Надежда Илларионовна родилась
14.08.1927, г. Богуслав, Киевская обл.
Заслуженная артистка РСФСР (1971)

Дебют в кино. Первый брак
Надежда Чередниченко родилась на Украине в городе Богуслав, что на юге
Киевской области. После школы девушка поступила во ВГИК, где обучалась
в мастерской Юрия Райзмана. Тогда же состоялся ее дебют в кино. Молодая
актриса сыграла Нину Грекову в спортивной комедии режиссера Андрея Фролова
«Первая перчатка».
На съемках фильма Надежда познакомилась с популярным актером Иваном Переверзевым.
В том же 1946 году они сыграли свадьбу. Позже у них родился сын Сергей.
Однако брак Надежды Чередниченко и Ивана Переверзева не выдержал испытания
семейным бытом, и вскоре они расстались.

Кино. Второй брак
После окончания ВГИКа в 1949 году Надежда Чередниченко стала актрисой
Театра-студии киноактера. Здесь она проработала более 30 лет.
Основные свои роли в кино Надежда сыграла в период с 1954 по 1960 год.
Зрители запомнили ее ролям в спортивной драме Владимира Гончукова «Чемпион
мира» (Настя), в фильме Владимира Брауна «Матрос Чижик», в производственной
мелодраме Евгения Брюнчютина «Когда поют соловьи» (Марьяна Кудель), военной
драме Михаила Винярского «Координаты неизвестны» (Нюра).
В середине 50-х произошли изменения в личной жизни актрисы. В Одессе она
познакомилась с Петром Тодоровским – в то время еще молодым и никому не
известным оператором. Петр Ефимович вспоминает: «Это был такой роман с
захлестом. Я только освободился после картины: лето, Одесса, Привоз, вино.…
Очень как-то все бурно у нас развивалось: приехали в Москву - сразу расписались.
Где-то интуитивно понимал: я какой-то оператор провинциальный, зарплата
120 рублей. И тут такая звезда: квартира на Котельнической набережной,
машина “Волга”, дача где-то в Сухуми. В общем, чувствовал себя не в своей
тарелке…»

Их брак просуществовал недолго. В 1961 году Надежда и Петр по обоюдному
согласию расстались, сохраняя дружеские отношения. Впоследствии Петр Тодоровский
стал известнейшим кинорежиссером. А вот у Чередниченко актерская карьера
в начале 60х практически завершилась…
Дальнейшая судьба
В 1960 году Надежда Чередниченко окончила Музыкально-педагогический институт
имени Гнесиных по классу вокала. Она стала много выступать с концертами
классического репертуара. В кино актриса сниматься практически перестала.
Зрители увидели ее вновь лишь в 1966 году в небольшой роли в экранизации
рассказа Чехова «Душечка», а затем в 1970 году в советско-итальянской
ленте «Подсолнухи».
Что же касается личной жизни, то в начале 60-х Надежда Чередниченко неожиданно
вернулась к первому мужу. Переверзев к этому моменту тоже был разведен
вторично. Но эта попытка совместной жизни оказалась еще короче первой.
Вместе они прожили всего полтора года.
Автор: Игорь BIN
Источник: http://www.rusactors.ru/ch/cherednichenko/index.shtml
Амазонка авангарда
 |
|
Шабшай сотрудничала с композиторами из "Общества
еврейской музыки", молодыми музыкантами и художниками, выпускниками
ВХУТЕМАСа, выполнявшими эскизы костюмов к ее постановкам. Вечера еврейского
танца, балета и пантомимы проходили в Государственном еврейском театре
и на различных московских сценах. Ее деятельность прервалась с закатом
авангардного искусства в сталинские времена.
"Амазонками авангарда" называл талантливых художниц русского
авангарда Александру Экстер, Наталию Гончарову, Ольгу Розанову поэт-футурист
Бенедикт Лившиц. К их кругу можно причислить и Веру Шабшай. Одако название
выставки "Забытая амазонка авангарда" эффектное, но не точное.
Если бы Вера Шабшай была забыта, то не было бы самой выставки, любопытной
экспозиции в Рамат-Ганском музее. За подготовкой этой выставки и историей
исследования архивов и документов, связанных с Верой Шабшай, стоит надежда
сберечь память об этой танцовщице и хореографе и желание рассказать ее
историю в картинах и старых фотографиях зрителям. Инициатором этой выставки
стала живущая в Израиле дочь Веры Шабшай - Наталья Львовна Шабшай, ее
внук - скульптор и специалист по художественной ковке Андрей Куманин и
куратор музея имени Цейтлиных Леся Войскун.

В истории Веры Шабшай есть много славных имен. Ее отец - профессор Яков Фабианович Каган-Шабшай - был известным в Москве коллекционером и меценатом, участником "Кружка еврейской эстетики", одним из первых покупателей работ Шагала, профессором основанного им же в 1920 году в Москве на собственные средства Института инженеров-электриков-производственников, в дальнейшем Государственный Электромашиностроительный институт имени Я.Ф. Каган-Шабшая (ГЭМИКШ). До 1932 года Яков Фабианович был директором этого института и профессором электромашиностроения, заведуя той же кафедрой. В 1930 году на базе Станко-инструментального факультета ГЭМИКШ Каган-Шабшай создал в Москве Станко-Инструментальный институт (СТАНКИН). Судьба этой семьи - удивительна и драматична, как судьба большинства еврейских семей, промчавшихся сквозь 20-й век.
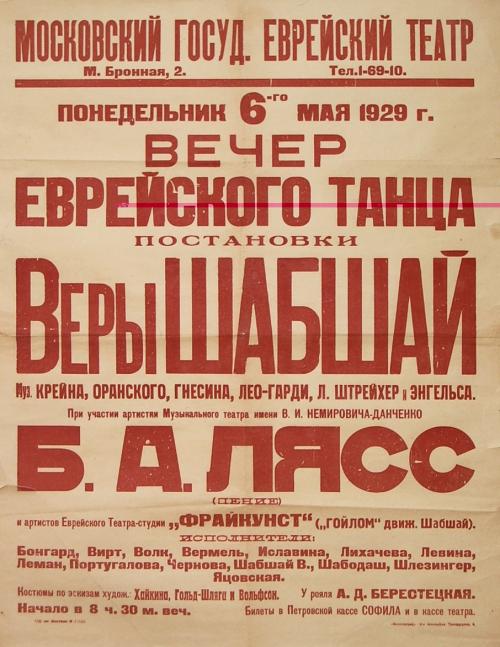
Часть рассказа об этой семье, посвященная Вере Шабшай, и есть тема выставки, которую больше года готовила куратор Музея русского искусства Леся Войскун и которую стоит посмотреть не только тем, кто интересуется историей развития танца в коммунистической России, но и тем, кому любопытно узнать, как работают музейные кураторы; как из случайного разговора рождается выставка, за которой стоят годы труда, бесконечная переписка, поиски в архивах, сложная атрибуция, реставрация фотографий, поездки, разговоры, работа в музейных лабораториях - к примеру, для того, чтобы определить состав клея, которым пользовались в московских фотомастерских в 20-х годах прошлого века на старых черно-белых снимках, присланных в музей для этой выставки...

История создания выставки вкратце такова: в 2003 году в газете "Вести" появилась первая в Израиле публикация о Вере Шабшай (автор - Ян Топоровский), затем фамилию Шабшай Леся услышала от хранителя балетного отдела тель-авивской библиотеки "Бейт-Ариэла" Виктории Ходорковской, позже она познакомилась с Натальей Львовной Шабшай и ее сыном Андреем Куманиным, но идея выставки еще не выкристаллизовалась. Понадобилось еще немало времени для того, чтобы описать и объяснить в прекрасно изданном каталоге выставки (график-дизайнер - Полина Адамова) каждую строчку со старых афиш, узнать, кто стоит за перечисленными на них именами, за бледными буквами выцветшей типографской краски, за фигурами на фотографиях, впервые представленных широкой публике.

Несколько вопросов к Лесе Войскун - куратору музея и выставки:
Как появилась эта выставка? Вы поговорили с рядом людей, частью - случайно. Проявилось некое направление работы. Что было дальше?
- Дальше было непросто: надо было определить характер выставки, ее контекст, центральную тему, отталкиваясь от десятка старых безымянных снимков. Представить немногие имеющиеся материалы как часть большого проекта. Попавшие ко мне в руки несколько фотографий были выставлены в Бахрушинском театральном музее в Москве и описаны в каталоге. Автора статьи, в которой упоминалась Вера Шабшай, я встретила на конференции в Одессе, куда поехала в связи с другой выставкой - коллекции Перемана - в нашем музее. И так все началось - с каких-то упоминаний, со случайных встреч, с писем московских потомков семейства Шабшай, вдруг начавших приходить в музей... Постепенно стала вырисовываться центральная линия: оказалось, что эти старые фотографии были сделаны в рамках исследовательского проекта еврейского и авангардного танца в России 1920-х годов. Вера Шабшай также занималась хореографией для еврейского театра, в постановках которого заметное место занимала сценическая пластика. В каталоге выставки по следам материалов экспозиции описываются и соратники Веры Шабшай, рассматриваются параллели между ее творчеством и танцами в Палестине 20-30-х годов.
Вы собрали материалы, посвященные Вере Шабшай и авангардному танцу в России, выпустили книгу, оформленную в духе "Окон РОСТа", явно потратили массу времени. Посему возникает банальный вопрос - как вам удалось "пробить" тему, не является ли она спорной для художественного музея и как удалось добыть деньги на проведение выставки?
- Музей русского искусства имени Цейтлиных - муниципальный, то есть деньги дал город. Не сразу, конечно, а после того, как директор рамат-ганских музеев Меир Аронсон, пусть и с некоторыми сомнениями, утвердил тему выставки.
Его сомнения не удивительны. Кому интересны старые фотографии - изломанные
позы физкультурного российского авангарда почти что вековой давности?
- Он еще больше удивился на открытии - количеству пришедших гостей. Балетный авангард многим интересен, пусть это и спорная тема для художественного музея, но любой музей - это еще и просветительская работа, возможность выставить нигде ранее не экспонирующиеся материалы, научные иследования. Выставка получила немалый резонанс - нам и пишут из Москвы, Франции, США.
А местное хореографическое общество отреагировало?
- Пока что полной тишиной, несмотря на то, что один из разделов выставки посвящен тому, что происходило в балетном Тель-Авиве в 1920-30-е годы. Реакция в израильской прессе также почти нулевая, а ведь благодаря этой выставке музей получил редчайшие материалы. Но не это главное - главное, чтобы сюда пришли зрители и поняли, кто такая Вера Шабшай и что такое еврейский танец.
Была идея - показать становление авангардного и еврейского танца,
был десяток старых фотографий, по почте прислали выцветшие плакаты. Как
на этих материалах вы строили экспозицию, как проводили атрибутику?
- Читала, ходила по специализированным библиотекам, искала в интернете, но главное - обращала внимание на те вещи, на которые никто до этого не обращал внимания. И вдруг все начало соединяться. Имя, увиденное на подписи к фотографии, встретилось в книге, мелькнуло на афише, и в результате все соединилось целостную экспозицию. Мне стали присылать книги, эскизы. Московские родственники Веры Шабшай решили выставить не показывавшиеся ранее рисунки Фалька, Купреянова, портрет Веры Шабшай кисти Андрея Гончарова. Да и все на этой выставке выставлено в первый раз. Многие материалы десятки лет лежали в письменном столе. Часть из них были привезены в Израиль Натальей Шабшай, часть прислали из Москвы специально для выставки.
И что в результате получилось - рассказ о Вере Шабшай или о еврейском танце?
- Очень сложно привлечь публику на выставку о малоизвестном человеке. Потому имя Шабшай мы связали с историей авангарда, ГОСЕТа, художественного - свободного, а не этнического - танца в России, проявления конструктивистских идей, историей существовавшей в 20-е годы "Хореологической лаборатории", балетные эксперименты которой снимали фотографы из Русского фотографического общества в рамках грандиозного проекта изучения человеческого тела и движений. Время, отведенное для жизни еврейского балета и пантомимы в советском обществе, оказалось очень коротким. Правда, Вере Шабшай удалось не только провести в столице "еврейские вечера", но и создать такие крупные постановки, как "Алеф" - балет-пантомиму, музыку для которого написали Гнесин, Крейн, Мильнер, Оранский, Сац, Штрейхер, Энгель, и "Дочь Иеффая" - балетную сказку на музыку Александра Крейна, шедшую на подмостках театра "Фрайкунст" в 1930-31 годах.
Вся эта история закончились в 1936 году?
- Да. Потому так и интересны снимки "Хореологической лаборатории", что можно провести параллели между тем, что происходило в Москве, и тем, что делали в Эрец-Исраэль в 30-е годы сестры Оренштейн, Гертруда Краус, Барух Агадати (на выставке представлены их фотографии, сделанные Альфонсом Гиммельрайхом и Авраамом Соскиным).
Вы проделали огромную работу, масштаб которой понятен только специалистам.
А зрители смогут оценить саму выставку, работу, стоящую за каждым словом
на подписях к фотографиям?
- Мне важно, чтобы зрители пришли на выставку и увидели, какой личностью была Вера Шабшай. А вся работа по датировке, атрибутике, результаты переписки с другими музеями и библиотеками - все это описано в каталоге выставки, благодаря которому зрители могут ее оценить без подробных экскурсий.
Эта выставка хорошо смотрится, она эстетична, она необычна. Как вы
пытаетесь привлечь людей?
- Просто приглашаю всех ее посмотреть.
Выставка "Хореограф Вера Шабшай - забытая амазонка авангарда"
проходит в Музее русского искусства им. Цетлиных в Рамат-Гане (ул. Хибат
Цион, 18). Телефон для справок: 03-6188243. Музей работает все дни недели,
включая субботу. Выставка продлится до конца декабря.
Редакция благодарит Машу Хинич за предоставленные
материалы.
Источник: http://tarbut.zahav.ru/cellcom/art/article.php?view=207
Светлана Ковалёва

Стихи писали когда-либо все или почти все. Особенно в юном возрасте, когда первые и потому абсолютно новые чувства заставляют не говорить, а петь или как минимум рифмовать. Сейчас с песнями не проблема, в машине, на плеере, под любое настроение. Так что и поэтов, наверное, меньше вокруг. В этой связи удивительны те люди, которые, как говорят, реализовавшись, обретя успех в жизни, в деле, начинают заниматься творчеством. С начал, но профессионально, уверенно, без оглядок.
Зовут ее Светлана Ковалева. Несколько лет назад она разместила
свои стихи на одном из тематических сайтов в Интернете. Когда после десятка
добрых и даже восторженных комментариев появился один развернутый критический,
Ковалева немедленно скрыла свое творчество от посторонних глаз. “Тогда
была не готова к публичности, — комментирует она и разъясняет, почему.
— Не было ощущения, что такого рода выход “в люди” комфортен, уместен.
Как будто твоего ребенка раскритиковали незаслуженно: обида и растерянность.
А сейчас готова к любым замечаниям в адрес своих песен и стихов, критике,
даже поспорить с кем-то…”
Сегодня песни на стихи Светланы Ковалевой исполняются со сцены, записан
альбом, готовятся к выпуску сборники. И у нее, пожалуй, нет сомнений в
серьезности своих намерений.

Лирический романс ныне востребован не самой широкой аудиторией. Но вот
что пишут Светлане Ковалевой читатели.
“Я… искала доклад о музыкальных направлениях, в школу… в общем, я представитель
современной молодежи не совсем формальной ))) …И скажу так: Ваши стихи
мне очень понравились, особенно “Осень”, “Да — Нет”, романс “Мне нагадали
любовь”… У меня в то время жутко болела голова, а когда прочитала пару
стихов, прям как рукой сняло )) спасибо Вам)”. Или такой отзыв: “Вы делаете
очень много полезного в наше безумное время. Вы несете частичку своей
души и попадаете прямо в цель…” Есть сравнение песен на стихи Светланы
Ковалевой с родниковой водой, что характерно, но и аудитория все же в
основном характерная. Если поразмышлять на эту тему, вывод парадоксальный:
эфир радио, телевидения не переполнен музыкой, а напротив, как расширяющаяся
вселенная, зияет пустотами. Есть так называемый “формат”, перегруженные
и ломящиеся от переполненности сферы, их видно и слышно, а вот “неформат”
мечется неприкаянный. Народ имеет то правительство, которого он достоин.
Люди имеют ту музыку, которой они достойны…

“Я русская, а это значит, Другой быть просто не могу”, — написала однажды
Светлана. В связи со старыми-новыми ноябрьскими госпраздниками много сейчас
размышлений в прессе, и не только о национальной идее, гражданском единении
и т.п. А в это же время наши соотечественники за рубежом, не важно какой
волны, когда собираются, поют именно русские лирические песни, народные
и авторские, “неформат” для наших радиостанций… И песни их уже долгие
десятилетия объединяют. Есть вещи государственного уровня, которые развиваются
без всяких федеральных программ, сами по себе. К примеру, одна из подруг
Ковалевой занимается историей и сохранением русского национального костюма.
Кто-то книгу сохранил редчайшую. Светлана пишет лирические романсы и,
стало быть, не дает, вместе с другими, увядать этому слою культуры страны.
И никакой кризис не может на это повлиять. Тем не менее неформатной лирике
выжить тяжело, играя по общим правилам. Попсовые pr-ценники давно зашкаливают,
особенно для поэтов, для песенников. Явление культуры просто не может
существовать по тем же правилам, что и продукт потребления, как не могут
по одинаковым правилам функционировать колодец с ключевой водой и кастрюля
с борщом. Посчитайте бюджет на год: услуги специализированного агентства,
выпуск двух дисков…

Плюс (или минус?) пресловутый кризис. Получается сумма, адекватная стоимости
хорошей квартиры в Подмосковье.
К счастью, и в отличие от “попсы”, в области лирического романса и русской
лирической песни невозможно из нуля сделать значимую величину, только
вложив деньги. Надо быть уже кем-то состоявшимся, по крайней мере, обоснованно
нести в себе это ощущение.
А теперь о знаках. Те, кто хотя бы недолго знаком со Светланой Ковалевой,
говорят, что она умеет видеть знаки судьбы. С одной стороны, это хорошее
приложение к дару поэта. С другой — не видится здесь ничего мистического.
Света уже много лет возглавляет кадровое направление в крупной компании
и часто общается с новыми людьми для выяснения их личных качеств. Но количество
переходит в качество, и вот здесь-то начинают работать интуиция, подсознание.
Правильно “угадала” она и исполнителей для своих произведений. Песни на
стихи Светланы Ковалевой исполняют народная артистка России Екатерина
Молодцова и ее дочь, певица Оксана Молодцова.

Из словарного запаса, даже очень обширного, создать стихи нелегко. Для
большинства это некая тайна, чудо. Для Светланы Ковалевой — естественный
процесс, проистекающий из сердца, из души. А раз таких людей не слишком
много, давайте их беречь, ведь с ними легче и красивее живется.
Источник: http://www.mk.ru/blogs/MK/2008/11/05/moscow/379335/
А теперь слово самой Светлане:
"На берегу реки Истра стояли деревенские избы. Деревня
жила своей патриархальной жизнью. Трудились в ней люди, рожали и растили
детей, хоронили своих близких, праздники отмечали (тогда говорили – «гуляли»).
Гуляли широко, с размахом. Не в смысле богатых угощений, а в смысле «гуляла
душа». Гостей за столами много, и песни пели, да как пели, особенно мужчины,
сейчас мало кто так поет – с душой, да со слезой.
В этой деревне жили мои бабушки – мой душевный свет. Я себя тогда мало
помню. Помню дом, калитку на улицу, за которой был бесконечный простор:
леса, поля, река, поляны, пригорки. Там росли ярко красные цветы, очень
маленькие, чем-то напоминающие гвоздику. Помню по обочине колхозного поля
васильки – синие-синие. Помню березовую рощу и корни этих берез – мощные,
сильные. Я маленькая совсем ходила возле берез – на корни смотрела и мне
казалось тогда, что все вокруг на этих корнях и держится. А около корней
земляничные листья и ягоды – спелые, красные, душистые. А люди, какие…
Яркие, самобытные, простые и мудрые жили там, да и теперь живут. Дай Бог
им всем здоровья и долголетия. А вот бабушек моих уже нет. А все, чему
они меня научили, оказалось самой ценной наукой. Много книг умных потом
прочла, да каждую на бабушкину мудрость мерила. И мерить буду.

Когда мне было лет пять, бабушка привела меня в церковь. С тех пор так
и хожу. И ходить буду. И внуков поведу – Бог даст.
Все, что в жизни удалось, чего добилась трудом своим, так все равно в
том больше заслуга не моя. Живу в Москве, работаю 14 лет в кадровой службе
в одной из крупных компаний. Получила высшее образование, потом специальное.
Возглавила эту службу. Стараюсь быть хорошим руководителем. Одна проблема
– не приемлю западных стандартов для Российского рынка, ведь у нас все
должно быть свое, зачем нам чужие шаблоны и стандарты. Надо знать свою
историю, своих философов – Ильина, Шмелева, а уж только потом Шопенгауэра
и прочих. А то перекосит на один бок, да уж многих и перекосило. А нам
прямо надо – ровно, тогда все у нас получится. Да и русский романс – он
особенный. И песня русская особенная. В ней все наше русское, первозданное
и святое.
Преклоняюсь перед творчеством Толстого Л.Н., Достоевского Ф.М., Чехова
А.П., Бунина, Тургенева, Салтыкова-Щедрина, Гоголя. Бесконечно люблю А.Н.
Островского, Пушкина, Есенина, Гумилева, Ахматову, Цветаеву Марину Ивановну.
Недавно была в ее доме музее, что в Борисоглебском переулке. И многих,
многих поэтов и писателей, живших и творивших в России. Люблю не только
их творчество, но и все, что связано с именами моих любимых писателей.
Люблю читать биографии, дневники, воспоминания родных и близких, очерки,
критические статьи. Для меня важна личность автора, тогда мне становится
более понятно его творчество. Читать, размышлять, разгадывать, погружаться
вместе с автором в его настроение - для меня большое счастье."
Источник: http://www.svetlanakovaleva.ru/kovaleva/
Лариса Мондрус
Лариса Израилевна Мондрус родилась 15 ноября 1943 года в г. Джамбуле (Казахстан)(Мать на тот момент была в эвакуации)— певица, популярная в 60-х гг., сопрано. По окончании школы пела в Рижском эстрадном оркестре (1962). Ее нежный, хрустального звучания голос сразу же был отмечен и, приехав в Москву, Лариса Мондрус поет в джаз-оркестре под упр. Э. Рознера, а вскоре (1964) выступает с оркестром под упр. Э. Шварца (ее мужа, с которым тогда же записывает на пластинки песни). Успех принесла песня «Билет в детство» (муз. Ф. Миллера, ст. Р. Рождественского, позже вошла в репертуар Э. Пьехи): С 1968 по 1972 Лариса Мондрус в Москонцерте. Популярность завоевала песня «Синий лен» (Р. Паулс, ст. А. Круклиса, русский текст А. Дмоховского). В ее репертуаре много песен о любви («Через море перекину мосты» А. Флярковского, ст. Рождественского и др.).Звездным часом для 22-летней рижанки стал "теле-огонек" в ночь на 1 января 1966 года, когда Мондрус "засверкала" в самом центре внимания - за одним столом с космонавтами Ю.Гагариным, Л.Леоновым и П.Беляевым.

Тогда она исполнила песню Э.Итенберг "Нас звезды ждут" и упоительно-ликующий твист Э.Шварца "Милый мой фантазер".С московским мюзик-холлом артистка совершает первую свою поездку за границу - в Польшу.Для очередного "Новогоднего огонька" Мондрус в паре с М.Магомаевым записала первый игровой клип - "Разговор птиц", произведя изрядный фурор -такого красивого дуэта, тем более с "объяснением в любви", наше телевидение еще не знало.Складывалась на редкость парадоксальная ситуация: популярность Мондрус у слушателей создавалось не благодаря, а скорее вопреки властям. Ее приглашают петь в Чехословакию и ГДР, а в Росконцерте заявляют, что заявок на Мондрус нет. Людям нравятся ее песни о простых человеческих чувствах, а чиновники Минкульта настойчиво рекомендуют ей "гражданскую тематику". "Душенька", ну что вы о любви да о любви. Включите в репертуар что-нибудь патриотическое, - советовал ей один опытный администратор, - Подготовьте, к примеру, "Песни военных лет". Там это оценят. Глядишь, и звание получите..."Лариса Мондрус одна из первых начала пританцовывать во время пения, что тогда, в 60-х, не одобрялось. И несмотря на справедливо заслуженную популярность у зрителя, благодаря которой Лариса Мондрус снялась в к/ф «Дайте жалобную книгу» (певица в кафе — она исполняла песню А. Ленина, на ст. А. Галича «Добрый город»), официальная критика ее не приняла. Над певицей сгущались тучи, ее стали лишать центральных концертных площадок, а в 1971 вместе с В. Мулерманом и М.Александровичем она была отстранена от ТВ.

В 1973 Лариса Мондрус одна из первых эмигрировала вместе с мужем.За короткий
период Мондрус, объездив с гастролями весь белый свет, достигла если не
мирового, то уж точно - европейского уровня. В 1977 году ее имя вошло
в известный на Западе справочник "Star szene 1977" наряду с
именами Э.Фицджеральд, Д.Руссоса, Ф.Синатры, Б.Стрейзанд, К.Готта и др.
Живет в Мюнхене. Выступала в русле русского фольклора с Иваном Ребровым,
пела песни на немецком, английском, итальянском, на иврите. Принимала
участие в различных конкурсах.
"Российская газета" - Неделя №3346 от 15 ноября 2003 г.:
- Чем вы сейчас занимаетесь в Германии?
- Последнее время занята бизнесом. Заниматься эстрадным искусством в моем
возрасте не так легко. С рождением сына для меня перестало быть важным
удерживать популярность, захотелось жить другой жизнью, зарабатывать деньги
не пением. Мне кажется, что для человека очень важно перевоплощаться,
в любой ситуации находить себе применение. Мне это удавалось: первый раз
- когда я переехала из Латвии в Москву, где я стала популярной артисткой,
второй раз - после переезда из Москвы в Германию. А когда родился Лорен,
мне было 38 лет, я подумала, что можно получать удовольствие от жизни
не только постоянно гастролируя, и подыскала для себя полезное дело: с
помощью мужа в Мюнхене открыла свой обувной магазин, постоянно езжу на
выставки или в Милан, или в Дюссельдорф, закупаю товар несколько раз в
год. Это очень насыщенная жизнь, тоже отнимающая время от семьи.

- Это правда, что вы, задолго до Аллы Пугачевой, исполняли на латышском
языке песню, позже известную на русском как "Миллион алых роз",
и что эта песня совсем не про алые розы?
- Да, это очень печальная история "Марите" - о девушке, которая
пела своим детям печальные песни. И к алым розам она не имеет никакого
отношения.
Фильмы в которых звучат песни Ларисы Мондрус:
- Дайте жалобную книгу (песня «Добрый вечер»)
- Улыбнись соседу (Древние слова), "Между небом и Землей"
- У себя дома (Осень на пляже)
- Следствие продолжается (Глаза)
- Песни моря (Я девчонка, Не моя вина)
- Опекун (Белый пароход)
- Джентльмены удачи (Проснись и пой)
Источник: svinil.nnm.ru/larisa_mondrus_dlya_teh_kto_zhdet
О шляпках

ВСЕ ДЕЛО В... ШЛЯПЕ, ШЛЯПА на ПАПЕ! В 1938 году 22 ноября на всемирной
ярмарке в Нью-Йорке была заложена «капсула времени» с указанием «вскрыть
в 6939 году». В капсулу были вложены микрофильмы, курительная трубка и...
женская шляпка.
Кто помнит, что изящная дамская шляпка - дальняя родственница
тиары египетских фараонов? В средневековье головной убор имел поистине
мистическое значение: при дворе Карла Великого одной из высших наград
являлось разрешение украсить свою шапку - или шлем - перьями фазана или
петуха. Провинившиеся же должны были привешивать к головным уборам лишь
общипанные тушки мелких лесных птичек.
Сегодня последняя ночь в Чехии. Самолетом домой в Москау.
А теперь посмотрите небольшую коллекцию шляп, какие носили женщины в XIX
веке и начале XX-го в ПРАГЕ:
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
10 фактов про шляпы
10 место: Сейчас это трудно представить, но одно время европейские щеголи
носили сразу два головных убора, совершенно непохожих друг на друга. Один,
как и положено, был на голове, а другой болтался на ленте за спиной, дожидаясь,
когда его захотят надеть. Говорят, некоторые пытались носить даже по три
шляпы, но это оказалось уже совсем неудобным.
9 место: В средние века в моде были капюшоны, и их удлиненную часть, которая иногда свисала до самого пола, использовали в качестве кармана, поскольку делать карманы в костюмах еще не научились. Кстати, тогда же носили обувь с длинными носами, так что человек выглядел довольно забавно: ему приходилось придерживать одновременно носки сапог (обычно для этого к ним прикрепляли веревочки) и держать набитый всякой-всячиной капюшон.
8 место: Русские боярские шапки. Их делали из меха чернобурки или куницы и не снимали их даже в помещении. Дома шапку ставили на специальную болванку, расписанную, как портрет. Таким образом, шапка стала очень престижным украшением интерьера.
7 место: Прусские барышни также практически не снимали кокошники, а европейские – разные чепчики и накидки. Поэтому долгое время никто не носил причесок – они были не нужны.
6 место: В XIX веке дамы носили капор с приклеенными к нему локонами. Создавалось полное впечатление красиво уложенных волос, но на самом деле прически под шляпой не было.
5 место: Мода XVIII века. Прически тогда были настолько сложными, что пришлось придумывать специальные головные уборы – футляры. Каждая такая шляпа шилась для одной, определенной прически, благо, одну прическу тогда могли носить несколько месяцев. Сложнее всего поддавались упаковке фрегаты с парусами и корзины цветов: дамы требовали, чтобы, упаси бог, ничего не оказалось помятым или сломанным.
4 место: Самый знаменитый в истории головной убор. Китайская принцесса, которая вышла замуж за иностранца, вывезла в своей причудливой шляпе куколки шелковичных червей. Кстати, в учебниках по рекламе и маркетингу эта история приводится как классический пример экономической разведки при помощи персонала конкурента. Разведку совершил, конечно, иностранный принц.
3 место: Еще был случай в истории, когда головной убор стал причиной продвижения по службе. Однажды император Павел увидел молодого поручика, чья треуголка была осыпана снегом так сильно, что создавалось впечатление, будто она обшита белым плюмажем, который вообще-то носили только бригадиры. "Почему у вас белый плюмаж, сударь?" — спросил император. "По воле Божьей!" — отвечал испуганный поручик. "Ну, что же, - сказал Павел. — Я никогда против воли Божьей не иду. Поздравляю вас, бригадир!".
2 место: Кстати, военные вообще намучились с головными уборами. Огромные киверы очень мешали идти в пешем строю, тем более, что во время маршей их использовали как кладовки: доверху набивали апельсинами, пирожками, булками, сыром и леденцами. От этого запаса дня три потом трудно было поворачивать шею.
1 место: Подавляющее большинство головных уборов, которые мы носим сегодня, — это всего лишь измененные модели прошлых веков. И как все, честно говоря, запуталось! Например, чепчики, которые носят младенцы — это точная копия мужских головных уборов средних веков. Только 50 лет спустя мужчины начали носить шляпы с полями и круглой тульей, но – увы! – они опять остались ни с чем, поскольку сейчас такие шляпы носят исключительно женщины.
Автор: Станислав Садальский
Источник: http://stanis-sadal.livejournal.com/239306.html
« ДВА ЛИКА ЗАЧАРОВАННОЙ КОЛДУНЬИ»
 |
|
О нем я и говорю. Он соприкасается с Судьбой, и своевольная измена его
всегда чревата большими последствиями. Он – жесток по отношению к Личности,
что осмелится его нарушить, а редкое благоволие нового имени Дару, часто
требует слишком большой цены. Если человек отказывается от имени, данного
ему при рождении, и ищет новое более причудливое и благоприятное, как
ему кажется, сочетание букв и звуков, он, сам того не сознавая, создает
для себя совершенно новый Путь. По которому должен пройти - до конца.
И не всегда Путь этот бывает Счастливым. Это смелый и отчаянный шаг –
смена Имени. Не всегда выдерживает Душа того груза, который дается новым,
неведомым прежде начертанием букв! В случае с Елизаветой Ивановной Васильевой
было именно так… Убедитесь сами, прочитав мое повествование…
1. Жизнь первая. Лиля Дмитриева. « Лик бледной девушки».
Уже в детстве Она была не такою как все. И «избранность» эта определялась,
скорее, не характером, а болезнью, которая сформировала характер. О себе
в детстве Елизавета Ивановна вспоминала:
«Родилась в Петербурге 31 марта 1887 года. Небогатая дворянская семья. Много традиций, мечтаний о прошлом и беспомощности в настоящем. Мать по отцу украинка,— и тип и лицо — все от нее — внешнее. Отец по матери — швед. Очень замкнутый мечтатель, неудачник, учитель средней школы, рано умерший от чахотки. Была сестра немного старше, рано — 24 лет — умерла. Очень трагично. Впечатленье на всю жизнь. Есть брат — старший. Я — младшая, очень, очень болезненная, с 7 до 16 лет почти все время лежала — туберкулез и костей и легких; все это до сих пор, до сих пор хромаю, потому что болит нога. Больше всего могу сказать сейчас о своем детстве и о любимых поэтах. Мое детство все связано с Медным всадником, cфинксами на Неве и Казанским собором. Я росла одна, потому что я младшая и потому что до 16 лет я была всегда больна мучительными болезнями, месяцами державшими меня в забытьи. Мое первое воспоминанье в жизни: возвращенье к жизни после многочасового обморока — наклоненное лицо мамы с янтарными глазами и колокольный звон. Мне было 7 лет. Все, что было до 7 лет,— я забыла. На дворе — август с желтыми листьями и красными яблоками. Какое сладостное чувство земной неволи!
А потом долгие годы... я прикована к кровати и больше всего полюбила длинные ночи и красную лампадку у Божьей Матери Всех Скорбящих. А бабушка заставляла ночью целовать образ Целителя Пантелеймона и говорить: «Младенец Пантелеймон! Исцели младенца Елисавету!» И я думала, что если мы оба младенца, то Он лучше меня поймет.А когда встала, то почти не могла ходить (и с тех пор немного хромаю) и долго лежала у камина, а моя сестра читала мне сказку Андерсена про Морскую Царевну, которой тоже было больно ступать. И с тех пор, когда я иду и мне больно, я всегда невольно думаю о Морской Царевне и радуюсь, что я не немая. Люди, которых воспитывали болезни, они совсем иные, совсем особенные. Мне кажется, что в 16—17 лет я знала больше и вернее. Мне кажется, что с 18-ти лет я пошла по пыльным дорогам жизни, и что постепенно утрачивалось мое темное ведение и вот сейчас я ничего не знаю, но только что-то слышу, и верю в то, что слышу, а им всем кажется, что у меня открытые глаза. И мне хочется, чтобы кто-нибудь стал моим зеркалом и показал меня мне самой хоть на одно мгновенье. Мне тяжело нести свою душу.
В детстве я больше всего любила сказки Кота-Мурлыки, особенно «Милу и Нолли»; я уже давно не читала их, но трепет до сих пор! А потом полюбила Гофмана. В детстве, лет 14—15, я мечтала стать святой и радовалась тому, что я больна темным, неведомым недугом и близка к смерти. Я целых 10 месяцев была погружена во мрак, я была слепой, мне было 9 лет. Я совсем не боялась и не боюсь смерти, я 7-и лет хотела умереть, чтобы посмотреть Бога и Дьявола. Тот мир для меня бесконечно привлекателен. Мне кажется, что вся ложь моей жизни превратится в правду, и там, оттуда, я сумею любить так, как хочу. Но я хочу задолго знать о том, что мне предстоит радость этого перехода, готовиться к нему... А мне грозит мгновенная и неожиданная смерть.» (Е. И. Дмитриева. Автобиография.)
Максимилиан Волошин, позже, в своем обширном очерке «Рассказ о Черубине» удивленно писал об особенностях детства и юности трагически любимой им женщины, считая, что именно «отсветы» удивительно - странных впечатлений тех, ранних, лет наложили на нее свой отпечаток, горький, волшебный и неповторимый :
«Она была хрома от рождения и с детства привыкла считать себя уродом. В детстве от всех ее игрушек отламывалась одна нога, так как ее брат и сестра говорили: «Раз ты сама хромая, у тебя должны быть хромые игрушки».
Елизавета Ивановна позже дополняла эти воспоминания так:
«Старший брат мой был очень странный и необыкновенный. Он рассказывал мне страшные истории из Эдгара По и за это заставлял меня выпрыгивать из слухового окна сеновала. Это было очень высоко и страшно, но я все-таки прыгала. Сестра тоже рассказывала, но всякий раз, когда рассказывала, разбивала мне куклу, чтобы ничего не делалось даром. Мы иногда приносили в жертву игрушки, бросая их в огонь. Однажды принесли в жертву щенка, он завизжал, прибежали старшие и его освободили. Однажды мы бросили в воду мамин браслет и потом сами с плачем рассказывали о случившемся. Сестра умела свистеть, но няня ей не позволяла и говорила, что когда девочки свистят, то Богородица с престола спрыгивает. Брату это нравилось. Он свистел и спрашивал: «Что, уже спрыгнула?» Учил меня, так как я была еще мала и свистеть не умела, и говорил: «Пусть прыгает!» Когда мне было 5 лет, брат задумал творить чудеса, но чувствуя себя слишком грешным, обратился ко мне и потребовал, чтобы я поклялась, что не совершила ни одного преступления. Я поклялась. Тогда он взял воды и велел мне превратить ее в вино. Я превратила. — «Попробуй!» Я попробовала. — «Совсем вино!» Но так как я вина до тех пор никогда не пробовала, то он призвал сестру. Она сказала, что вино должно быть красным. Тогда брат очень рассердился, вылил воду мне на голову и остался в уверенности, что я утаила какое-то свое преступление.
Однажды он сказал мне таинственно: «Я узнал необыкновенную вещь, которую не знает еще никто. Взрослые еще об этом я не подозревают. Дьявол победил Бога и запер его в чулан. Теперь нам надо подумать о том, не стоит ли перейти на сторону Дьявола, он всех тех, кто с Богом, будет мучить и убивать». Я была потрясена этим известием и несколько дней ходила сама не своя, а брат точно забыл обо всем этом. Наконец я спросила его: «А как же с Богом?» — «Ах, с Богом... Ему удалось спастись. Он удрал через форточку». На меня это произвело такое сильное впечатление, что я с тех пор перестала молиться Богу. Брат страдал нервными припадками. Я помню, когда мы остались с ним одни, без старших в квартире, он, чувствуя приближение припадка, ложился на диван и заставлял меня смотреть на него. Это, по его мнению, укрепляло нервы. Я должна была давать ему капли, но, наливая, испугалась и вылила ему всё в глаза, так что потом капель не было. Он сам нюхал эфир и давал мне. Мне тогда становилось страшно и приятно, и я ложилась где-нибудь на пол. Когда, недели через две, взрослые вернулись, брат все ходил по квартире и резал какие-то невидимые нити. Его отправили на несколько месяцев в больницу. Я тоже вскоре заболела дифтеритом, после которого год была слепая. Тогда я утратила воспоминание о предыдущей жизни, которые у меня в раннем детстве были отчетливы и ярки»
(Е. И. Дмитриева - Васильева. Автобиография)
Да, она утратила «воспоминания о прошлом», что чудились ей в странных грезах и снах наяву, в сказках, от которых замирало сердце, потому что властно подступало нечто другое - Настоящее. Которое она, впрочем, тоже сумела обратить в Грезу. Из – за болезни Лиля, как ее называли дома, окончила гимназию поздно, но «конечно – с медалью», как с наивной гордостью замечено в «Автобиографии». Иначе – быть не могло! Пылкость воображения, «золотая» «сивильская», как она сама, шутя, говорила память (* то есть, память из прошлых жизней – автор), заинтересованность историей и поэзией, романтическими легендами, весь склад натуры, отличал Лилю от сверстниц в весьма выгодную сторону. Она не упоминает в «Автобиографии» были ли у нее подруги среди гимназисток. Скорее всего – нет. Они появились позже. И были очень странны. Скорее, похожи - на соперниц. Но Лиля мало обращала на все это внимание. Она таки жила в своем особом, волшебном и серьезном одновременно мире, вынеся его из детства. Закончив курс гимназии в 17-ти лет, в 1904 г, Елизавета Дмитриева поступила в Женский Императорский Педагогический институт и окончила его в 1908 г. по двум специальностям: средняя история и французская средневековая литература. В это же время была вольнослушательницей в Университете по испанской литературе и старофранцузскому языку.
Часто подводило здоровье и родные усердно отправляли Лилю отдыхать, то Финляндию, то в Коктебель, на крымский степной воздух. Там, в Коктебеле, в 1909 году. Лиля и познакомилась впервые весьма близко с Максом Волошиным. И это знакомство наложило отпечаток на всю ее дальнейшую Судьбу. О нем она говорила позже, сквозь годы, сдержанно и печально:
«Я знаю М. Волошина, видела его всю жизнь. Считаю его очень большим художником, с причудами, которые не мешают его charm'y. Он все же выше их. У него большая эрудиция и особое уменье брать слово. Мои встречи с Максимилианом Александровичем относятся к годам: 1909, 1916, 1919, 1923. В последний раз я видела М. А. в посту 1927 г., когда он был в СПБ. Акварели М. А. похожи на жемчужины и на самые нежные работы японских мастеров. Если в его теперешних стихах — весь целиком его дух, то в его акварелях осталась его душа, которую мало кто угадывает до конца…»
Она угадала. Максимилиан Волошин был памятной, мучительной, особой Любовью всей ее жизни.Он был отцом ее умершей дочери. И «крестным отцом» и ее самой - в мире Поэзии. Большего счастья, кажется, и желать – то для женщины нельзя и невозможно: иметь рядом родственную Душу, похожую на огромный, отдельный Мир. Но дело в том, что в этой Великой любви было и начало Великой Драмы. В Коктебель Лиля приехала совершенно с другим человеком, будучи обрученной… - с третьим! Она всегда, словно подсознательно, создавала вокруг себя сложные неразрешимые ситуации, страдала, пытаясь их решить, но если они решались – становилась еще несчастнее! Или эти ситуации сотворяла, создавала Та, что жила в ней вторым, зеркальным отражением? Не разобрать… Предоставим лучше слово ей самой, ее «Исповеди», которую она запрещала публиковать при жизни – лишь после смерти. В ней то и шла речь о мучительном любовном треугольнике, в котором рождалась блистательная Поэтесса Черубина, влюбившая в себя сразу двоих Поэтов: Волошина и Гумилева, да и весь поэтический Петербург 1910 - 11 годов – заодно!
2.Жизнь вторая. Черубина де Габриак. «Лик зачарованной колдуньи».
Ее роман с Николаем Гумилевым был каким то «мучительно – стремительным»
Впервые они увиделись в Париже в 1907 году. Вместе со спутниками забрели
в кафе, говорили о чем то незначительном. Лиля была в парижском кафе первый
раз и все здесь привлекало ее внимание. Гумилев купил ей крошечный букет
фиалок, заказал для нее капуччино и весь вечер читал вслух, что – то из
своего сборника «Романтические цветы», посвященного Ахматовой. Стихи Лиле
очень понравились. Она зачарованно смотрела на Гумилева, но он, казалось,
вовсе не замечал ее. Очень мило, светски, расстались. Встретились снова
два года спустя, на выставке Академии художеств в Москве, или на лекции
об этой выставке… Их представили друг другу заново, но они вспомнили друг
друга тотчас. А потом, какая то незначительная фраза Лили - девушки с
бледным лицом, глубокими глазами, затененными белой широкополой шляпой
– по моде тех лет - привлекли внимание Гумилева, и он не отходил от нее
весь вечер. Поехал провожать до дому. « И сидя в экипаже, рядом друг с
другом, - пишет Е. И. Дмитриева в своей горькой «Исповеди», - мы оба поняли
с беспощадной ясностью, что это – встреча и не стоит нам ей противиться!»
И продолжает далее:
«Не смущаясь и не кроясь, я смотрю в глаза людей, я нашел себе подругу из породы лебедей»,— писал Н. С. (*Н. С. Н. Ст. – Е. Дмитрива называет Н. С. Гумилева – автор.) на альбоме, подаренном мне. Мы стали часто встречаться, все дни мы были вместе и друг для друга. Писали стихи, ездили на «Башню» (* Знаменитые поэтические вечера Вячеслава Иванова – автор.) и возвращались на рассвете по просыпающемуся серо-розовому городу. Много раз просил меня Н. С. выйти за него замуж, никогда не соглашалась я на это;— в это время я была невестой другого, была связана жалостью к большой, непонятной мне любви. В «будни своей жизни» не хотела я вводить Н. Степ. Те минуты, которые я была с ним, я ни о чем не помнила, а потом плакала у себя дома, металась, не знала. Всей моей жизни не покрывал Н. С., и еще: в нем была железная воля, желание даже в ласке подчинить, а во мне было упрямство — желание мучить. Воистину он больше любил меня, чем я его. Он знал, что я не его невеста, видел даже моего жениха. (Того самого, третьего , инженера – путейца Васильева, с которым Лиля давно была обручена! – автор.)
Ревновал. Ломал мне пальцы, а потом плакал и целовал край платья. В мае мы вместе поехали в Коктебель. Все путешествие туда я помню, как дымно-розовый закат, и мы вместе у окна вагона. Я звала его «Гумми», не любила имени «Николай», — а он меня, как зовут дома меня, «Лиля» — «имя похоже на серебристый колокольчик», так говорил он. В Коктебеле все изменилось. Здесь началось то, в чем больше всего виновата я перед Н. Ст. Судьбе было угодно свести нас всех троих вместе: его, меня и М. Ал. — потому что самая большая моя в жизни любовь, самая недосягаемая это был Макс. Ал. Если Н. Ст. был для меня цветение весны, «мальчик», мы были ровесники, но он всегда казался мне младше, то М. А. для меня был где-то вдали, кто-то никак не могущий обратить свои взоры на меня, маленькую и молчаливую. Н. Ст. ненавидел М. Ал. — мне это было больно очень, здесь уже с неотвратимостью рока, встал в самом сердце образ Макс. Ал. То, что девочке казалось чудом, — свершилось. Я узнала, что М. А. любит меня, любит уже давно, — к нему я рванулась вся, от него я не скрывала ничего. Он мне грустно сказал: «Выбирай сама. Но если ты уйдешь к Гумилеву — я буду тебя презирать». — Выбор уже был сделан, но Н. С. все же оставался для меня какой-то благоуханной, алой гвоздикой. Мне все казалось: хочу обоих, зачем выбор! Я попросила Н. С. уехать, не сказав ему ничего. Он счел это за каприз, но уехал, а я до осени (сент.) жила лучшие дни моей жизни. Здесь родилась Черубина.»
Черубина родилась благодаря не то капризу, не то любовному экстазу Волошина. Он подсказывал Лиле, и до того писавшей неплохие стихи, темы и образы, а она обрамляла их в удивительные рифмы и волнующие воображение строфы стихов, отдававших причудливой загадкой, древней легендой. То, что она создавала на листе бумаги, никак не вязалась с ее образом простой скромной девушки - учительницы, в белом, несколько полноватой и хроменькой. Нужно было придумать что – то иное, совсем иное - чарующее, магическое, волшебное, немного пугающее! И они придумали. Вот как об этом позднее рассказывал сам Масимилиан Волошин: «Лиля писала в это лето милые простые стихи, и тогда-то я ей и подарил черта Габриака, которого мы в просторечии звали «Гаврюшкой». В 1909 году создавалась редакция «Аполлона», первый номер которого вышел в октябре—ноябре. Мы много думали летом о создании журнала, мне хотелось помещать там французских поэтов, стихи писались с расчетом на него, и стихи Лили казались подходящими. В то время не было в Петербурге литературного молодого журнала.
Маковский, «Papa Mako», как мы его называли, - новоявленный редактор журнала был чрезвычайно аристократичен и элегантен. Я помню, он советовался со мной — не внести ли такого правила, чтоб сотрудники являлись в редакцию «Аполлона» не иначе как в смокингах. В редакции, конечно, должны были быть дамы, и Papa Mako прочил балерин из петербургского кордебалета. Лиля — скромная, не элегантная и хромая, удовлетворить его, конечно, не могла, и стихи ее были в редакции отвергнуты. Тогда мы решили изобрести псевдоним и послать стихи письмом. Письмо было написано достаточно утонченным слогом на французском языке, а для псевдонима мы взяли наудачу чорта Габриака. Но для аристократичности чорт обозначил свое имя первой буквой, в фамилии изменил на французский лад окончание и прибавил частицу «Де»: Ч. де Габриак. Впоследствии «Ч.» было раскрыто. Мы долго ломали голову, ища женское имя, начинающееся на Ч., пока наконец Лиля не вспомнила об одной Брет-Гартовской героине. Она жила на корабле, была возлюбленной многих матросов и носила имя Черубины. Чтобы окончательно очаровать Papa Mako, для такой светской женщины необходим был герб. И гербу было посвящено стихотворение:
Наш герб
И знака нет на светлом поле. Но вверен он моей судьбе, Последней — в роде дерзких волей... Есть необманный путь к тому. Кто спит в стенах Иерусалима, Кто верен роду моему, Кем я звана, кем я любима: И путь безумья всех надежд, Неотвратимый путь гордыни; В нем — пламя огненных одежд И скорбь отвергнутой пустыни... Но что дано мне в щит вписать? Датуры тьмы иль розы храма? Тубала медную печать Или акацию Хирама? |
Письмо было написано на бумаге с траурным обрезом и запечатано черным сургучом. На печати был девиз: «Vae victis!» [Горе побежденным! (Лат.)] Все это случайно нашлось у подруги Лили - Лидии Брюлловой. Маковский в это время был болен ангиной. Он принимал сотрудников у себя дома, лежа в элегантной спальне; рядом с кроватью стоял на столике телефон. Когда я на другой день пришел к нему, у него сидел красный и смущенный А.Н. Толстой, который выслушивал чтение стихов, известных ему по Коктебелю, и не знал, как ему на них реагировать. Я только успел шепнуть ему: «Молчи. Уходи». Он не замедлил скрыться. Маковский был в восхищении. «Вот видите, Максимилиан Александрович, я всегда Вам говорил, что Вы слишком мало обращаете внимания на светских женщин. Посмотрите, какие одна из них прислала мне стихи! Такие сотрудники для «Аполлона» необходимы!» Черубине был написан ответ на французском языке, чрезвычайно лестный для начинающего поэта, с просьбой порыться в старых тетрадях и прислать все, что она до сих пор писала. В тот же вечер мы с Лилей принялись за работу, и на другой день Маковский получил целую тетрадь стихов. В стихах Черубины я играл роль режиссера и цензора, подсказывал темы, выражения, давал задания, но писала только Лиля. Мы сделали Черубину страстной католичкой, так как эта тема еще не была использована в тогдашнем Петербурге. Вот как это звучало:
Св. Игнатию
В себя принявший скорби мира, И облекла твою печаль Марии белая порфира. Ты, обагрявший кровью меч. Склонил смиренно перья шлема Перед сияньем тонких свеч В дверях пещеры Вифлеема. И ты — хранишь ее один, Безумный вождь священных ратей, Заступник грез, святой Игнатий, Пречистой Девы паладин! Ты для меня, средь дольних дымов, Любимый, младший брат Христа, Цветок небесных серафимов И Богоматери мечта. Затем решили внести в стихи побольше Испании: Ищу защиты в преддверьи храма Пред Богоматерью Всех Сокровищ. Пусть орифламма Твоя укроет от злых чудовищ... Я прибежала из улиц шумных, Где бьют во мраке слепые крылья, Где ждут безумных Соблазны мира и вся Севилья. Но я слагаю Тебе к подножью Кинжал и веер, цветы, камеи — Во славу Божью... О Mater Del, memento meil О Матерь Божья, помяни меня! (Лат.) [Ред.] |
Кроме того необходима была преступно-католическая любовь к Христу.
Твои руки
Средь ночной тишины моих грез, Как отрадно, как сладко-преступно Обвивать их гирляндами роз. Я целую божественных линий На ладонях священный узор... (Запевает далеких Эриний В глубине угрожающий хор.) Как люблю эти тонкие кисти И ногтей удлиненных эмаль, О, загар этих рук золотистей, Чем Ливанских полудней печаль. Эти руки, как гибкие грозди. Все сияют в камнях дорогих. Но оставили острые гвозди Чуть заметные знаки на них. |
Так начались стихи Черубины.
На другой день Лиля позвонила Маковскому. Он был болен, скучал, ему не хотелось класть трубку, и он, вместо того, чтобы кончать разговор, сказал: «Знаете, я умею определять судьбу и характер человека по его почерку. Хотите, я расскажу Вам все, что узнал по Вашему?» И он рассказал, что отец Черубины — француз из Южной Франции, мать — русская, что она воспитывалась в монастыре в Толедо и т.д. Лиле оставалось только изумляться, откуда он все это мог узнать, и таким образом мы получили ряд ценных сведений из биографии Черубины, которых впоследствии и придерживались. Если в стихах я давал только идеи и принимал как можно меньше участия в выполнении, то переписка Черубины с Маковским лежала исключительно на мне. Papa Mako избрал меня своим наперсником. По вечерам он показывал мне мною же утром написанные письма и восхищался: «Какая изумительная девушка! Я всегда умел играть женским сердцем, но теперь у меня каждый день выбита шпага из рук». Он прибегал к моей помощи и говорил: «Вы мой Сирано», не подозревая, до какой степени он близок к истине, так как я был Сирано для обеих сторон. Papa Mako, например, говорил: «Графиня Черубина Георгиевна (он сам возвел ее в графское достоинство) прислала мне сонет. Я должен написать сонет di risposta» (В ответ (ит.) – автор). и мы вместе с ним работали над сонетом.
Маковский был совершенно очарован Черубиной. «Если бы у меня было 40 тысяч годового дохода, я решился бы за ней ухаживать». А Лиля в это время жила на одиннадцать с полтиной в месяц, которые получала как скромная преподавательница приготовительного класса. Мы с Лилей мечтали о католическом семинаристе, который молча бы появлялся, подавал бы письмо на бумаге с траурным обрезом и исчезал. Но выполнить это было невозможно. Переписка становилась все более и более оживленной, и это было все более и более сложно. Наконец мы с Лилей решили перейти на язык цветов. Со стихами вместо письма стали посылаться цветы. Мы выбирали самое скромное и самое дешевое из того, что можно было достать в цветочных магазинах, веточку какой-нибудь травки, которую употребляли при составлении букетов, но которая, присланная отдельно, приобретала таинственное и глубокое значение. Мы были свободны в выборе, так как никто в редакции не знал языка цветов, включая Маковского, который уверял, что знает его прекрасно. В затруднительных случаях звали меня, и я, конечно, давал разъяснения. Маковский в ответ писал французские стихи. Он требовал у Черубины свидания. Лиля выходила из положения просто. Она говорила по телефону: «Тогда-то я буду кататься на островах. Конечно, сердце Вам подскажет, и Вы узнаете меня». Маковский ехал на острова, узнавал ее и потом с торжеством рассказывал ей, что ее видел, что она была так-то одета, в таком-то автомобиле... Лиля смеялась и отвечала, что она никогда не ездит на автомобиле, а только на лошадях.
Или же она обещала ему быть в одной из лож бенуара на премьере балета. Он выбирал самую красивую из дам в ложах бенуара и был уверен, что это Черубина, а Лиля на другой день говорила: «Я уверена, что Вам понравилась такая-то». И начинала критиковать избранную красавицу. Все это Маковский воспринимал как «выбивание шпаги из рук». Черубина по воскресеньям посещала костел. Она исповедывалась у отца Бенедикта. Вот стихотворения, посвященные ему и исповеди:
*** Его египетские губы Замкнули древние мечты, И повелительны и грубы Лица жестокого черты. И цвета синих виноградин Огонь его тяжелых глаз, Он в темноте глубоких впадин Истлел, померк, но не погас. В нем правый гнев рокочет глухо. И жечь сердца ему дано: На нем клеймо Святого Духа — Тонзуры белое пятно... Мне сладко, силой силу меря, Заставить жить его уста И в беспощадном лике зверя Провидеть грозный лик Христа. |
Исповедь
Сохранился оттиск рук. Черный креп в негибких складках Очертил на плитах круг. В тихой мгле исповедален Робкий шопот, чья-то речь. Строгий профиль мой печален От лучей дрожащих свеч. Я смотрю игру мерцаний По чекану темных бронз И не слышу увещаний, Что мне шепчет старый ксендз. Поправляя гребень в косах. Я слежу мои мечты,— Все грехи в его вопросах Так наивны и просты. Ад теряет обаянье, Жизнь становится тиха,— Но так сладостно сознанье Первородного греха... |
Далее события развивались и вовсе, как в каком либо приключенческо - авантюрном романе с любовною интригой. Они не подчинялись контролю. Постепенно Черубина стала существовать совершенно отдельно, сама по себе. Волошин рассказывает в своем очерке о Черубине удивительные вещи:
«Легенда о ней распространилась по Петербургу с молниеносной быстротой. Все поэты были в нее влюблены. Самым удобным было то, что вести о Черубине шли только от влюбленного в нее Papa Mako. Правда, были подозрения в мистификации, но подозревали самого Маковского. Нам удалось сделать необыкновенную вещь — создать человеку такую женщину, которая была воплощением его идеала, и которая в то же время не могла его разочаровать впоследствии, так как эта женщина была - призрак. Как только Маковский выздоровел, он послал Черубине на вымышленный адрес (это был адрес сестры Л. Брюлловой, подруги Лили) огромный букет белых роз и орхидей. Мы с Лилей решили это пресечь, так как такие траты серьезно угрожали гонорарам сотрудников «Аполлона», на которые мы очень рассчитывали. Поэтому на другой день Маковскому были посланы стихи «Цветы» и письмо. Цветы живут в людских сердцах;/Читаю тайно в их страницах/О ненамеченных границах,/О нерасцветших лепестках./Я знаю души, как лаванда,/Я знаю девушек мимоз./Я знаю, как из чайных роз/В душе сплетается гирлянда./В ветвях лаврового куста/Я вижу прорезь черных крылий,/Я знаю чаши чистых лилий/И их греховные уста./Люблю в наивных медуницах/Немую скорбь умерших фей./И лик бесстыдных орхидей/Я ненавижу в светских лицах./Акаций белые слова/Даны ушедшим и забытым./А у меня, по старым плитам,/В душе растет разрыв-трава.
Когда я в это утро пришел к Papa Mako, я застал его в несколько встревоженном состоянии. Даже безукоризненная правильность его пробора была нарушена. Он в волнении вытирал платком темя, как делают в трагических местах французские актеры, и говорил: «Я послал, не посоветовавшись с Вами, цветов Черубине Георгиевне и теперь наказан. Посмотрите, какое она прислала мне письмо!» Письмо гласило, приблизительно, следующее: «Дорогой Сергей Константинович! (Переписка приняла уже довольно интимный характер.) Когда я получила Ваш букет, я могла поставить его только в прихожей, так как была чрезвычайно удивлена, что Вы решаетесь задавать мне такие вопросы. Очевидно, Вы совсем не умеете обращаться с нечетными числами и не знаете языка цветов».
—Но право же, я совсем не помню, сколько там было цветов. Я не понимаю, в чем моя вина! — восклицал Маковский. Письмо на это и было рассчитано.
Перед Пасхой Черубина решила поехать на две недели в Париж, заказать себе шляпку, как она сказала Маковскому, но из намеков было ясно, что она должна увидеться там со своими духовными руководителями, так как собирается идти в монастырь. Она как-то сказала, что, может быть, выйдет замуж за одного еврея. Из этих слов Papa Mako заключил, что она будет Христовой невестой. Уезжая, Черубина взяла слово с Маковского, что он на вокзал не поедет. Тот сдержал слово, но стал умолять своих друзей пойти вместо него, чтобы увидеть Черубину, хотя бы чужими глазами. Просил Толстого, но тот с ужасом отказался, так как чувствовал какой-то подвох и боялся в него впутаться. Наконец, Маковский уговорил поехать Трубникова. Трубников на вокзале был, но Черубины ему увидеть не удалось, но она, очевидно, его видела, так как записала в путевой дневник, который обещала Маковскому вести, что она ожидала увидеть на вокзале переодетого Papa Mako с накладной бородкой, но вместо него увидела присланного Друга, которого она узнала по изящному костюму. Следовало подробное описание Трубникова. Маковский был восхищен: «Какая наблюдательность! Ведь тут весь Трубников, а она видела его всего раз на вокзале!»
В Париже Черубина остановилась в специальном католическом квартале, в отеле возле Saint Sulpice. Она прислала несколько описаний квартала, описала несколько встреч. Эта часть — ее дневники — выпадает, так как погибла при обыске. Остались только стихи. В отсутствие Черубины Маковский так страдал, что Иннокентий Федорович Анненский говорил ему: «Сергей Константинович, да нельзя же так мучиться. Ну, поезжайте за ней. Истратьте сто,— ну двести рублей, оставьте редакцию на меня... Отыщите ее в Париже». Однако Сергей Константинович не поехал, что лишило историю Черубины небезынтересной страницы. Для его излияний была оставлена родственница Черубины, княгиня Дарья Владимировна (Лида Брюллова). Она разговаривала с Маковским по телефону и приготовляла его к мысли о пострижении Черубины в монастырь. Черубина вернулась. В тот же вечер к ней пришел ее исповедник, отец Бенедикт. Всю ночь она молилась. На следующее утро ее нашли без сознания, в бреду, лежащей в коридоре, на каменном полу, возле своей комнаты. Она заболела воспалением легких.
Кризис болезни намеренно совпал с заседаниями Поэтической Академии в Обществе ревнителей русского стиха, так как там могла присутствовать Лиля и могла сама увидеть, какое впечатление произведет на Маковского известие о смертельной опасности. Ему ежедневно по телефону звонил старый дворецкий Черубины и сообщал о ее здоровье. Кризис ожидался как раз в тот день, когда должно было происходить одно из самых парадных заседаний. Среди торжественного чтения, когда Вячеслав Иванов делал доклад, Маковского позвали к телефону. Иннокентий Федорович пожал ему под столом руку и шепнул несколько ободряющих слов. Через несколько минут Маковский вернулся с опрокинутым и радостным лицом: «Она будет жить!» Все это происходило в двух шагах от Лили. Как-то Лиля спросила меня: «Что, моя мать умерла или нет? Я совсем забыла, и недавно, говоря с Маковским по телефону, сказала: «Моя покойная мать» — и боялась ошибиться...» А Маковский мне рассказывал: «Какая изумительная девушка! Я прекрасно знаю, что мать ее жива и живет в Петербурге, но она отвергла мать и считает ее умершей с тех пор, как та изменила когда-то мужу, и недавно так и сказала мне: „Моя покойная мать"». Постепенно у нас накопилась целая масса мифических личностей, которые доставляли нам много хлопот. Так, например, мы придумали на свое горе кузена Черубине, к которому Papa Mako страшно ревновал.
Он был португалец, атташе при посольстве и носил такое странное имя, что надо было быть так влюбленным, как Маковский, чтобы не обратить внимание на его невозможность. Его звали дон Гарпия ди Мантилья. За этим доном Гарпией была однажды организована целая охота, и ему удалось ускользнуть только благодаря тому, что его вообще не существовало. В редакции была выставка женских портретов, и Черубина получила пригласительный билет. Однако сама она не пошла, а послала кузена. Маковский придумал очень хороший план, чтобы уловить дона Гарпию. В прихожей были положены листы, где все посетители должны были расписываться, а мы, сотрудники, сидели в прихожей и следили, когда «он» распишется. Однако каким-то образом дону Гарпии удалось пройти незамеченным, он посетил выставку и обо всем рассказал Черубине.
В высших сферах редакции была учреждена слежка за Черубиной. Маковский и его сотрудники стали действовать даже подкупом. Они произвели опрос всех дач на Каменноостровском. В конце концов Маковский мне сказал: «Знаете, мы нашли Черубину. Она — внучка графини Нирод. Сейчас графиня уехала за границу, и поэтому она может позволять себе такие эскапады. Тот старый дворецкий, который, помните, звонил мне по телефону во время болезни Черубины Георгиевны, был здесь у меня в кабинете. Мы с бароном дали ему 25 рублей, и он все рассказал. У старухи две внучки. Одна с ней за границей, а вторая — Черубина. Только он назвал ее каким-то другим именем, но сказал, что ее называют еще и по-иному, но он забыл как. А когда мы спросили, не Черубиной ли, он вспомнил, что действительно Черубиной». Лиля, которая всегда боялась призраков, была от всего этого в полном ужасе!. Ей все казалось, что она должна встретить живую Черубину, которая спросит у нее ответа. Вот два стихотворения, которые тогда, конечно, не были поняты Маковским.
Лиля о Черубине:
В слепые ночи новолунья Глухой тревогою полна, Завороженная колдунья, Стою у темного окна. Стеклом удвоенные свечи И предо мною и за мной, И облик комнаты иной Грозит возможностями встречи. В темно-зеленых зеркалах Обледенелых ветхих окон Не мой, а чей-то бледный локон Чуть отражен, и смутный страх Мне сердце алой нитью вяжет. Что, если дальняя гроза В стекле мне близкий лик покажет И отразит ее глаза? |
Но все имеет свойство когда – нибудь заканчиваться. Даже «завороженная стихами» мистификация. Даже – волшебная сказка. Закончилась и история Черубины. Вот как об этом говорит Максимилиан Волошин, спокойно, почти бесстрастно:
"А ведь когда то раскрытие загадки испанки Черубины потрясло весь литературный Петербург! Вячеслав Иванов, вероятно, подозревал, что я — автор Черубины, так как говорил мне: «Я очень ценю стихи Черубины. Они талантливы. Но если это — мистификация, то гениально». Он рассчитывал на то, что «ворона каркнет». Однако я не каркнул. А. Н. Толстой давно говорил мне: «Брось, Макс, это добром не кончится».Черубина написала Маковскому последнее стихотворение. В нем были строки:Милый друг, Вы приподняли/Только край моей вуали... Когда Черубина разоблачила себя, Маковский поехал к ней с визитом и стал уверять, что он уже обо всем давно знал. «Я хотел дать Вам возможность дописать до конца Вашу красивую поэму». Он подозревал о моем сообщничестве с Лилей и однажды спросил меня об этом, но я, честно глядя ему в глаза, отрекся от всего. Мое отречение было встречено с молчаливой благодарностью.Неожиданной во всей этой истории явилась моя дуэль с Гумилевым. Он знал Лилю давно и давно уже предлагал ей помочь напечатать ее стихи, однако о Черубине он не подозревал истины. За год до этого в 1909 году летом, будучи в Коктебеле вместе с Лилей, он делал ей предложение.В то время, когда Лиля разоблачила себя, в редакционных кругах стали расти сплетни.
Лиля, обычно, бывала в редакции одна, так как жених ее, Воля Васильев, бывать с ней не мог. Он отбывал воинскую повинность. Никого из мужчин в редакции она не знала. Одному немецкому поэту, Ганцу Гюнтеру, который забавлялся оккультизмом, удалось завладеть доверием Лили. Она была в то время в очень нервном возбужденном состоянии. Очевидно, Гюнтер добился от нее каких-нибудь признаний. Он стал рассказывать, что Гумилев говорит о том, как у них с Лилей в Коктебеле был большой роман. Все это в грубых выражениях. Гюнтер даже устроил Лиле «очную ставку» с Гумилевым, которому она принуждена была сказать, что он лжет. Гюнтер же был с Гумилевым на «ты» и, очевидно, на его стороне. Я почувствовал себя ответственным за все это и с разрешения Воли (который был вольноопределяющимся, в нижнем чине) после совета с Леманом, одним из наших общих с Лилей друзей, через два дня стрелялся с Гумилевым.Мы встретились с ним в мастерской Головина в Мариинском театре во время представления «Фауста». Головин в это время писал портреты поэтов, сотрудников «Аполлона». В этот вечер я позировал. В мастерской было много народу, и в том числе Гумилев. Я решил дать ему пощечину по всем правилам дуэльного искусства, так, как Гумилев, большой специалист, сам учил меня в предыдущем году; сильно, кратко и неожиданно.
В огромной мастерской на полу были разостланы декорации к «Орфею». Все были уже а сборе. Гумилев стоял с Блоком на другом конце залы. Шаляпин внизу запел «Заклинание цветов». Я решил дать ему кончить. Когда он кончил, я подошел к Гумилеву, который разговаривал с Толстым, и дал ему пощечину. В -первый момент я сам ужасно опешил, а когда опомнился, услышал голос Иннокентия Федоровича; «Достоевский прав, звук пощечины, действительно, мокрый». Гумилев отшатнулся от меня и сказал: «Ты мне за это ответишь» (мы с ним не были на «ты»). Мне хотелось сказать: «Николай Степанович, это не брудершафт». Но тут же сообразил, что это не вязалось с правилами дуэльного искусства, и у меня внезапно вырвался вопрос:«Вы поняли?» (То есть; поняли ли за что?)Он ответил: «Понял».На другой день рано утром мы стрелялись за Новой Деревней возле Черной речки, если не той самой парой пистолетов, которой стрелялся Пушкин, то во всяком случае современной ему. Была мокрая, грязная весна, и моему секунданту Шервашидзе, который отмеривал нам 15 шагов по кочкам, пришлось очень плохо. Гумилев промахнулся, у меня пистолет дал осечку. Он предложил мне стрелять еще раз. Я выстрелил,— боясь, по неумению стрелять, попасть в него. Не попал, и на этом наша дуэль окончилась. Секунданты предложили нам подать друг другу руки, но мы отказались.
После этого я встретился с Гумилевым только один раз, случайно, в Крыму, за несколько месяцев до его смерти. Нас представили друг Другу, не зная, что мы знакомы: мы подали друг другу руки, но разговаривали недолго: Гумилев торопился уходить..»Эта история, начавшаяся когда то шутки ради из- за амбиций и влюбленного апломба была воспринята Елизаветой – Черубиной совершенно трагически. Она нашла в ней определенный подтекст. Для нее это был знак, поданый ей свыше, Небесами. Нельзя нарушать кармические законы. Нельзя безнаказанно причинять боль другому. Нельзя шутки или прихоти ради менять Имя, данное при рождении. Тогда Судьба может зло посмеяться над тобой или попробовать слишком высокую плату за все содеянное. Лиля – Черубина ценою своей, скоротечно сгоревшей и блистательной жизни это прекрасно поняла!Вот что она писала в своей трагической «Исповеди»:
«Только теперь, оглядываясь на прошлое, я вижу, что Н. С. отомстил мне больше, чем я обидела его. После дуэли я была больна, почти на краю безумия. Я перестала писать стихи, лет пять я даже почти не читала стихов, каждая ритмическая строчка причиняла мне боль; — я так и не стала поэтом — передо мной всегда стояло лицо Н. Ст. и мешало мне. Я не смогла остаться с Макс. Ал. — В начале 1910 г. мы расстались, и я не видела его до 1917 (или 1916-го?).Я не могла остаться с ним, и моя любовь и ему принесла муку. А мне? До самой смерти Н. Ст. я не могла читать его стихов, а если брала книгу — плакала весь день. После смерти стала читать, но и до сих пор больно.Я была виновата перед ним, но он забыл, отбросил и стал поэтом. Он не был виноват передо мной, очень даже оскорбив меня, он еще любил, но моя жизнь была смята им — он увел от меня и стихи и любовь...И вот с тех пор я жила не живой; — шла дальше, падала, причиняла боль, и каждое мое прикосновение было ядом. Эти две встречи всегда стояли передо мной и заслоняли всё: а я не смогла остаться ни с кем.И это было платой за боль, причиненную Н. Ст.: у меня навсегда были отняты и любовь и стихи.Остались лишь призраки их...»
Да, ослепительный и короткий век Черубины де Габриак закончился. Но продолжалась жизнь ее автора. В 1911 г. Елизавета Ивановна вышла замуж за инженера Васильева и стала носить его фамилию. Но образ Черубины навсегда остался с ней. 26 мая 1916 г. она признавалась в письме к М. Волошину: "Черубина для меня никогда не была игрой", 12 июля 1922 г. писала ему же: "Я иногда стала думать, что я - поэт. Говорят, что надо издавать книгу. Если это будет, я останусь "Черубиной", потому что меня так все приемлют и потому что все же корни мои в "Черубине" глубже, чем я думала". И в то же время ее одолевают сомнения: "Я, конечно, не поэт. Стихов своих издавать я не буду и постараюсь ничего не печатать под именем Черубины" (из письма М. Волошину 1923 г.). Но опять отсчет идет от Черубины. Несомненно, что в новой, жесткой, советской действительности Черубина не смогла бы возродиться.
И Елизавета Ивановна сумела найти свою дорогу. В начале 20-х гг. она оказалась в Екатеринодаре, где познакомилась с С. Я. Маршаком. Там они задумали (и осуществили) создание "Детского городка", где имелись различные мастерские, библиотека, детский театр. Вместе с Маршаком и отдельно она писала пьесы для детских театров страны (вошли в сборник "Театр для детей", выдержавший в 20-е гг. четыре издания). Писала она и прозу (в 1926 г. вышла ее книжка о Миклухо-Маклае "Человек с Луны"), переводила с испанского и старофранцузского.
Когда Маршак уехал в Петроград, он вызвал туда и Елизавету Ивановну, и какое-то время она работала там вместе с Маршаком в ТЮЗе. Встреча с Петербургом - городом Черубины - была не столько радостной, сколько горькой:
Под травой уснула мостовая, Над Невой разрушенный гранит... Я вернулась, я пришла живая, Только поздно - город мой убит. Надругались, очи ослепили, Чтоб не видеть солнца и небес, И лежит замученный в могиле... Я молилась, чтобы он воскрес. Чтобы все убитые воскресли, Бог Господь, Отец бесплотных сил, Ты караешь грешников, но если б Ты мой город мертвый воскресил. ("Петербургу", 1922) |
Городу на Неве посвящены также пронзительные строки других стихотворений ("Там ветер сквозной и колючий...", 1921, "Все то, что так много лет любила...", 1922). Вскоре на долю Елизаветы Ивановны выпали тяжелые испытания: в вину ей прежде всего ставили приверженность антропософии, до революции по делам "Антропософского общества" она ездила в Германию, Швейцарию, Финляндию. Начиная с 1921 г. у нее дома производили обыски, затем последовали вызовы в ГПУ, и, наконец, ее по этапу отправили в ссылку. В последнем письме к Волошину в январе 1928 г. она писала из Ташкента:
"...Так бы хотела к тебе весной, но это сложно очень, ведь я регистрируюсь в ГПУ и вообще - на учете. Очень, очень томлюсь... Следующий раз пошлю стихи... Тебя всегда ношу в сердце и так бы хотела увидеть еще раз в этой жизни". Однако этой мечте не суждено было осуществиться. Но поэзия не покинула ее до конца дней - в последний год жизни она написала цикл небольших, прозрачных по стилю стихотворений "Домик под грушевым деревом" - от лица вымышленного поэта Ли Сян Цзы - последняя, прощальная мистификация Черубины:
Мхом ступени мои поросли, И тоскливо кричит обезьяна; Тот, кто был из моей земли,- Он покинул меня слишком рано. След горячий его каравана Заметен золотым песком. Он уехал туда, где мой дом. ("Разлука с другом". 1927) |
Е. И. Васильева мечтала вернуться в город, где она родилась и где такой блестящей кометой прочертила путь на литературном петербургском горизонте ее Черубина.
Прислушайся к ночному сновиденью, не пропусти упавшую звезду... По улицам моим Невидимою Тенью я за тобой пройду... Ты посмотри (я так томлюсь в пустыне вдали от милых мест...): вода в Неве еще осталась синей? У Ангела из рук еще не отнят крест?» |
Это стихотворение написано менее чем за полгода до смерти…
Автор: Светлана Макаренко
Сайт: People's History
Юлия Варра
 |
|
Вот что она пишет на своём сайте:
Тантрические тренинги проходят в нашем эротическом клубе под руководством опытных специалистов, которые помогут вам определить: что же для вас главное в жизни? — мелочные обиды и пустяковая ежедневная суета или Любовь в обоих ее проявлениях — Человеческом и Божественном. Тантрические тренинги — это ваш ключ к постижению не только искусства телесного единства, которое можно разнообразить и сделать более ярким и продолжительным, но и Космической Любви, космического оргазма, как кульминационной, но не завершающей точке тантрического тренинга. Тантрические тренинги в эротическом клубе опровергнут ваше представление о Кама-сутре как о науке секса. Кама — это имя Богини Любви, которой поклонялась цивилизация, подарившая нам учение Тантры. Той любви, которая сочетает в себе любовь тела, разума и духа Человека и Космоса. Трактат "Кама-сутра" — это не просто учение о сексе, но наука о единение секса и любви, к чему стремиться каждый человек, благодаря чему он обретает счастье на Земле.

Что же в конечном счете приобретает человек, который посещает тантрические тренинги в эротическом клубе? Гармонию и любовь к людям, окружающему миру, Космосу. После прохождения тантрических тренингов в эротическом клубе, где работают наши специалисты высшего класса, женщины, как правило, забывают напрочь о том, что такое былая фригидность, а мужчины обретают естественную, достигнутую нефармакологическими способами, мужскую силу. Силу Любви. Это путь Тантры. Человеческий мозг работает всего лишь на 10 процентов. Нам неведомо, какие чудеса открылись бы Человеку, если бы наш разум был задействован хотя бы на половину… А что знаем мы о Любви? О любви Божественной, о любви между мужчиной и женщиной? Вряд ли наши познания в этих сферах составляют больший коэффициент, чем коэффициент работы нашего мозга, сознания.

Но что же делать? Неужели человек обречен на тьму, неужели нет просвета во мраке неведения? Разумеется, нет! И одно из лучших средств познания и Человеческой, и Божественной любви — это учение Тантры, а именно — тантрический массаж, тантрический секс, и как кульминация — тантрический оргазм. Тантрический массаж позволяет вам открыть для себя настоящую эротику в неизбитом понимании значения этого слова. Вы на практике убедитесь, что все ваше тело, а не только его отдельные элементы, является настоящей эрогенной зоной. Тантрический массаж откроет вам новую, неизведанную гамму райских ощущений, разбудив дремавший в вас долгие годы эротический потенциал. В процессе тантрического массажа вы почувствуете, как проблемы, существовавшие доселе в реальности, уносятся прочь и осознаете всю их несущественность по сравнению с постижением понятия Любовь… Любовь, которую генерирует ваше собственное тело. Любовь, которая не обходится без сексуальных фантазий, накапливающих в теле небывалый эротический всплеск ощущений.

Знатоки искусства любви поймут, что речь здесь идет
о тантрическом сексе — высшей форме сексуальных отношений.
Сексуальная энергия главенствует в Тантре на пути к постижению Космической,
Божественной Энергии. Тантрический секс священен. Это не обыкновенное
совокупление мужчины и женщины, которое с годами становится обыденным,
приевшимся и превращается в "исполнение долга", а мистический
ритуал, кульминация которого не ставит знаков препинания во взаимоотношениях
полов, а превращает эти отношения во взметающуюся вверх бесконечную линию
непрерывного совершенствования. Кульминация в тантрическом сексе (тантрический
оргазм) — это не финал любовного акта, а взрывная по силе неизведанных
ощущений и эмоций высшая точка, которая все ярче и сильнее с каждым шагом
на пути Тантры. Для тех, кто против однообразной серой сексуальной жизни,
свои ворота открывает наш свингер-клуб, в котором вы можете расширить
свои познания в области отношений, находящихся в рамках дружеских и выходящих
за них. Кто такие свингеры и что общего у них, допустим, с джазовыми исполнителями?
Само слово "свинг" — это музыкальный термин, который применяется
джазменами во время быстрого перехода от одной ноты к другой… Во время
проведения классической свингер-вечеринки термин "свинг" между
парами мужчин и женщин, предусматривает обмен партнерами для любовных
отношений.

Являются ли встречи свингеров чем-то предосудительным, и стоит ли пополнять их ряды? Вопрос из ряда: "А стоит ли вообще жить, творить, заниматься любовью, заводить дружбу?" Поверьте, все зависит от вас, ваших пристрастий и степени сексуальной свободы, которую вы можете себе позволить. В свингер-клуб приходят, как правило, люди, которые видят творческий момент в создании дружбы, переходящей в любовь, секс. Свингер-вечеринка — это живой процесс, загадка, код к разгадке которой может быть найден, а может — нет. Все зависит от вас… Но если вы решили попробовать, то знайте, что встречи свингеров проходят под эгидой свободы сексуальных отношений и законом свинга № 1 является возможность в любой момент встречи свингеров сказать "нет". В противном случае, творческий процесс познания превращается в банальное насилие над человеком. Наш свингер-клуб — это место, где вы можете чувствовать себя в мире сексуальной свободы и полной безопасности. Чем полезно посещение свингер-клуба для мужчины и женщины? Долгие годы нам вдалбливали в головы, что любое прикосновение к телу человека противоположного пола — это нравственное преступление, которое должно "караться по всей строгости". Итогом этого стало появление запуганной в сексуальном отношении, некрасивой, закомплексованной массы несчастливых владельцев "краснокожих паспортин", договорившейся до того, что "в стране секса нет".
Однако секс, в том числе и вечеринки свингеров, — это наш шаг навстречу свободе. Наверное, самое большое счастье заключается в том, что все люди на Земле разные. Кто-то предпочитает всю жизнь наслаждаться ласками одного партнера. Кому-то для получения исчерпывающего удовольствия необходим театр. А театр — это место, где не может находиться лишь один актер и один зритель. Групповой секс в разное время в разных странах назывался по разному: евингинг, шеринг, сваппинг. Здесь есть место и обычному наблюдению за совокупляющимися людьми (как зритель в театре) и принятию участия в качестве актера. Роль каждый сам выбирает себе по вкусу. Тот, кто поскромнее, будет довольствоваться второстепенной, пассивной ролью (данная форма участия имеет соответствующее название — "пассивная"), а кому-то необходимо выбиться в "ведущие мастера сцены". Каждому свое!
Итак. Групповой секс — это не обыкновенная "оргия", которая спонтанно устраивается собравшимися в компании людьми. Групповой секс предполагает как поклонение людей строго избранной форме коллективного наслаждения, так и "кочевание" из одной формы отношений в другую в целях приобретения большего сексуального опыта и получения новых ощущений. Самой немногочисленной формой группового секса является триолизм — сожительство трех партнеров, которые могут быть как гетеро- или гомо- так и бисексуальными по своей природе. К групповому сексу можно отнести и запланированный (вариант — незапланированный) обмен партнерами, — так называемый свининг, где пары, поддерживающие дружеские отношения, на период встречи становятся для своих друзей любовниками, а для любовников, возможно, и друзьями. Пожалуй, самый большой простор для разгула фантазии любителей группового секса дают так называемые коллективные сексуальные игры, где выброс эмоций, получаемый от всякий раз новой сексуальной забавы или игры, является настоящим потрясением (в положительном смысле слова) для каждого из участников.
Принимать ли участие в групповом сексе или нет — каждый решает сам. Но в данном случае, прежде чем отказаться от чего-нибудь, нужно вспомнить, что жизнь дается нам лишь один раз.
Источник: http://yulia-varra.ru/tantra/content/index.php?id=653&page=1
Евгения Тен
|
 |
С. БУНТМАН Женя, скажи, чем ты занималась до прихода на "Эхо"? На "Он-лайне" ты занималась какой-то таинственной, сверхсекретной работой, это что за должность?
Е. ТЕН - Это совершенно сумасшедшая должность, которой, я думаю, никогда больше в моей жизни не будет и не будет в жизни кого-либо другого в этой стране, городе. Работа заключается в том, что перед тобой стоят 8 телеэкранов, и каждый их них пишет определенный телеканал, и редактор по мониторингу должен следить за происходящим, отслеживать голоса ньюсмейкеров, тех, чье мнение заслуживает интереса или тех, чьи эмоции заслуживают внимания. Во-первых, там, чтобы быть на не почившей радиостанции "Новости он-лайн" редактором по мониторингу, нужно было заниматься далеко не только этим, но выполнять еще определенный ряд обязанностей, которые перечислять сейчас было бы занудно. Но в дополнение к наблюдению за телеэкранами я вспомнила передачу, которая была построена на материалах, которые мы собирали таким образом, она называлась "Рейтинг теленовостей" и выходила рано утром, рассказывая о том, какие новости считались топовыми на топовых телеканалах накануне вечером. Об итоговых выпусках. И это было интересно, правда, на мой взгляд, больше для журналистов, чем для слушателей, так как динамика оценки самих новостей прослеживалась очень ярко. Попутно отвечаю на ещё один твой вопрос: Тен это совершенно стандартная, может быть не самая распространенная корейская фамилия.
С. БУНТМАН А самые распространенные какие? Ким?
Е. ТЕН - Пак скорее гораздо более распространенная, по моим ощущениям, по российским корейцам - не менее, чем в два раза. Что касается моей фамилии, то я часто акцентирую в Интернете, что она пишется точно так же как по-английски "десять" и подписываюсь цифрой 10. И знающие люди знают, что это я. Мои родители, безусловно, граждане не Нигерии и корейскую фамилию они мне дали, потому что в нашей семье существует древняя традиция давать такую фамилию всем тем, кто рождается 31 февраля, скоро у меня день рождения.
С. БУНТМАН Что такое 31 февраля?
Е. ТЕН - Это несуществующая дата, которую я пытаюсь объяснить нашим радиослушателям, что, как правило, корейскую фамилию имеет человек, у которого родители корейцы и эта информация не считается ни мной, ни моими друзьями, ни радиостанцией закрытой. Моим бабушке и дедушке, то есть родителям моей мамы при рождении были даны корейские имена. Они переводились красиво. Например, "утренняя заря". А затем где-то в школьном возрасте они взяли русские имена, потому что там была большая история, в которую не хочется углубляться с великим переселением народов, благодаря вождю этих самых народов. И, для того чтобы акклиматизироваться в непривычной ситуации, корейцы начали называть себя и своих детей русскими именами, брать русские отчества, даже если никакого русского отца не было и в помине.
Я окончила журфак несколько месяцев назад, но работать начала гораздо раньше, чем показалось на горизонте само заканчивание института, и какой бы то ни был диплом, красный или не красный, в итоге получился не красный. Таким образом, мое первое образование получено и я думаю, что оно окажется последним. Я не разделяю стремление многих, безусловно, прогрессивных и благородных молодых людей и девушек получать второе и третье образование, поскольку работать мне нравится гораздо больше и возможно я просто еще слишком молодая и неопытная, не понимаю всей пользы, которую я могу извлечь из второго и третьего образования. И честно говоря, просто нет ни сил, ни времени, ни здоровья.
Вокруг меня, слава богу, всегда была масса людей, которые меня любят и не стеснялись ни говорить, об этом, ни делать что-то для меня и которым, я отвечаю безусловно взаимностью. У меня есть моя самая любимая замечательная бабушка, которая осталась в Волгограде, и которой мы взаимно стараемся помогать, насколько это возможно на таком расстоянии. К сожалению, чаще всего получается морально, хотя лучше, как говорится, помогите материально. Кроме того, в тот момент, когда маму я потеряла, меня очень выручил мой тогда еще коллега, а теперь молодой человек Миша, с которым мы по сей день продолжаем замечательно находить блаженство в общении, совместном проживании, и есть родные дядя с тетей, присутствие которых тоже невозможно переоценить в моей жизни.
Книжки и фильмы я люблю как таковые. Фильмами снабжает в большом количестве
мой молодой человек, Миша Антонов, видеообозреватель, обозреватель огромного
количества видеообзоров для какого-то дикого количества радиостанций,
агентств по распространению программ.
Я очень радуюсь, когда есть возможность куда-то поехать в поезде, долгая поездка, например, когда я езжу в Волгоград, я обязательно беру с собой толстенную книгу и, слава богу, наконец-то прочитала несчастного Мураками "Охоту на овец", которого все прогрессивное человечество уже давно выучило наизусть, успело забыть, положить на верхнюю полку.
С. БУНТМАН Скажи мне: в диалоге, что самое главное - услышать, переубедить,
обменяться мнениями или настоять на своем?
Е. ТЕН - Совершенно не настоять на своем, я вообще больше люблю процесс, чем результат. Хотя нет, тут я противоречу себе. Поймали, поймали!.. Мне интереснее выслушать, потому что, может быть, работа приучила к этому. Когда берешь интервью, важнее получить ответ, чем высказать свое мнение. И, кроме того, мне это интересно с корыстной точки зрения собственного личностного роста. Поскольку отвечать, означает отдавать, а слушать, означает брать, и я пока что, наверное, нахожусь в той стадии, когда я набираю и надеюсь, что потом начну отдавать.
Было время, когда я очень хотела делать какую-то тематическую рубричку по книжкам, но сейчас я представляю, что это была бы рубрика, выходящая раз в год ровно с той частотой, с которой я читаю книги. Мне очень прискорбно от этого. Хотя литература это именно та область жизни, которая меня крайне интересует. Я очень языковой человек, воспринимаю ушами, выдаю речью, и стихи, проза, любые другие формы меня очень задевают. В музыке, в песнях задевают тексты, в первую очередь, и знаете, в песнях, когда их запоминаешь, кто-то запоминает мелодию, кто-то текст, я, когда вспоминаю текст, я уже с огромной легкостью потом могу вспомнить любую мелодию. А если строчку не помню - все, песня пропала из моей памяти. Такое свойство и может быть когда-нибудь я свяжу плотнее свою профдеятельность с литературой, с книгами. Или с каким-то озвучиванием может быть интернет-материалов, сейчас ведь литература все больше переселяется в Интернет.
Я льщу себя мыслью, что я владею английским, и в школьные времена так оно и было. У меня были великолепные учителя. Спасибо Светлане Владимировне, Тамаре Николаевне, волгоградским учительницам моим. Но сейчас, за отсутствием практики, я, к сожалению, уже наверное помню какие-то сугубо разговорные фразы. Впрочем, мне их вполне хватает, когда я сталкиваюсь с иностранцами, или когда нужно перевести несложный текст. Меня пытались обучить французскому. Я была очень рада этим попыткам, но никто не довел их до конца и опасаюсь того, что это уже никогда не случится.
Мои и дальние друзья и близкие постоянно пытаются подшучивать над собачьей
темой, и еще над одним, как они считают исконно корейским атрибутом, присущим
только мне: так называемым корейским бредом, который я иногда несу. Это
термин двух моих замечательных институтских подруг, который означает произнесение
каких-нибудь абсурдных фраз в стиле Хармса, которого я обожаю и которые
они любовно называют корейским бредом. И, к сожалению, сейчас я становлюсь
все более официальной и внутри и снаружи, и все реже его несу. Даже не
могу сейчас вам привести пример, его особенность в том, что эта штука
спонтанная.
Что касается собаки, то могу похвастать только одним разом, когда я пробовала собаку, это было давно. Я понимаю раздирающее любопытство тех, кто не пробовал и не имеет шанса, - и не пытайтесь! Потому что те бедные "шарики", которые бегают и которых отлавливают доблестные московские власти, это малокулинарное понятие. Я пробовала суп из собаки у своей очень любимой родни. Когда мне было лет 12. Мне не очень понравилось, наверное, потому что я не очень люблю мясо. Но меня заставляли есть и говорили, что это очень полезно, потому что богато витаминами, и с тех пор я для себя твердо знаю, что это полезно. Но молоко, например, тоже пить полезно, но ничто меня не заставит его выпить.
Источник: http://www.echo.msk.ru/programs/sotr/24836/
Точка Зрения
- Lito.Ru
Наталья Рубанова:
На подоконнике Европы.
Очерки о культуре и искусстве.
Парадоксальный
образ, вынесенный автором в заголовок эссе, может быть истолкован
как окно в бессознательное читателя. Использованный автором биографический
материал имеет документальную ценность
03.01.07
ЭССЕ В ЕЖОВЫХ КАВЫЧКАХ
Нет общеобязательных суждений –
обойдемся необщеобязательными.
От этого пострадают одни учителя…
Лев Шестов
Сначала только ругали: «А в проклятом Буржуинстве…».
Кидались булыжниками «развитого социализма» в «загнивающий капитализм».
Ненавидели и боялись «мелкобуржуазную мораль», которая может взять, да
и раз-ло-жить (положить на лопатки?) не- и молодого «строителя коммунизма»
с его шизофреничным «кодексом». Потом долго-долго искали компромисс, вздыхая:
«Ах, Париж!» - и мечтали «достать» любой флакончик made in France, отставив
сначала «Красную Москву», а потом «Лесной ландыш» с «Белой сиренью» и
«Еленой», и даже (!) «Сигнатюр» - ну, с синим таким бантиком у горла,
помните?… Потом - во все лопатки с лопатищами! – плыли, мчались, летали.
Потом и кровью. Легко и изящно. Туристкой, невестой, бизнес-леди, профи
- etc. Навсегда или на время – у кого уж как линии ладонные сошлись.
Определение «советская женщина»*, как и «советский человек» (сразу отметим
бытующую классификацию женщины как «друга человека»), - незабвенно. Вероятно,
должно пройти не одно еще десятилетие, когда сей – (без)вольно или невольно,
но все же уродливый – дамский (?) подвид вымрет-таки. Быть может, через
полвека он окончательно уступит место «бабе гламурной» (это та, что глянец
– страшно подумать – перечитывает; та, которую тот еще глянец и породил).
Но я, собственно, о другом. Я - о том самом отношении к засемьюпечатанной
для совков и совочниц загранице, формировавшемся на протяжении всего существования
самой «красной», наверное, в мире системы. Системы, пытавшейся накрыть
своей костлявой ручонкой и меня, но, по счастью, агонизировавшей и вроде
как (?) почившей. А по несчастью - так и не принесшей российскому «поколению
тридцатиплюсминуслетних» (которые одной ногой в той могиле, другой – в
этой), пресловутой свободы. Советская женщина должна была работать, рожать
и молчать, постсоветская – работать, работать и работать. Чтоб потом хоть
одним глазком…
Из потока бессознательного, «Европа»: недоступно, дорого, красиво, комфортно, дипломат, деньги, духи, красная черепица, кафе, капитализм, эмигранты, чулки, разврат, наркотики, посольство, проститутка, устрицы, виски, Диор, иллюминация, Феллини, Лувр, зонтик, нищета, богатые, бедные, музей, порнография, дискриминация, забастовка, Андерсен, Оле-Лукойе, Карлсон, который живет на крыше…
Мама моя, впервые попавшая в молодости в Восточную Европу, была перед поездкой, как и остальные члены группы, тщательно проинструктирована: «Вы… как советские люди… не имеете права… вы… не должны… вы не можете… вам не разрешается… советская женщина…». Солнечный берег – а то был именно он – встретил маму более чем мило: какие-то не обремененные мозгами совки выдернули из круга, на котором она плавала, чертову пимпочку, и мама, не умевшая держаться на воде, медленно и верно начала тонуть. На ее счастье, рядом оказалось двое болгар – инженеры из Софии, - благодаря которым она осталась жива. «Красивые, отличные ребята! Мои дельфины… Ждали у отеля несколько вечеров подряд, а я из номера не выходила: нельзя с иностранцами встречаться, не положено! Середина 60-х… Не может советская женщина, права не имеет… Теперь-то, конечно, смешно… А ведь все могло по-другому сложиться!…».
В группе, с которой оказалась мама, по иронии судьбы очутились не только городские совки-совочницы, но и поощренные «За добросовестный труд» председатели колхозов. «Все в черных сатиновых трусах, в сандалиях с негнущейся подошвой, в одинаковых шляпах и с одинаково свисающими животам… такая, знаешь, «футбольная команда»! – смеется. - О, как хохотали над ними французы справа! Как фыркали над русиш швайн немцы слева! У них-то и лежаки, и халаты махровые, и… русиш швайн же лежит на песке гол как сокол. А знаешь, как стыдно было за одну нашу «советскую женщину», купавшуюся в белом, не от купальника, «низе», и черном грубом «верхе»?! Пластмассовая застежка видавшего виды бюстгальтера приколота булавкой… И эта желтая пуговица на растянутой грязно-белой резинке…» - мама, вспоминая это, каждый раз качает головой и вздыхает: «Тихий ужас! Как, впрочем, и в варьете строем – кошмар… По головам нас тогда пересчитали, повторили туда нельзя - сюда нельзя, а мы и сами знаем: вход пять левов, а на деньги, которые разрешили взять, только бутылку воды и купить… Но болгары русских любили, называли нас «братушки». «Братушки» же за сувенирами насмерть давились – я никогда к этим палаткам не подходила, стыдно было! – а немцы с французами все смеялись, пальцами показывали: «Совь-е-ти-ки!». Такая вот была у меня Европа…»
Из потока бессознательного, «советский»: балет, шоколад, космос, ВДНХ, невежественный, дикий, безвкусный, народный, наивный, примитивный, двуличный, мелкий, красный, стукач, коммунист, лицемер, партийный, водка, вор, завод, начальник, дурак, психушка, «Беломор», товарищ, Гагарин, талон, снег, милиция, «Время», Шолохов, Красная площадь, миру-мир, спорт, апартеид, Африка, дружба, фестиваль, ситро, картошка, лагерь, мемуары, строй, соседи, килька, гимн, труба…
Году в 97-м моя подруга впервые открыла «окно в Париж»: уехала с будущим мужем в самую настоящую Францию на белую зависть однокурсниц – мы учились тогда в вузе, где возможность путешествий не обсуждалась: с нашей ли стипендией и зарплаткой, в самом деле? Поэтому по возвращении, ее, благоухающую «родной» Dolce vita, в пончо и безумной маленькой шлямпке, похожей на тюбетейку, замучивали расспросами «Ну и как там, в Париже?». А подруга моя с некоторым ностальгичным раздражением отвечала: «Кафе. Импрессионисты. А дворники - все в зеленом – и с зелеными метелками! Супер!». Потом ей вспомнились и запаянные – от терактов – урны… И – парижанки – просто, но с каким-то чувственным шиком, одетые. И – русские, бывшие советские – женщины, «открывающие Европу», которых так легко распознать по пакетам в руках и кричащим шмоткам… Что это? Неистребимость ситцевого белья в цветочек? Клеймо серпа и молота навсегда? «Остаток» растерянных поколений?
В бальзаковском возрасте моя хорошая знакомая взяла, да и уехала в «старую добрую Европу». Но, прожив столько лет в России-матушке, непросто даже с неплохим английским и не самым, надеюсь, плохим мужем, встроиться в чуждую «загадочной русской душе» культуру (а может, всё - миф, и никакая эта русская душа не загадочная?). «Они идиоты! – звонила мне экс-советская женщина месяцев через несколько. – Вместо того, чтоб есть натуральные продукты, жрут всякую гадость и толстеют! Полы в домах каменные, потому столько людей к 60-ти в инвалидных колясках разъезжает… Мужик мой двух шагов без машины не сделает, плюс каждые выходные ему обязательно нужно в ресторане обедать (заодно и меня всем «показывать»!) – а я эту их еду терпеть не могу, и вообще… от себя не убежишь, и – знаешь? – какие-нибудь провинциальные продавщицы, вышедшие покурить на улицу, такие же, как и в городе, в котором ты родилась: все везде одинаково… Обыватели – обыватели и есть».
С работкой непросто, особенно когда тебе за «…-цать»; курсы «нового родного» языка и горький вкусный «Гиннес» в пабе, где немало тех же русских, не панацея от того, что называется «они другие». Правда, девушка, обитающая в нескольких часах езды от Лондона, привыкла к той жизни достаточно быстро (видимо, дело в возрасте – ей нет еще 30-ти) и, окончив колледж, вполне нормально себя ощущает: если б только столица королевства была дешевле… Если б (остальное за скобками)…
Из потока бессознательного, «советская женщина»: мать, жена, ткачиха, Савицкая, учитель, героиня, доярка, лошадь, бык, баба, мужик, синий чулок, золотой зуб, политинформация, коммуналка, гвоздика, костюм, щи, ударница, дура, базар, несчастье, тюрьма, огород, автобус, собрание, «вечер отдыха для тех, кому за…»
Мое же «открытие Европы» случилось когда-то в Польше: как пела Вероника Долина, в общем, «…все дело все-таки в Польше». Быть может, это и смешно-мелко-скучно, но туалеты в электричках, и, простите, туалетная бумага… Во всех без исключения электричках - от Тересполя до Варшавы – и это было полуунизительно-полуудивительно, не как в пенатах, и невольно вспоминалась ерофеевская «Москва-Петушки» да жутенькие подмосковные поезда, в которых теперь, к счастью, не езжу… Польша заворожила своей мелодичностью, чего не скажешь о гордой, восхитительной Чехии, в которую я, несмотря на ее красоту, так и не влюбилась до беспамятства, и именно на Карловом мосту поняла, что где-то как-то хочу если не к березкам, то явно в Москву: может, из-за не очень-то гостеприимных чехов (хотя, какими им еще быть после 67-го?), может, из-за бехеровки, будь она неладна, а может просто потому, что возвращаться приходилось к "корыту" весьма унылому - п е н а т с к о м у? Бог его знает. Потом я ехала в Питер и там, по кошернейшему подоконнику Европы прохаживаясь, одним глазком все ж мечтала «подсмотреть», к примеру, за тем же Парижем – как любая «советская» когда-то и «гламурная» теперь – женщина. Я помнила, что хорошо лишь там, где нет меня – и нет меня, и пыталась забыть Г.Миллера, утверждавшего, будто «Париж прекрасен, но он смердит»…
© 03.01.07 18:05. Наталья Рубанова. "На подоконнике
Европы".
Все права сохранены.
Лилия Виноградова, Италия
Лилия Виноградова, 17.02.1968, Москва. Французская спецшкола,
музыкалка, ГМУ им. Гнесиных, Литинститут семинар Е. Винокурова, публикации,
2 книжки стихов («Маленькая хозяйка большого сада» 1990, «Живая ртуть»
2003 «Вагриус»), с пятнадцати лет по сегодняшний день тексты для многих
русских поп. хитов (впрочем, самое тесное сотрудничество с Д. Маликовым).
С 1989 жизнь в Италии на озере Комо, семья (муж Даниэль – 37, дочь Николь
– 7), Миланский Университет: французская и русская литература, диплом
по эссеистике И. Бродского. Переводы книжек с итальянского на русский
(О. Фаллачи «Ярость и гордость, А. Фаббри «Мухи в Голивуде» и т.д.) ...и
прочее, и прочее, и прочее...
 |
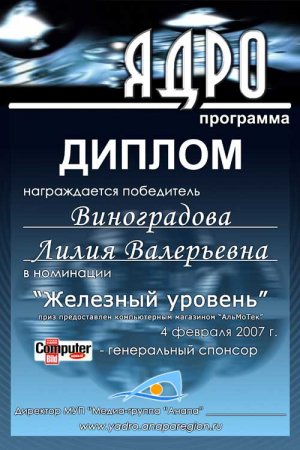 |
Более подробно о поэтессе в нашей первой публикации
"В постели с врагом"
На прошлой неделе редакция израильского порносайта "Парпар-1" объявила о новом проекте "В постели с врагом", в рамках которого на суд посетителей были представлены сотни любительских фотографий моделей еврейской и арабской национальности. О новом проекте написала газета "Гаарец". После чего о затее израильских порнографов сообщили многие солидные западные издания – в том числе, германское агентство DPA. "Парпар-1" – один из немногих израильских веб-сайтов "для взрослых", производящих фильмы и фотосессии, используя местных моделей и местную тематику. Вот названия некоторых из порнофильмов, снятых на студии "Парпар-1": "Секс в армии", "Амаль и Рахель", "Дочь раввина", "Армейская мощь" и "Завтрак по-израильски". Создатели этого сайта и раньше неоднократно подчеркивали, что они работают с моделями разных национальностей. Появление "арабо-израильского проекта" на сайте "Парпар-1", по всей видимости, объясняется рыночной конъюнктурой: уже около года на конкурентном сайте "Ратув" есть специализированный раздел на арабском языке. Но "парпаровцы" пошли дальше своих соперников, решившись на проект, который обеспечил им бесплатную рекламу в израильской и европейской прессе.
Вчера корреспондентка NEWSru.co.il созвонилась с Шаем Малулем, главным редактором, создателем сайта "Парпар-1" и руководителя проекта "Евреи и арабы. Сделано в Израиле" (другое название проекта "В постели с врагом").
Теперь о вашем сайте стало известно не только в Израиле, но и за рубежом. Солидные европейские издания обсуждают вашу попытку примирить евреев и арабов таким вот необычным способом. Расскажите о вашем проекте.
Мы вместе с напарником открыли наш сайт в 2000-м году. Идея была простой и в то же время оригинальной – снимать только израильских моделей. Есть шведское, немецкое порно, а мы решили создать израильское. Мы открыли абсолютно новую нишу.

А что, раньше не было израильской порнографии?
Порнографии, в которой были бы задействованы только уроженцы Израиля – нет. Никогда. Хочу подчеркнуть, что я не имею ничего против выходцев из других стран, для меня все равны. Просто это было новое слово в порно. Ко мне приходили девушки, юноши, и я в первую очередь проверял паспорт. Первое, что меня интересовало – исполнилось ли им 18 лет, второе – что они родились в Израиле. На протяжении нескольких лет мы снимали и евреев, и друзов, и арабов. Нам присылали автобиографии, фотографии на электронную почту. Любой взрослый человек мог сняться у нас. В 2001 году мы работали уже серьезно, снимали собственные фильмы. Главной задачей было – найти израильских девушек. Это сложнее всего. Ведь Израиль – маленькая страна, все друг друга знают. Но постепенно мы набрали актрис. У нас уже есть около 70-80 девушек и больше сотни парней. Парней для порнографических съемок всегда легче найти. Так это начиналось. Все время мы скрывали, что у нас снимаются арабы, друзы. И вот пару месяцев назад мы вдруг подумали: почему же, если у нас снимаются люди разных вероисповеданий, разных национальностей, не подчеркнуть это, не рассказать об этом? Такое соединение – прекрасно! Мы снимали много фильмов для взрослых и поняли, в конце концов, что в постели все одинаковы. Все мы в постели занимаемся одним и тем же. Неважно, какого цвета волосы, кожа. Вот недавно к нам пришла новая бедуинская девушка. Мы снимаем всех, нас не волнуют религии и национальности. Хватит с нас войны! Лучше займемся любовью.
Скажите, девушки-арабки не против того, что вы подчеркиваете их национальность? Если евреи еще могут спокойно воспринять то, что актриса снимается в фильмах для взрослых, то в арабском секторе реакция может быть совсем другой, не столь лояльной.
До сегодняшнего дня с этим не было проблем. Каждый человек, который приходит ко мне подписывает договор. Мы оговариваем все правила сотрудничества. У меня в контракте написано, что я могу делать с отснятым материалом все, что захочу. Никто еще не выдвигал мне требования не сообщать, кто он, или закрыть его лицо.

Еврейско-арабский порносайт – это еще один способ заработать или, в той или иной степени, попытка мирного урегулирования арабо-израильского конфликта?
Наш бизнес – порно по-израильски. Мы представляем его в Израиле и во всем мире. Абонементы у нас покупают отовсюду: из Бахрейна, Сирии, Египта и даже Ирана. Все любят смотреть порно, ничего не поделать. Я вообще думаю, что наши актеры занимаются приятным, хорошим делом. Плохо – это воевать. А заниматься любовью – почему бы и нет? Люди заходят на наш сайт с удовольствием, мы снимаем для них фильмы, делаем фотографии. Да, мы делаем это ради денег. Это правда. Но ведь это как компания, производящая лекарства: она помогает людям и зарабатывает деньги одновременно. Это жизнь. Я снимаю порно. И делаю доброе дело. Наша изначальная цель – заработать деньги, но идея – как это сделать – мне искренне нравится.
Арабы заходят на ваш сайт?
Есть разница: можно просто зайти посмотреть картинки, а можно и купить абонемент. 20-30% клиентов, приобретающих наши абонементы – арабы. Примерно 50% наших пользователей живут за границей – в том числе, в арабских странах.
Какие комментарии вы получали после того, как был запущен проект "Евреи и арабы. Сделано в Израиле"?
Реакции отличные. Но, вы же знаете, на каждую тысячу обязательно найдется кто-то недовольный. В целом, клиенты довольны нашим сайтом, многие становятся постоянными его посетителями. Мы специально публикуем наши телефоны прямо на сайте – чтобы каждый мог сказать нам лично, что его устраивает, а что – нет. Любой может позвонить. "Русские" журналисты раньше не звонили, вы – первая.
Сталкивались ли вы с претензиями со стороны правоохранительных органов?
Во-первых, то, что делаю я, – абсолютно законно.
Снимать порно в Израиле разрешено?
Не запрещено. Снимают же постельные сцены для обычных фильмов? Это разрешено? Так почему же мне могут запретить делать то же самое? Если запретят, неважно – буду снимать за границей. Кстати, забыл сказать, у меня есть очень много религиозных клиентов. И я считаю, что они – молодцы. Они подчеркивают, что религиозные люди – такие же, как мы. Вера не должна разделять людей по каким-то критериям. Мы все пьем, едим, занимаемся сексом и так далее. Какая разница, кто в какой семье родился, и кто во что верит? Хватит конфликтов, лучше займемся любовью… Впрочем, это я уже говорил.
Источник: newsru.co.il
Еврейская мама атомной бомбы
Лиз Майтнер - еврейская
"мама атомной бомбы"
и "автор проблем космической физики".
"Мне непонятен ажиотаж вокруг моей особы.
Я вовсе не являюсь создателем атомной бомбы.
Я даже не имею представления о том, как она выглядит"
Лиз Майтнер.
Цитата из интервью газете "Saturday Evening Post"
"Лиз Майтнер никогда официально не предъявляла
претензий на приоритет в открытии расщепления атомного ядра. Если взглянуть
на её фотографию, создаётся впечатление, что она вообще не способна заявить
претензию даже на что-то ей несомненно принадлежащее. Встречаются такие
человеческие лица. Зато многие её биографы, как и специалисты по ядерной
физике, считают, что работы Лиз Майтнер были по заслугам отмечены Нобелевской
премией, только присуждённой не ей, а Отто Хану".
Патриция Райф
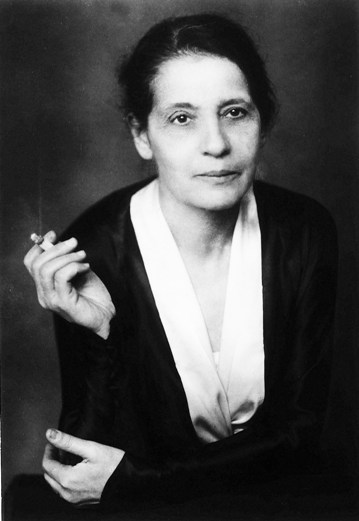
Как-то мне попалась на глаза книга, изданная немецким
издательством "Piper". Автор книги Эрнст Петер Фишер снабдил
её несколько игривым для её содержания названием: "Aristoteles, Einstein
and Co". Книга содержала сведения о нескольких десятках учёных, труды
которых обусловили прогресс человечества за последние два с половиной
тысячелетия. На суперобложке были помещены портреты шестерых из них. Между
Дарвином и Эйнштейном находилась фотография молодой красивой женщины.
Этой женщиной оказалась Элиза Майтнер.
На жилом доме в престижном районе Леопольдштадт в Вене, где 17 ноября
1878 года родилась Элиза (Лиз) Майтнер, укреплена мемориальная доска в
её честь.
Она была третьим ребёнком из восьми в семье адвоката Филиппа Майтнера. На дворе конец ХIХ века: в австрийской гимназии уже разрешалось обучаться евреям, но всё ещё не принимали туда девушек. Несмотря на трудности, все дети Майтнеров получили высшее образование. Лиз пришлось оканчивать гимназию заочно в возрасте 23 лет. Времена постепенно, со скрипом, менялись, и отличные отметки её аттестата позволили ей в 1901 году поступить в Венский университет, правда, всё ещё "в виде исключения".
Уже в раннем детстве она была любознательной и пыталась
проверять всё опытным путём. Когда бабушка её стала уверять, что если
шить в субботу - обрушится небо на голову, она, 6-летняя тут же проверила
это экспериментально, сшив кукле платье. Небо осталось на месте.
Выбор физико-математического факультета для девушки в то время многим
показался странным. Скептики замолчали, когда Лиз на втором курсе нашла
ошибку в работе известного итальянского профессора математики, и из скромности
отказалась это опубликовать. Сразу после окончания университета Майтнер
защитила диссертацию. Это был второй случай в более чем 500-летней истории
Венского университета, когда диссертация была защищена женщиной, вообще,
и первый - женщиной в разделе точных наук. После того, как ей случилось
побывать на докладе гостившего в Вене Макса Планка, она отправилась в
Берлин, надеясь продолжить образование под его руководством.
В весьма консервативной Пруссии научная карьера женщины была делом нелёгким. Шёл 1907 год. Запрет на обучение женщин в вузах сохранился в то время в Европе только в Германии и Турции. Своей научной карьерой Майтнер во многом обязана Планку. Макс Планк, автор квантовой теории, один из выдающихся учёных ХХ века, был человеком, на первый взгляд, замкнутым. Он ратовал за допуск женщин к высшему образованию, но считал, что им всё же больше подходит профессия акушера-гинеколога, чем физика. Майтнер его очаровала. Он не только взял её под свою опеку, добился для неё разрешения посещать его лекции, но и пригласил домой и познакомил со своими дочерьми. Они стали её подругами. Планк рекомендовал её директору Института Химии Берлинского Университета - Эмилю Фишеру. Этот весьма консервативный учёный не допускал тогда присутствия женщин в своём институте. Для Лиз было сделано исключение. Несмотря на то, что у неё уже был титул доктора наук и десяток опубликованных научных работ, ей всё же следовало входить в институт только через подъезд, предназначенный для хозяйственных надобностей.
Фишер предложил ей совместную работу с молодым химиком Отто Ханом. Объект их исследований - радиоактивные элементы. Хан к этому времени несколько лет стажировался в лаборатории Эрнеста Резерфорда и имел опыт в этой области. Он был талантливым химиком. Майтнер хорошо разбиралась в используемых ими физических приборах, и занималась их проектированием и монтажом, что казалось необычным для столь хрупкой девушки. Она была и главным теоретиком в этом дуэте, хотя руководителем их лаборатории до 1912 года числился Хан. Их научный тандем просуществовал 31 год и оказался весьма плодотворным. Им удалось открыть новый элемент протактиний, существование которого предсказала Майтнер. Для измерения бета-излучений они впервые стали применять феномен радиоактивной отдачи и исследование их в магнитном поле.
В 1909 году она докладывала о совместных с Ханом работах на конгрессе в Зальцбурге и удостоилась лестной оценки Эйнштейна. Их лаборатория тесно сотрудничала с Кавендишской лабораторией Эрнеста Резерфорда в Англии. Они получали оттуда радиоактивные элементы. Курьёзным кажется тот факт, что посылки с ними приходили по почте в обыкновенных картонных коробках. Тогда ещё не было понятия о радиационной защите. Без малейшей защиты работали в те годы с радиоактивными веществами Хан и Майтнер. Поначалу лабораторией им служила бывшая столярная мастерская в институте химии на Hessische Strasse. По свидетельству современников, помещение это по своей неустроенности очень походило на то, в котором работала Мария Склодовская-Кюри в Париже. В первые годы Майтнер не получала никакого вознаграждения, материальную поддержку ей оказывали родители. Все ограничения для женщин в науке были сняты в Германии только в конце 1909 года. Правда, женский туалет в институте химии ещё долго отсутствовал.
В общественном сознании сохранялось мнение, что женщинам научная работа в серьёзной физике и химии противопоказана. Как-то действительно был случай, когда у студентки загорелась коса от бунзеновской горелки, а мужские бороды считались почему-то более огнеупорными. Не удивительно, что в одной из берлинских газет сообщалось, что госпожа доктор Майтнер прочла доклад под названием "Проблемы косметической физики". Настоящее название доклада "Проблемы космической физики" - показалось корреспонденту слишком далеким от того, чем, по его мнению, должна заниматься дама, пусть и ученая...
B 1912 году в берлинском районе Далем в присутствии Кайзера
Вильгельма II были торжественно открыты два вновь построенных института:
институт химии и институт физической химии. Вскоре открылся ещё и институт
биохимии. Далем стали называть "Немецким Оксфордом".
В институте химии Хан заведовала отделением радиоактивных исследований,
Майтнер - специально для неё учреждённым физическим отделением. Их отделения
работали в содружестве. Майтнер наконец стала получать зарплату. В этом
же году она по совместительству стала ассистентом на кафедре Макса Планка
в Берлинском университете.
С началом Первой мировой войны она сочла своим долгом помогать раненым. Какое-то время работала рентгенлаборантом в больнице в берлинском районе Лихтерфельде, а в 1915 году записалась добровольцем в австрийскую армию (она гражданка Австрии), и служила ренгенлаборантом в армейских фронтовых госпиталях в районе Львова и Люблина. На фронт ушёл и Хан. Она вернулась с фронта раньше Хана и продолжила, начатые ими совместно исследования. Результаты этих исследований публиковала от имени обоих, считая, что обязана это делать по отношению к товарищу, пребывающему в действующей армии. Имя Отто Хана всегда стояло первым, если даже вся работа была выполнена без его участия. Позже они осуществили ряд совместных работ по изучению бета-спектров радиоактивных элементов. Работы эти относятся скорее к физике, чем к химии, но опять-таки первым автором назывался Хан. Его роль заключалась в основном в получении идеально чистых веществ для опытов. Химиком он был действительно великолепным.
В 1922 году Майтнер присвоили звание профессора. В среде
берлинских физиков с лёгкой руки Эйнштейна её называли "Наша фрау
Кюри".
В учёной среде получает распространение следующая игра слов: если чуть
изменить немецкое написание авторов "Otto Hahn, Lis Meitner",
то получается "Otto Hahn, lis Meitner", что в переводе означает:
"Отто Хан, читай Майтнер!". Её место в науке можно определить
по фотографиям. В частности, на физическом конгрессе в Брюсселе в 1933
году, среди приблизительно полусотни участников, она в одном ряду с Эрнестом
Резерфордом, Нильсом Бором, Абрамом Йоффе, Джеймсом Чедвигом, Энрико Ферми
и другими легендарными физиками. На этом снимке запечатлены всего три
женщины: Мария Склодовская Кюри, Ирен Кюри и Лиз Майтнер.
Берлин стал одним из главных мировых центров ядерной физики, а Майтнер была признана одним из ведущих учёных в этой области. У неё сложился широкий круг друзей в Берлине. Она участвовала в музыкальных вечерах в семье Макса Планка, иногда вместе с Эйнштейном. С Максом фон Ляуэ она дискутировала о литературе, кино и, конечно, о физике; после того, как Отто в 1911 году женился, бывала у Ханов. Она была дружна с его женой Эдит. Часто посещала и семью Нильса Бора в Дании. С 1934 года "дуэт" Хан - Майтнер превратился в "трио". С ними начал работать химик - Фритц Штрасман. Тем временем в Германии уже год у власти Гитлер. Следует массовый исход евреев из науки: кого уволили, кто сам подал в отставку, были и случаи самоубийств. Она, как "неарийка", отстраняется от преподавательской работы. Своё положение в институте химии на какое-то время сохраняет, как гражданка пока ещё независимой Австрии и как участница войны.
Атмосфера в институте становится всё менее переносимой. Один из её ассистентов - активный член нацистской партии. Очень активен в вопросах "чистоты немецкой науки" заведующий лабораторией, расположенной этажом выше, он же её сосед по вилле в берлинском Грюневальде профессор Курт Гесс. Он на одном из совещаний заявил, что наличие еврейки в штате позорит этот институт. Это не помешало ему после войны обратиться к ней за защитой, когда в Германии проводилась денацификация. Многие её друзья и знакомые евреи уже подверглись репрессиям. После аннексии Гитлером Австрии в 1938 году Лиз лишилась защиты как иностранка. Ей советуют эмигрировать, хотя она не хотела бы оставлять друзей, привычную среду, незавершённую научную работу. Не так-то просто и уехать. Вопрос об её отставке решался самим Гиммлером. В директиве из его ведомства написано:
"...Существуют политические соображения против выдачи заграничного паспорта фрау профессор Майтнер. Представляется нежелательным, чтобы известные учёные евреи уезжали из Германии и там, как представители немецкой науки или вовсе воспользовавшись своим именем и опытом, соответственно своим убеждениям вели деятельность, направленную против Германии. Следует найти выход, чтобы профессор Майтнер после её отставки оставалась в Германии и с пользой для неё работала".
В июле 1938 года она при помощи друзей перебирается полулегально без заграничного паспорта в Голландию, оттуда самолётом в Данию. Ей было трудно получить въездную визу в любую страну, чиновники не делают исключений, так как она "незаконно", и, кстати, без багажа, всего с 10 марками в кармане, оставила Германию. В Копенгагене она пользуется гостеприимством в семье Нильса Бора, он готов предоставить ей работу в своём институте, но ей не дают вида на жительство в Дании. Бор находит ей место в новом физическом институте в Стокгольме. Её деятельность там не сложилась: нет условий для работы по её теме, оборудование несовершенно, ей не выделяют ассистентов. У неё очень скромная зарплата, неустроенный быт. Её вещи власти долго задерживают в Германии под самыми различными предлогами, и когда, наконец, она, после уплаты крупного таможенного сбора, их получает: мебель переломана, посуда перебита, значительная часть её библиотеки изъята, в книгах, которые дошли - вырваны страницы. Пенсию, которую она заработала в Германии, ей не выплачивают.
В Швеции ей создаёт трудности языковый барьер и очень
не хватает её берлинских друзей. Не складываются у неё взаимоотношения
с директором института. У профессора Манэ Зигбана другие научные интересы,
да и кому понравится иметь у себя в институте учёного, авторитет которого
в мире намного выше, чем твой? Внешне заметных трений у них не возникает,
это не в её характере, но отношения весьма прохладны.
В Берлине Хан и Штрасман продолжают, начатые с её участием опыты по получению
трансурановых элементов. Результаты опытов регулярно сообщаются в Стокгольм
Майтнер. В сентябре 1938 года она встретилась с Ханом у Бора в Копенгагене.
Она внесла существенные коррективы в планы исследований берлинской лаборатории.
Хан впоследствии упорно умалчивал об этой встрече, объясняя тем, что это
может негативно повлиять на его карьеру в нацистской Германии. Штрасману
Хан тоже не сообщил, что встречался с Майтнер, но тот прекрасно понимал,
от кого исходят коррективы, внесённые в их опыты. Тем временем, в этих
опытах появились трудно объяснимые явления: "изотоп радия" вёл
себя как барий.
"Только ты можешь найти этому явлению объяснение.
В этом случае авторов будет трое", - писал ей Хан.
Она предложила повторить опыт, исследовать возникающий при его проведении
осадок. Подтвердилось постоянное наличие бария в осадке при бомбардировке
урана пучком нейтронов. Это указывало на то, что ядро урана распалось.
Вторым осколком распавшегося урана должен был быть, по её мнению, криптон,
что и подтвердилось. Значит, нейтроны способны расколоть ядро урана. Сумма
массы двух вновь возникших элементов оказалась по расчётам Лиз Майтнер
меньше исходного урана на 1/5. Значит, при этом должна выделяется энергия,
которую можно вычислить по формуле взаимозависимости энергии и массы Эйнштейна
Е = mc2. Расчёты Лиз точно совпали с данными опытов. Утверждают (Отто
Фриш), что все эти расчёты были произведены во время лыжной прогулки,
после получения письма из Берлина с описанием опытов. Впоследствии она
высказала ещё и предположение о возможности цепной ядерной реакции. Так
состоялось открытие ядерного распада. Соображения и расчёты Майтнер стали
известны Хану из её письма в канун рождества - 23 декабря 1938 года. Лучшего
подарка к рождеству и придумать было нельзя.
6 января 1939 года результат опытов с расчётами Майтнер
был опубликован Ханом, но в авторах числились только Хан и Штрасман. Хан
объяснял это тем, что в нацистской Германии нельзя было публиковать работы
"неарийских авторов".
Вот что писал по этому поводу позже Штрасман:
"Лиз Майтнер была душой и руководителем нашей группы.
Поэтому она одна из нас, хотя и не присутствовала при завершении опыта".
Она ограничилась тем, что поздравила их обоих с открытием. В письмах к
Хану уверяла, что не имеет претензий. Похоже, что и она недооценила грандиозность
своего открытия. Зато оценил его Нильс Бор, который рекомендовал ей немедленно
опубликовать свои соображения. Она этого не сделала. Опубликовали коротенькую
заметку в британском журнале "Nature" с описанием ядерного распада
и теоретического его обоснования Нильс Бор и Отто Фриш. Заметка вышла
позже публикации Хана. Автором открытия в этой заметке называлась Лиз
Майтнер. Не возникает сомнений, что опыты, приведшие к открытию, были
задуманы ею, проводились на ею спроектированном оборудовании, по её плану,
теоретическое их объяснение дала она, а в числе авторов открытия её не
оказалось.
Спустя короткое время Хан писал Лиз:
"Я не могу теперь этим господам покаяться, что ты была той единственной,
кто всё сразу понял. Мы должны были спешить, чтобы нас не опередила Ирен
Кюри".
Это уже ничего не меняло.
Бор предоставил ей возможность работать на оборудовании в его институте
в Копенгагене, и она доказала, что сходные результаты получаются не только
при бомбардировке нейтронами урана, но и тория. Попутно она определила
те условия, при которых возможен атомный взрыв.
В Рейхе начинается работа над "атомным проектом". Руководит
ею Вернер Гейзенберг. В 1944 году Нобелевская премия по химии за открытие
распада атомного ядра присуждается Отто Хану. Обойдены не только Майтнер,
но и Штрасман. Причиной этому называют, кроме ложного приоритета в публикациях,
ещё и неприязнь к Майтнер директора Стокгольмского Физического Института
Мана Зигбана. Он - член Нобелевского комитета. Эта ошибка не была исправлена
и в будущем.
После окончания войны десять ведущих немецких атомщиков во главе с Гейзенбергом были интернированы в Англию и размещены неподалёку от Кембриджа. Среди них был и Отто Хан. Союзники опасались, что их используют в своём атомном проекте русские. За интернированными велось тщательное наблюдение, включая прослушивание их разговоров. Эти учёные впоследствии заявляли, что они сознательно не стремились дать атомное оружие в руки Гитлеру, что явно не соответствует истине. Многие из них были убеждёнными нацистами. Из опубликованных спустя годы документов, включая материалы прослушки, следовало, что они были весьма далеки от понимания технологии создания атомного оружия. Кстати, Германия к окончанию войны не располагала даже атомным реактором.
В 1943 году Майтнер предложили участие в "Манхэттенском проекте" по созданию атомной бомбы. Последовал её отказ: она не хотела участвовать в работе над любым видом оружия. Физика перестала быть невинным занятием. После того, как атомные бомбы были сброшены на Японию, Майтнер стали одолевать журналисты. В те дни имя Майтнер очень часто упоминалось в печати. Один из заголовков газет гласил: "Еврейка нашла ключик к окончанию войны с Японией". Хана её слава крайне огорчала. Он всё приписывал себе. Он упорно заявлял, что открытие расщепления ядра было заслугой химии, и к физике отношения не имело. Кстати, когда Хану в 1944 году была присуждена Нобелевская премия, сами члены Нобелевского комитета ещё недостаточно разбирались в ядерной физике.
В 1946 и 1947 годах Нильс Бор предлагал кандидатуру Майтнер
на Нобелевскую премию. Оба раза безуспешно.
В 1947 году Майтнер побывала В США. Газета "Таймс" сообщала:
"Она - человек, пробивший дорогу атомной бомбе, при первом шаге из
самолёта увидела такое количество репортёров, что поспешила назад в самолёт.
Когда, наконец, вышла из него, была встречена громом приветствий, но сказала
только: "Я так страшно устала".
Она удостоилась почётных званий доктора многочисленных американских университетов,
ей пришлось выступить с докладами во многих городах. Она выступала в конгрессе,
у неё была встреча с президентом Трумэном, который подарил ей серебряное
блюдо с гравировкой-посвящением. Она была названа "Женщиной года".
Её лицо мелькало на титульных листах многочисленных газет.
"Дама с мягким голосом и непререкаемым авторитетом
в области физики везде произвела неизгладимое впечатление". Так писали
газеты.
Не обошлось и без курьёзов. Её приглашали в Голливуд сниматься в главной
роли в художественном фильме о ней самой. В одном из многочисленных писем,
получаемых ею, была просьба прислать немного плутония для лечения больного
раком человека. Какое-то австрийское патриотическое объединение просило
походатайствовать, чтобы Южный Тироль оставался в составе Австрии. Хан
очень ревниво реагировал на те почести, которые оказывались ей. Нобелевская
премия вручалась ему с опозданием на 2 года, в 1946 году. Майтнер присутствовала
на церемонии вручения. Для этого вечера заказала новое платье. В Нобелевской
лекции он ни словом не упомянул о ней. Не упомянул о ней и в интервью
газете "Swenska Dagesbladet". Она же в письмах к Хану была по-прежнему
дружелюбна, если не сказать - нежна.
По мнению коллег-учёных, Хан, вне всякого сомнения был достоин Нобелевской премии. Другое дело, что впоследствии он вёл себя не по-рыцарски по отношению к своим соавторам - Майтнер и Штрасману, которых наградить этой премией "забыли". В 1947 году Майтнер получила приглашение возглавить отдел в институте в Майнце, от которого отказалась. Руководителем этого института был её бывший сотрудник в Берлине Фритц Штрасман. (К слову, Штрасман был удостоен звания "Праведник мира". Он и его семья много месяцев предоставляли убежище пианистке еврейского происхождения Андреа Вольфенстайн). В послевоенные годы Швеция была заинтересована в использовании атомных технологий в мирных целях, и Лиз были предоставлены хорошие условия работы в новом Королевском техническом институте. Она стала членом Королевской Академии, принимала участие в присуждении Нобелевских премий.
Впоследствии она часто приезжала в Германию, и каждый
раз её здесь встречали с энтузиазмом. Она пыталась помочь немецкой науке
преодолеть изоляцию, в которой та оказалась из-за нацистского прошлого.
Велик перечень правительственных наград, которыми её наградили Австрия
и Германия. Свыше десяти гимназий в этих странах носят её имя. Одна из
оживлённых улиц в центре Берлина названа Lis Meitner Strasse. Улицы её
имени есть и в других городах. Она почётный доктор многих немецких университетов.
В 1956 году в берлинском Далеме открылся институт ядерных исследований
имени Хана и Майтнер. (Правда, 4 июня 2008 года он был переименован в
энергетический центр имени Гельмгольца). В 1997 году вновь открытый химический
элемент получил название Майтнерий.
Большую часть жизни она была ограничена в материальных средствах. Зато в космосе у неё "обширные владения": её именем Международный Астрономический Союз назвал малую планету и кратеры на Луне и Венере. Она никогда не была замужем. Её биографы уверенно заявляют, что у неё не было и любовных приключений. Похоже, вся её жизнь была посвящена только физике. И всё же, когда знакомишься с её биографией, особенно, когда перечитываешь опубликованные её письма к Отто Хану и её отзывы о нём, когда анализируешь её отношение к нему, мимо воли закрадывается предположение, что то, что она питала к нему, было больше чем дружба. Впрочем, об этом судить труднее, чем даже о некоторых тонкостях ядерной физики.
После ухода на пенсию в 1960 Майтнер жила в Великобритании,
в 1963 она поселилась в Кембридже. Там она и умерла 27 октября 1968, за
несколько дней до своего 90-летия.
В этом же году умер и Отто Хан. Он был на год её моложе.
Марк ШЕЙНБАУМ, Берлин
Еженедельник "Секрет"
Источник: http://www.jewish.ru/style/press/2008/11/news994268720.php
Алла Липатова
 |
|


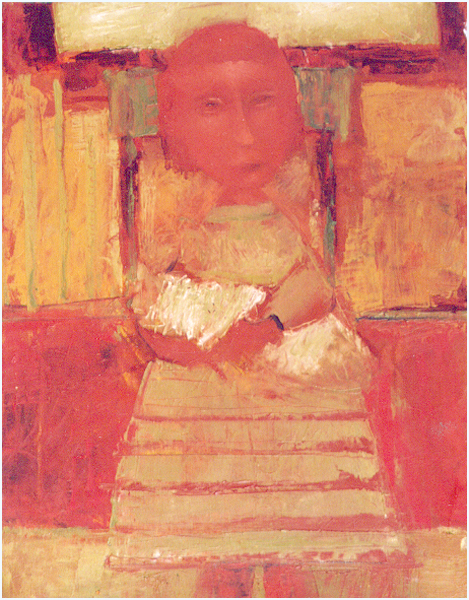

Источник: http://www.reznichenco.ru/lipatova-alla/
Дора Лейхтенбергская
Одна из самых экстравагантных биографий в семье герцогов Лейхтенбергских принадлежит Дарье Богарне. Родилась она 7 марта (19 марта по н.с.)(по другим данным 28 февраля) 1870 года в семье, которая была связана и с Наполеоном, и с Романовыми. Отцом Дарьи был Евгений Максимилианович, герцог Лейхтенбергский и князь Романовский, который приходился внуком как Николаю I (по матери) так и Эжену (Евгению) Богарне, пасынку Наполеона. (Герцог Лейхтенбергский Максимилиан после женитьбы не Великой княжне получил титул Императорского высочества, фамилию князей Романовских для потомков и вхождение своей семьи в состав Императорской.) Матерью Дарьи была правнучка Кутузова Дарья Опочнина, которая умерла родами дочери. (Интересно, что вторым браком Евгений Максимилианович был женат на двоюродной сестре своей первой жены Зинаиде Скобелевой, сестре того самого знаменитого генерала Скобелева). Из-за неравнородности бака отца и матери Долли могла носить только титул графини Богарнэ. Так что в знаменитых предках недостатка у Долли не было.

Училась во Франции (лицей в Париже) и Германии (гимназия в Карлсруэ). В 1893 году вышла замуж за князя Льва Михайловича Кочубея. В браке родились дети Евгений Львович (1874-1951), Елена Львовна (р.1898) и Наталья Львовна (р.1889, стала монахиней в Висбадене). Но видимо, семейная жизнь не устраивала Долли: она продолжила свое обучение в 1905 году в Сорбонне. По туманным намекам самой Дарьи, отъезд был вынужденным из-за каких-то неприятных высказываний о царской семье. (Вторая жена отца Дарьи, Зинаида в девичестве Скобелева, считалась любовницей Великого князя Алексея Александровича, уж не с этим ли фактом были связаны "неприятные высказывания"?)
С мужем своим Дарья Евгеньевна разошлась в 1905 году, а в 1912 году встретила своего будущего второго супруга, морского офицера, барона Вольдемара фон Гревеница (1872-1916), который служил капитаном линейного коробля "Полтава". Графиня утверждала, что тот увидел ее в бинокль, когда плыл на своем корабле по Балтийскому морю, а на встречу шел корабль, на палубе которого стояла сама Долли. Решительный капитан тут же принял на борт графиню, а вскоре они обвенчались. Николай II хотел было наказть капитана за такой поступок, но узнав, кто пленил сердце моряка, лишь рассмеялся: "Они так довольно наказан!" Второе замужество графини продлилось всего два года, после чего супруги разъехались.
Во время Первой мировой войны Дарья Евгеньевна оканчивает курсы сестер милосердия и на свои средства организует санитарный отряд, с которым отправляется на австрийский фронт в 1917 году. По ее собственным заверениям Февральскую революцию графиня встретила с восторгом и даже приказала поднять над лазаретом красный флаг, Но вскоре полный развал в армии вынуждает Долли уехать в Германию и принять там баварское подданство. Через год в самый разгар войны, в 1918 году Дарья Евгеньевна возвращается в Советскую Россию. Все, что случилось с нею после известно по косвенным свидетельствам и слухам. Как потом она сама утверждала, причиной возвращения была командировка по линии Красного Креста. В России Долли оказалась в очень сложных условиях: опять такие по ее собственным словам, ее, замерзавшую, чуть ли не на улице подобрал австрийский подданий, некий Маркизетти (или Маркезетти). Личность примечательная - в 1918 году он приехал в Москву для участия в переговорах по заключению Брестского мира, а позже учавствовал в комиссии по улучшению условий для австро-венгерских военопленных.
Маркизетти стал третьим мужем Дарьи Евгеньевны, хотя эти отношения не афишировались. Более того, Долли сменила имя и фамилию и превратилась в Дору Евгеньевну Лейхтенберг. Вместе с мужем она работала в библиотеке издательства "Всемирная литература", а когда в 1924 году издательство прекратило свое существование и библиотека влилась в Государственную Публичную библиотеку, супруги благодаря знанию иностарнных языков, продолжили свою работу уже в ней. В 1927 году Лейхтенберг принимает гражданство СССР. Жизнь Дарьи Евгеньевны в Советской России была весьма насыщенной. В особо тяжкое время она уезжала в Финляндию, где жила в доме Маннергейма. В России она хвасталась своим знакомством с Лениним и Троцким, а так же с другими видными большевиками. Причем утверждала, что встречалась с ними еще до революции за границей. Многие сотрудники в библиотеке считали, что Дора Лейхтенберг служит ОГПУ и побаивались ее. Но в тоже самое время о ней ходило множество анекдотов, потому что графиня ни на секунду не забывала, кто она по рождению.
В 1929 году во время очередных чисток началась проверка отдела библиотеки, которым руководил Маркизетти. Дору вызвали в комиссию, а затем и временно уволили. Работу в библиотеке она возобновила в 1931 году, но через 6 лет последовало новое увольнение и арест. Бывшую графиню обвиняли в том, что она является агентом разведывательного отдела австрийского генерального штаба. По обвинению в принадлежности к "монархической террористической организации и за связь со шпионско-террористической группой германских политических эмигрантов, созданной гестапо" комиссия НКВД приговорила в октябре 1937года Дору Лейхтенберг к высшей мере. Расстреляли и ее супруга Маркизетти, формально сделав его в 1937 году гражданином СССР. Реабилитировали Маркизетти в 1975 году посмертно, а саму Дарью Евгеньевну только в 1989.
В конце рассказа хочется привести три анекдота об этой женщине.
Как вспоминает одна из сотрудниц библиотеки издательства "Всемирная литература", Дора Лейхтенберг, величественная, статная дама в безукоризненном темном платье, с непередаваемой грацией разливала половником по тарелкам какую-то баланду для полуголодных сотрудников издательства.
Позже уже в публичной библиотеке: "Дама шествовала, останавливалась перед столами, протягивала благоклонно руку как бы для поцелуя ( которую никто не целовал).. в ее речах на всех пяти языках вперемежку сверкали как самоцветы в драгоценной оправе имена и бабушки Марии Николаевны,и дедушки Максимилиана Лейхтенбергского, и дяди Великого князя имярек"...
Когда в 1929 году Дору вызвали на комиссию, следователь спросил у нее, почему бывшая графиня вернулась в РСФСР, Дора отвечала, что ей посоветовал так поступить в письме один знакомый. "Кто же он?" - интересовался следователь. "Ленин, слышали наверное, о таком?"- Следователь, естественно, ухмылялся и требовал показать письмо, на что Дора Евгеньевна мило вытаскивала письмо Ленина из сумочки.
Пара слов о потомках Дарьи Евгеньевны. Ее дети от первого брака уехали
с отцом за границу после революции. Их потомки сейчас живут во Франции.
Источник: http://www.pushkin-book.ru/?id=233 (сведения о потомках)
Уитни Хьюстон
С того самого момента как Уитни Хьюстон впервые открыла рот, чтобы запеть, стало ясно, что она просто создана для вокала. Дочь Сиззи Хьюстон, довольно известной в своих кругах ритм-н- блюз певицей второго плана, юная Уитни выросла в музыкальной среде. Она была постоянной участницей церковного детского хора, мечтая работать "на подпевках", как и ее мать. Однако к тому времени, когда ей исполнилось одиннадцать лет, стало ясно, что прозябать "на подпевках" - это не то, что уготовлено ей судьбой. Когда однажды Уитни вышла на сцену, чтобы исполнить сольную партию, сила и выразительность ее пения заставила расплакаться многих прихожан. Несмотря на застенчивость, удачное сочетание ее исключительной природной красоты и необычайно приятное модулированное сопрано предопределили успех сольной карьеры Уитни.

Впервые Хьюстон начала выступать профессионально в качестве вокалистки
второго плана у Чака Хана и Лу Ролз. Одновременно Хьюстон работала моделью
в журналах для подростков, красуясь на обложках таких изданий, как "Seventeen"
и "Glamour". Она продолжала изучать танцы и актерское мастерство,
несколько раз появилась на телевидении и эпизодически принимала участие
в концертах. Но эти выступления были только первыми пробами сил перед
началом блестящей карьеры, предначертанной Уитни судьбой. Это понимала
и она сама и ее ближайшее окружение. Несколько недель спустя после того
как ее исполнилось восемнадцать, Хьюстон подписала контракт с известным
менеджером Джином Харви. Под его руководством Хьюстон продолжала карьеру
модели, увеличила количество занятий актерским мастерством и танцами и
усилила работу над голосом.
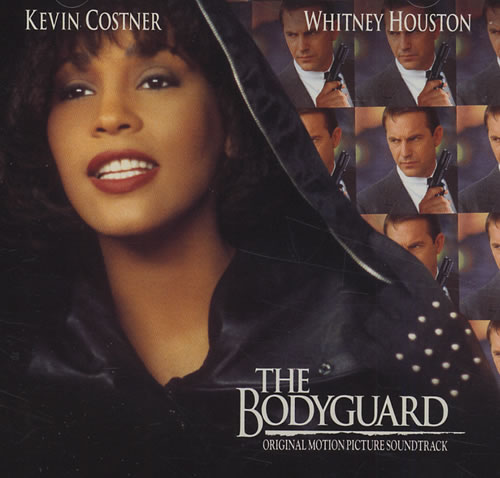
Спустя пару лет, которые были посвящены становлению ее вокального мастерства
и налаживанию контактов в музыкальном мире, Хьюстон уже была готова к
большой работе. В 1985 году она подписывает контракт со звукозаписывающей
компанией Arista Records. Президент этой фирмы Клайв Дэвис имел репутацию
человека, умеющего набраться терпения, отбирая лучший репертуар для своих
исполнителей, не говоря уже о том, что давал им достаточно времени для
совершенствования своего искусства. Два года прошло, прежде чем Уитни
выпустила свою первую LP(долгоиграющую пластинку). Она делала себе рекламу,
выступая перед боссами музыкального бизнеса, появлялась в телевизионных
шоу, помогала своим консультантам в подборе репертуара и, конечно же,
работала над голосом. Первый одноименный альбом Хьюстон дал сразу три
топ-сингла: "Saving All My Love for You", "How Will I Know"
и "The Greatest Love of All". Было продано 13 миллионов копий,
и Уитни установила рекорд по количеству продаж дебютного альбома для сольной
исполнительницы. (Он был побит в 1996 году Аланис Мориссет и ее альбомом
"Jagged Little Pill".) "Saving All My Love for You"
принесла Хьюстон ее первую премию Гремми (всего на данный момент их пять),
и следующие два года она провела в гастролях, поддерживая альбом.
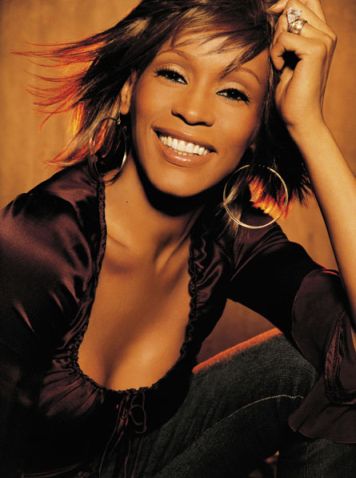
Еще больший успех ожидал ее следующий альбом "Whitney", выпущенный
в 1987 году. Он стал не только первым альбомом, записанным женщиной, который
поднялся до No1 в чартах, но Хьюстон, благодаря ему, стала первой в истории
исполнительницей, чьи песни заняли сразу семь верхних строчек в хит-парадах,
превзойдя этим прежний рекорд Beatles и Bee Gees. Уроки танцев и актерского
мастерства также принесли свои плоды, дав ей возможность создавать динамичные
клипы на MTV. Для продвижения "Whitney" Хьюстон снова отправилась
в тур, а в 1990 увидел свет "I’m Your Baby Tonight", более танцевальный,
технически совершенный альбом.

Тем временем, у Уитни стала накапливаться усталость. Пять лет непрерывных
гастролей начали давать о себе знать. Хьюстон решает взять отпуск и познакомиться,
наконец, со своим приобретением - 11-миллионной виллой в Нью-Джерси, а
также привести в порядок личную жизнь. После недолгих романов с Дж. Джексоном,
Эдди Мёрфи и Рендаллом Канингемом, Хьюстон всерьез увлекается ритм-н-блюз
исполнителем с дурной репутацией Бобби Брауном. В 1992 году в присутствии
восьмисот гостей состоялась их свадьба. Многие из присутствующих были
настроены скептически, но ничем помочь не могли. Браун к моменту бракосочетания
имел уже кое-какой багаж: троих внебрачных детей от двух женщин. Тем не
менее, несмотря на множество публичных скандалов чуть ли не с первого
дня свадьбы, Хьюстон продолжает любить своего мужа. Недавно она так высказалась
о нем: "Он настоящий мужчина. Он заботится обо мне. Мне теперь можно
ничего не бояться, потому что я знаю, он даст хорошего пинка любому ...
попробуйте только его задеть, и у вас будут проблемы."

Постоянные любовные похождения и хулиганские выходки Брауна, не говоря
уже о периодических конфликтах с законом, делают Хьюстон, в глазах некоторых
наблюдателей, достойной жалости и сочувствия. Другие же отмечают, что
и сама она - женщина, с которой достаточно сложно ужиться. За Уитни закрепилась
репутация капризной примадонны. Достаточно вспомнить неприятный эпизод,
когда Хьюстон явилась на два часа позже на званый ужин в Белом Доме в
честь Нельсона Манделы, сказав в свое оправдание только: "Ах, я только
что вернулась с гастролей," - хотя последний концерт был у нее четыре
дня назад.
С 1990 года Хьюстон удается постоянно поддерживать свою популярность,
хотя она значительно сократила количество публичных выступлений. Нельзя
сказать, что Уитни проводит время в праздности: постоянно преодолевая
трудности, преследующие ее в личной жизни, певица успела стать матерью,
произведя на свет девочку, которую назвали Кристина, и покорить мир кино.
Ее первая картина, "The Bodуguard", принесла создателям 400
миллионов долларов и самый удачный саундтрек, который когда-либо выпускался.
Количество проданных копий достигло 33 миллионов, во во многом благодаря
необычной интерпретации Хьюстон классической темы Долли Партон "I
Will Always Love You". В 1995 певица продолжила свое знакомство с
кино, снявшись в драме "Waiting To Exhale", ленте о преуспевающей
чернокожей женщине, ищущей себе спутника жизни. Третьим и пока последним
фильмом с участием Хьюстон стал "The Preacher’s Wife". Эта картина
не стала кассовым чемпионом, но саундтрек к ней продемонстрировал, что
у поп-дивы не утрачена еще связь со своими корнями, которые покоятся глубоко
в музыке "госпел".
Хьюстон вносит большой вклад в благотворительное движение, участвует в
разных фондах и организациях. Певица учредила также свой собственный детский
фонд Whitney Houston Foundation for Children, некоммерческую организацию,
чья деятельность заключается в помощи бездомным детям и детям, больным
раком или СПИДом.
Источник: http://rubtsov.penza.com.ru/peoples/index.htm
Людивин Санье
"Посмотрите! - восклицает Людивин Санье. - это же безумие!"
Очаровательная французская актриса стоит посреди своего номера люкс в
лос-анджелесском отеле Four Seasons. В руках у нее - банка с арахисовым
маслом. Но это не просто банка с маслом - это продукция с символикой из
фильма "Питер Пэн".
Усмехаясь, как девчонка, 24-летняя актриса тычет пальцем в одну из фигурок, изображенных на банке. Совершенно верно - это она сама в роли феи Колокольчик! "Это просто невероятно!" - говорит Санье, сверкая голубыми глазами. Возможно, не все еще знают ее по имени, однако очень многие наверняка запомнили ее лицо (и обнаженную фигуру). В прошлом году очаровательная француженка завоевала признание во всем мире, сыграв сладострастную Жюли в хите-сюрпризе Франсуа Озона "Бассейн". А после этой сексуально вызывающей роли актриса сделала крутой поворот и снялась в сказке "Питер Пэн", которая вышла в США на Рождество. Постановщик "Питера Пэна" П. Дж. Хоган пригласил Санье вовсе не потому, что она стала звездой "Бассейна". Более того, "Бассейн" еще не вышел на экраны, когда Хоган осыпал Санье волшебными золотыми блестками.

"Насколько мне известно, - рассказывает Санье на беглом английском, - Хоган проводил в Лондоне кинопробы, так как именно там рассчитывал найти всех своих героев. По телевизору показывали фильм "Капли дождя на раскаленных скалах", в котором я снималась четыре года назад. Он увидел меня в этой картине и сказал: "А может быть, она станет нашей феей Колокольчик? " Я поехала в Лондон и сделала пробу. В те дни я снималась в "Бассейне". Пробы на роль сказочного персонажа была приятным разнообразием - ведь в "Бассейне" я играла девушку с изломанной жизнью. Мне захотелось ненадолго переключиться на другой регистр и сыграть по-клоунски. Наверное, получилось хорошо. Через неделю мне сообщили, что меня берут".
Новая версия "Питера Пэна", поставленная Хоганом, - крупнобюджетная феерия со множеством спецэффектов. По духу фильм гораздо ближе к первоисточнику, книге Дж. М. Барри, чем предыдущие киноверсии. Юная Уэнди (Рэйчел Херд-Вуд) совершает побег в волшебную страну Нетландию вместе с Питером Пэном (Джереми Самптер), мальчиком, который отказывается взрослеть. Они попадают в головокружительные приключения и встречаются с Потерянными мальчиками, зловещим капитаном Крюком и феей Колокольчик. Фея мгновенно проникается нежными чувствами к Питеру Пэну, однако, когда она замечает, что Питер испытывает симпатию к Уэнди, в ней пробуждается ревность. Фея причиняет подружке Питера множество неприятностей, не произнося при этом ни слова. (В книге Дж. М. Барри фея Колокольчик тоже все время молчит.)

"Готовясь к этой роли, - говорит Санье, - я смотрела старые фильмы с участием Бастера Китона и Чарли Чаплина. Роль феи Колокольчик позволила мне попробовать себя в пластическом искусстве, а такой шанс крайне редко предоставляется современному актеру. Во время съемок мне пришлось искать в себе дополнительные ресурсы, потому что в моем распоряжении были только жесты и мимика". Санье разыгрывает на экране настоящую клоунаду. Ее фея Колокольчик врывается на экран как мини-ураган, мгновенно завоевывая внимание зрителей своей удивительной эмоциональностью, которая ощущается в каждом ее жесте, взгляде, выражении лица:
"Я заходила очень далеко, мне казалось, что еще чуть-чуть - и меня выгонят со съемочной площадки, - рассказывает она. - Но режиссер все время говорил, что я недостаточно эмоциональна. Хоган умеет выжимать из актеров все, на что они способны. Он не знает слова "хватит". Он всегда говорит: "Давай еще раз, посильнее". "Еще раз, эмоциональнее". "Еще раз, более оживленно". С каждым разом я накалялась сильнее и сильнее, играла все более и более яростно и раскованно. Думаю, что Хоган намеренно подталкивал меня к клоунаде, хотя он ни разу не потребовал от меня чего-то конкретного". Санье приступила к съемкам в "Питере Пэне" ровно через две недели после завершения работы на съемочной площадке "Бассейна". Она говорит, что была безумно счастлива сменить обстановку, потому что играть Жюли было невероятно трудно и мучительно. "Я рада, что "Питер Пэн" снимался в Австралии, - говорит Санье. - Я и впрямь чувствовала, что переселилась на вторую звездочку слева. До Австралии - 25 часов полета. Поэтому для меня это действительно стало путешествием - как географическим, так и эмоциональным. Если бы мы снимали "Питера Пэна" в Париже, то, возможно, Жюли по-прежнему преследовала бы меня. Но в Австралии я быстро о ней забыла".
Но забудут ли ее зрители? И смогут ли они отделить актрису от ее обольстительной героини в "Бассейне" и оценить актерский диапазон Санье, увидев ее клоунские выходки в "Питере Пэне"? Впрочем, зрители, которые до сих пор видели Санье только в "Бассейне" и воспринимают ее как очередную сексапильную "роковую красотку", наверняка удивятся, когда узнают, что она уже 16 лет снимается в кино и что за ее плечами более 30 французских фильмов. В 2000 году она получила приз Французской киноакадемии "Сезар" в категории "Актриса-надежда" за фильм "8 женщин", где ее партнершами были такие знаменитости, как Фанни Ардан, Катрин Денев и Эммануэль Беар. "Когда я участвовала в рекламной кампании "Бассейна", - говорит Санье, - меня все время спрашивали, как я отношусь к своей сексуальности и каково сниматься обнаженной. Мне же все время хотелось крикнуть: "Дождитесь выхода "Питера Пэна"! Посмотрим, захочется ли вам после этого спрашивать меня о сексе! "Думаю, что после этого фильма никто не будет называть меня секс-кошечкой".

Людивин Санье (чье имя переводится с французского как "божественный свет") родилась 3 июля 1979 года; в кино она снимается с 8 лет. Санье говорит, что в детстве она относилась к кино как к хобби, поскольку "ничего не умела делать - только кривляться". "Я не хотела заниматься музыкой, или йогой, или еще чем-то, - говорит она. - Мне нравилось ходить в театр и кино, смотреть на актеров. Но постепенно я поняла, что должна играть, чтобы сохранить душевное равновесие". Санье начала заниматься на театральных курсах с 6 лет: ходила за компанию со старшей сестрой. В восьмилетнем возрасте она получила первую роль в кино.
"Наш преподаватель отправил сестру на кастинг, и я пошла вместе с ней, потому что дома меня не с кем было оставить. Я сидела в коридоре и скучала. Ко мне подошла какая-то женщина и предложила сделать пробы". Так Санье получила роль в фильме "Мужья, жены, любовники" (Les maris, les femmes, les amants, 1989). Первую работу она восприняла как приключение. "Я словно попала в сказку. Я была заворожена жизнью актеров и членов съемочной группы. Все это было совершенно не похоже на ту жизнь, которую я знала. Моя семья всегда была очень стабильной, а наша жизнь - упорядоченной и спокойной. Я даже не была уверена, что хочу снова попасть на съемки". Год спустя 9-летняя Людивин Санье снялась во время летних каникул в фильме "Сирано" (1990), где ее партнером стал знаменитый Жерар Депардье.
"Я помню не столько его, сколько обстановку на съемках, - говорит Санье. - Барьеры, которыми отгораживали съемочную площадку от толп народа, собравшихся поглазеть на кинозвезду. В те дни я испытала чувство гордости оттого, что тоже нахожусь в пространстве, защищенном этими барьерами. Помню, что мне было совершенно не страшно. Я учила текст перед самой съемкой и сразу же забывала его, как только работа заканчивалась. У меня по-прежнему не было чувства, что я работаю". После "Сирано" Санье получила роль в телесериале "Семья Фонтен" (1992). Потом ее пригласили поработать на дубляже. Она отдублировала роли в фильмах "Моя девочка" и "Леон" и решила, что кино - это неинтересно. "Мне не нравилось сидеть и ждать, когда меня позовут сниматься, - говорит она. - Меня раздражала эта зависимость от чужих решений. В моей жизни начался период увлечения мальчиками, и мне было гораздо интереснее развлекаться с друзьями на вечеринках, чем сниматься в кино".
К 15 годам она настолько отошла от шоу-бизнеса, что отказалась сниматься в ситкоме (для этого Людивин пришлось бы пропустить год в школе), хотя ей предложили гонорар 700 тысяч франков. "Но все равно мне ужасно польстило такое предложение! - смеется она. - После этого я записалась в консерваторию в Версале!" Но и после того как она прошла класс актерского мастерства в консерватории, Санье не считала, что должна стать профессиональной актрисой. Окончив школу, она поступила в Сорбонну на филологическое отделение: и уже в университете приняла участие в студенческой постановке пьесы "Игры любви и случая".
"Вот тогда-то я и поняла, что должна быть актрисой! " - говорит она. Вскоре она опять начала сниматься. Любопытно, что первыми ее заметными ролями стали исторические персонажи: в фильме "Рембрандт" (1999) она сыграла жену великого художника, в ленте "Дети века" (1999) - Эрмину Де Мюссе. В том же году она познакомилась с Франсуа Озоном. "Я снялась в короткометражке "Живая кислота" (Acide anime), а ее показывали на одном сеансе с фильмом "Х2000", который поставил Франсуа, - рассказывает Санье. - Он присутствовал на просмотре и на следующий день позвонил мне и предложил попробоваться в его картину "Капли дождя на раскаленных скалах". Озон сразу же сказал ей, что в его фильме придется раздеваться. "Я ответила, что для меня это не проблема, - вспоминает Санье. - К тому времени я еще не видела "Крысятника", но "Х2000" уже посмотрела, и этот фильм поразил меня своей оригинальностью. Я сказала Франсуа, что его взгляд на эротику кажется мне очень забавным. С этого момента мы начали понимать друг друга".
По словам Санье, впервые оказавшись на съемочной площадке Озона, она охотно подчинялась всем его указаниям и чувствовала себя "почти такой же, как героиня фильма, - пассивной, поддающейся манипуляциям и не переживающей по этому поводу". "Я покорно шла за Франсуа, который заставлял меня смотреть фильмы Фассбиндера, - рассказывает она. - На его съемочной площадке царила дисциплина, с которой я сталкивалась только в театре, и это придавало мне уверенности. Он снимал в хронологическом порядке и уделял актерам невероятно много внимания. До сих пор я еще ни разу не видела режиссера, который так глубоко прорабатывал бы с актерами их роли. Озон заставлял меня анализировать мои мысли и желания, смотреть старые киношедевры, а потом говорить о них". После "Капель дождя:" Санье встречалась с Озоном по поводу небольшой роли в его следующем фильме "Под песком", но он предпочел взять другую актрису. Потом он прислал ей сценарий "8 женщин":
"Мне очень понравилась Катрин, которую мне предложил сыграть Франсуа, - настолько понравилась, что я сразу же на всякий случай начала брать уроки пения. Я сильно сомневалась, что ему удастся собрать тот актерский состав, который он наметил, но Франсуа сумел заинтересовать всех, кто ему нравился. К этому времени я считала, что роль у меня в кармане. Мы пошли на пробы с моей подругой Жюли Депардье: и у нас что-то не заладилось. Мы кошмарно провалили пробу! На следующий день Франсуа позвонил мне, извинился и сказал, что берет другую актрису". Но судьба распорядилась так, что роль Катрин все-таки сыграла Санье. Актриса Ваина Джиоканте, которую взял Озон, забеременела и не смогла сниматься. "За десять дней до начала съемок Франсуа позвонил мне и сказал, что у него большие проблемы.
Поскольку между нами были дружеские отношения, я решила, что он просто хочет поплакаться мне в жилетку, хотя мне было обидно, что он сыплет мне соль на раны. Но он сказал, что я могла бы его выручить, и попросил прийти в студию звукозаписи. Через три дня я исполнила перед микрофоном песенку, которую пою в фильме. Самое смешное, что я понятия не имела, что прохожу пробу!" Наутро Озон позвонил ей и сказал, что она будет сниматься. Таким образом, у Санье была ровно неделя, чтобы позаниматься с хореографом и выучить танцевальные номера. "Я пришла на съемки в состоянии шока, мне было страшно при мысли о моих знаменитых партнершах. В первый съемочный день Франсуа снимал сцену, в которой я пою и танцую в пижаме.
Я сознавала, что на меня смотрят семь кинозвезд. Но они очень хорошо меня приняли, смеялись и аплодировали. С первого же дня я почувствовала, что меня приняли в общую компанию". Все исполнительницы в "Восьми женщинах" были отмечены несколькими общими призами - в частности, разделили премию "Лучшая актриса" Европейской киноакадемии и приз за лучший актерский ансамбль на Берлинском кинофестивале. После огромного успеха "8 женщин" Санье предпочла сняться в небольшой роли в камерном фильме "Маленькие раны" (Petites coupures), затем перешла на съемочную площадку ленты "Маленькая Лили" (La petite Lili) - осовремененной версии чеховской "Чайки". В течение 2002-го и в первой половине 2003 года Санье работала практически без перерывов, а закончив съемки в "Питере Пэне", взяла большой отпуск до конца 2003 года. В настоящее время в ее планах нет ни одного кинопроекта, но она не исключает возможности и далее идти по комедийной стезе после того, как ее роль в "Питере Пэне" увидят в Голливуде.
"Мне нравится говорить по-английски, нравится играть на английском, - говорит она. - В Америке снимается значительно больше фильмов, чем в Европе, здесь гораздо больше шансов напасть на интересную роль. Иногда мне кажется, что я смогла чего-то добиться только потому, что не боялась говорить "нет". Я хотела сниматься только в тех фильмах, которые по-настоящему меня волновали. Думаю, я поступлю правильно, если буду точно так же вести себя и в Голливуде. Я не хочу попасть в ловушку, в которую попадают многие актрисы. Я буду сниматься только в том случае, если мне действительно понравится роль".
Источник: http://www.kinoodessa.com/persona/ludivine_sagnier.html
Хелена Рубинштейн
|
 |
В Лондоне она познакомилась с американским журналистом Эдвардом Титусом, а в 1908 году вышла за него замуж. У них было два сына. Рой родился в 1908 году, а Хорас в 1912 году. Они жили в Париже, а когда началась Первая мировая война, они переехали в Соединенные Штаты. Хелена открыла салоны красоты по всей стране, там, где были востребованы ее крема и методика ухода за кожей. Рубинштейн была блестящим новатором в развитии своего бизнеса. Она создала специальную диету красоты и обучала продавцов учить женщин, как правильно ухаживать за кожей. По ее инициативе в салонах стали проходить "Дни красоты", которые всегда пользовались большим успехом. Она понимала ценность рекламы и активно использовала ее в развитии своего бизнеса. В 1937 году после десяти лет замужества она развелась с мужем, а в 1938 году вышла замуж за грузинского князя Артчила Гуриэли-Тчкония, который был моложе ее на двадцать лет. Она разработала линию мужской косметики, которая носила его имя. В 1956 году Гуриэли умер, а два года спустя умер ее сын Хорас.
Хелену Рубинштейн всегда интересовала и волновала судьба Израиля. Она щедро жертвовала средства в пользу Израиля. В Тель-Авиве она открыла Павильон современного искусства Хелены Рубинштейн, где была помещена ее коллекция миниатюрных комнат. Фонд Хелены Рубинштейн, созданный в 1953 году, обеспечивал необходимыми средствами организации, занимающиеся проблемами здоровья и медицинскими исследованиями. Фонд также поддерживал Американо-израильский культурный фонд, и награждал стипенидями израильтян. Рубинштейн ненавидела светские беседы и была очень экономной. Она всегда брала с собой на работу пакет с завтраком, хотя была очень богатой женщиной, состояние которой составляло миллионы долларов. Несмотря на бережливость, она покупала одежду у самых известных дизайнеров. Руководящие должности в ее бизнесе занимали ее родственники: семья для Хелены имела очень большое значение.
В 1959 году она поехала в Москву, где официально представляла косметическую промышленность Соединенных Штатов на Американской национальной выставке. Хелена Рубинштейн всегда активно занималалсь делами своей организации, и даже когда здоровье стало подводить ее, она продолжала работать. Она умерла в Нью-Йорке 1 апреля 1965 года. Ее благотворительность, материальная поддержка Израиля и забота о женщинах еще надолго сохранятся в нашей памяти.
Источник: Jewishpeople.net, Sem40.Ru
Перевод Светланы Шкуратовой
Аманда Байнс
Аманда Лаура Байнс [Amanda Laura Bynes] родилась 3 Апреля 1986 года в Thousand Oaks, штат Калифорния. Отец Аманды, зубной врач Рик Байнс, - большой поклонник сцены, особенно комедийных спектаклей. Он всячески поощрял Аманду и остальных своих детей в их увлечении театром. Аманде было всего семь лет, когда она впервые вышла на сцену лос-анджелесского комедийного клуба Comedy Store. Одновременно она участвовала в постановках местного любительского театра, где играла в пьесах «Убить пересмешника», «Музыкальный человек» и «Таинственный сад». К 10 годам Аманда регулярно выступала на сцене с юморесками. Её дебют на экране состоялся в 1996 году в телесериале "Всякая Всячина" [All That]. Критики сравнивали Байнс с комедийными легендами Люсиль Болл и Трейси Уллман.
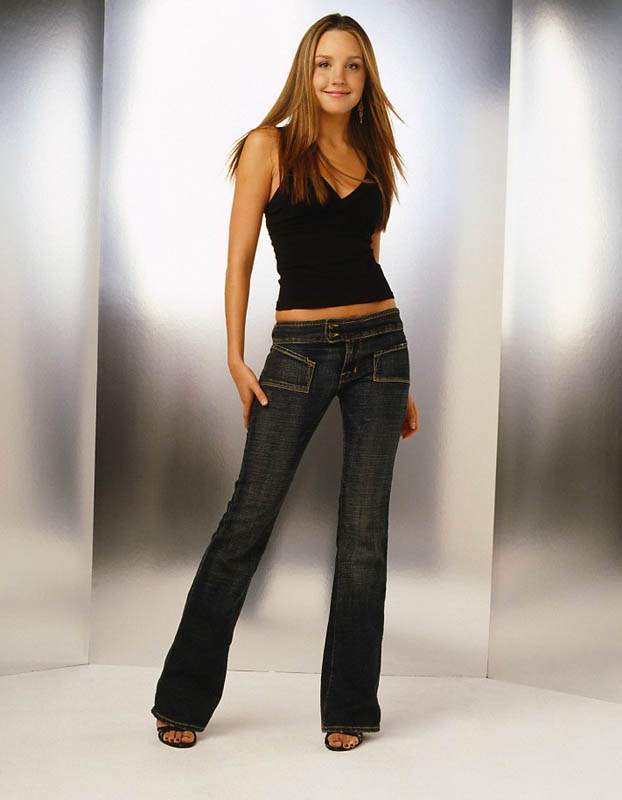
В 1999 тринадцатилетняя Аманда стала ведущим своего собственного шоу "Шоу
Аманды" [The Amanda Show]. На протяжении четырех лет сольный телевизионный
проект Байнс оставался одним из самых популярных на канале Nickelodeon,
а Байнс четыре раза становилась лауреатом детской премии Kids' Choice
в категории «Любимая телевизионная актриса». Секрет ее успеха, считают
коллеги Аманды, состоит в том, что она не боится смеяться над собой.
"Аманда не стесняется клоунады, - говорит 34-летняя Лесли Гроссман,
ее партнерша по сериалу «Что мне в тебе нравится». - У нее очень привлекательная
внешность, но если потребуется, она без колебаний согласится выглядеть
странной и некрасивой. Быть смешной для нее важнее всего». В 2002 году
состоялся дебют Байнс в большом кино. Продюсер Дэн Шнайдер, создатель
многих популярных шоу на канале Nickelodeon, выпустил фильм "Большой
Толстый Лжец" [Big Fat Liar], который принес Байнс еще одну премию
Kids' Choice - на сей раз в категории «Любимая киноактриса». В том же,
2002 году она начала сниматься на телеканале TheWB в сериале «Что мне
в тебе нравится» [What I Like About You], который пользовался большим
успехом на протяжении четырех сезонов.

Особое признание европейского зрителя и очередную премию Kids' Choice
на родине актриса получила за роль Дафны Рейнолдс в фильме «Чего хочет
девушка» [What a Girl Wants] (2003). Это экранизация истории о том, как
непосредственная American Girl отправляется в Англию на поиски своего
отца - лорда (Колин Ферт). Неожиданное появление дочери меняет не только
политическую карьеру озадаченого папаши, но и привносит эффект «свежего
ветра» в чопорный мир высшего английского общества.

Следующими фильмами Аманды стали "Любовь На Острове" [Lovewrecked]
(2005)- еще одна комедия. Байнс играет романтичную Дженни, влюбленную
в рок-певца Джейсона (Крис Кармак). Летом девушка нанимается работать
на тропическом курорте, и - о чудо! - туда приезжает ее кумир. Во время
круиза оба падают за борт судна, и только находчивость Дженни спасает
Джейсона. Вдвоем они добираются до необитаемого острова - настоящего тропического
рая, - где Дженни пользуется ситуацией, чтобы завоевать сердце парня.
Но вскоре девушка выясняет, что на самом деле их выбросило на берег в
двух шагах от курорта, где она работает! Дженни скрывает эту новость от
Джейсона, чтобы побыть с ним наедине, но вскоре об этом узнает ее соперница
Алексис. Вместо того чтобы разоблачить Дженни, Алексис притворяется, что
тоже попала на остров в результате несчастного случая, и намеревается
обольстить Джейсона... Постановщик «Любви на острове» Рэндал Клейзер как
никто другой подходит для подобного проекта. В его обширном резюме не
только знаменитый молодежный мюзикл «Бриолин»/Grease (1978), но и прославленная
робинзонада «Голубая лагуна»/The Blue Lagoon (1980). «Мы снимали неподалеку
от городка Пуэрто-Плата в Доминиканской Республике, в природных парках
и заповедниках, - вспоминает Байнс. - Там удивительно красивые места».
"Она-Мужчина" (2006), "Лак Для Волос" (2007) и "Сидни
Уайт" [Sydney White].

Сейчас она является одной из самых талантливых комедийных актрис, но не
собирается зацикливаться на одних комедиях и в ближайшее время рассчитывает
попробовать свои силы в драматических ролях. «К сожалению, у меня репутация
комедиантки, - вздыхает она. - Продюсерам трудно представить меня в амплуа
серьезной героини. Но я не теряю надежды...»
Мелочи:
-Водит автомобили Honda Accord и Lexus SC430;
-Любимый предмет в школе - Английский;
-У неё живут две собаки: Tootsie Roll (golden labrador) и Betty Boop (Australian shepherd); три кошки: Subbie, Dubbie и Tiger; и рыбка по имени Bella;
-В 7 лет снялась в своем первом рекламном ролике для компании Nestle;
-Любимый напиток - Кола;
-Любит розы;
-Носит контактные линзы.
Источник: http://amandalaurabynes.narod.ru/Biografia.html
Глория Эстефан
Широко известная как "Королева латиноамериканской поп-музыки"
Глория Эстефан продав около 45 миллионов копий своих
записей, стала самой успешной исполнительной певицей за всю историю латиноамериканской
музыки. Глория Эстефан родилась в столице Кубы Гаване в семье Хосе Мануэля
Фаджардо (General Fulgencio Batista), кубинского солдата из подразделения,
охраняющего семью президента Кубы генерала Батисты.
В 1959 году, когда власть в стране захватил Фидель Кастро, семья Фаджардо
вместе с другими многочисленными противниками коммунистического режима
перебралась в Соединенные Штаты, где их поместили в кубинское гетто в
Майами, Флорида (Глории в то время исполнился 1 год). Отца Глории забрали
в бригаду C.I.A., куда входило 13 сотен кубинских беженцев. После участия
в безуспешном сражении в заливе Пигз в 1961 году Фаджардо попал в кубинскую
тюрьму, где отсидел 1,5 года. После освобождения он попал в армию США
и прослужил 2 года во Вьетнаме. Вскоре после возвращения ему поставили
диагноз "множественный склероз", заболевание, которое он, возможно,
получил во время службы в Agent Orange. Глории пришлось ухаживать за отцом,
так как здоровье его все ухудшалось, и приглядывать за сестрой, в то время,
как их мать работала и училась в вечерней школе. Понятно, что у Глории
было совсем мало времени на общение, поэтому, она находила утешение и
выход своим эмоциям в пении и игру на гитаре.
 |
 |
Мечтая о профессии психолога, Глория в 1975 году поступила в Университет Майами, и даже добилась небольшой стипендии. Серьезная молодая девушка, она абсолютно не стремилась быть на виду, но все-таки стала членом местного кубино-американского квартета "Miami Latin Boys", выступая как аккомпаниатор и изредка солируя. Полноватая, ничем не примечательная внешне и крайне стеснительная обладательница прекрасного сопрано привлекла внимание холеного и самоуверенного руководителя и клавишника группы Эмилио Эстефана. По мере того, как росли уверенность и, так называемая, сценическая харизма, Глория стала выступать все чаще и постепенно заняла прочное место в группе. В репертуар квартета вошло несколько ее песен и баллад. Через полтора года после ее вхождения в группу, они уже под новым названием "Miami Sound Machine" приступили к студийной записи - первые два альбома вышли под торговой маркой местной студии, а следующие два - под их собственной. Эта группа стала своего рода романтической легендой, когда в 1978 Глория и Эстефан поженились.
 |
 |
Между 1981 и 1983 годами группа "Miami Sound Machine" записала для Discos CBS International, испанского отделения студии CBS Records, 4 альбома на испанском языке (Renacer, Otra Vez, Rio, A Toda M?quina). Туда вошли баллады, самбы, диско и поп песни. Выход этих альбомов вызвал массу подражателей в Центральной и Южной Америке, но для Северной Америки они оставались иностранцами. В 1984 году группа добилась первого международного успеха: на английском языке вышел B-side, "Dr. Beat", сингл, занявший 10 место в американских чартах танцевальной музыки. В результате CBS предоставила группе возможность записываться в своей музыкальной студии Epic Records. Первым альбомом, записанным на Epic, стал "Eyes of Innocence"(1984), бурной реакции он не вызвал, но проложил путь для их второго, уже полностью англоязычного альбома "Primitive Love" (1985) и сингла "Conga" (среди других хитов, вошедших десятку, были "Bad Boy" и "Words Get in the Way"). "Conga" стал первым синглом, вошедшим в десятку Billboard одновременно в разделах поп, танцевальной, афро- и латиноамериканской музыки. Альбом в 1986 году завоевал для "Miami Sound Machine" две награды American Music Awards: одну - в номинации Лучший дебютант года (Best New Pop Artists) и вторую Лучшие поп хиты года (Top Pop Singles Artists). В 1988 году около 119,000 человек попали в Книгу Рекордов Гиннесса, одновременно отбивая ритмы хита "Conga".
 |
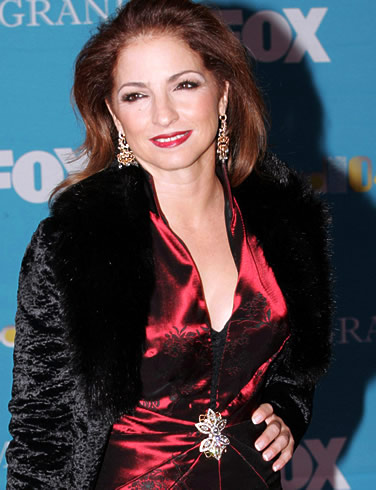 |
Группа Miami Sound Machine активно гастролировала и вскоре стала ведущей американской группой. Становилось все более очевидным, что звезда Глории Эстефан сияет уже независимо от группы, и так как первоначальный ее состав неоднократно менялся, то группа сначала поменяла название на Gloria Estefan and the Miami Sound Machine, а в конце концов стала называться просто Gloria Estefan. Свой первый сольный альбом "Cuts Both Ways" Глория Эстефан выпустила в 1989 году. Эстефан снискала огромную популярность по обе стороны границы, сочиняя и исполняя печальные и эмоциональные баллады: "Can't Stay Away From You," "Anything for You" и "Don't Wanna Lose You", из которых две последние занимали первые места в хит-парадах США. Тот факт, что она оставалась преданной обеим граням своего двойного культурного наследия, принес ей огромное признание, особенно в среди кубинцев Майами, где она ее стали любовно называть наша маленькая Глория ("nuestra Glorita").
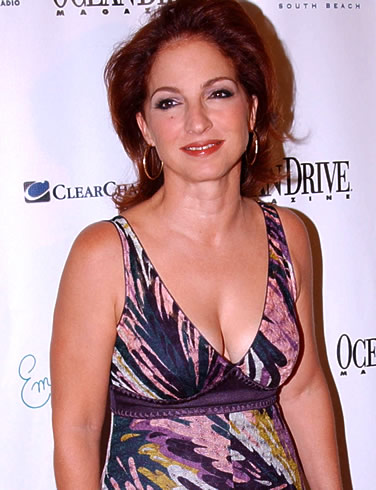 |
 |
Во время турне 1990 года Эстефан чуть не погибла в автомобильной катастрофе, когда огромный трейлер столкнулся с их автобусом. У нее произошло смещение позвонка, пришлось перенести 4-х часовую операцию по имплантации двух восьмидюймовых титановых прутов для выправления позвоночника. Несмотря на неутешительные прогнозы, Глория совершила невероятное возвращение на сцену. Помогли ей в этом год физиотерапии, удивительная сила воли и колоссальная поддержка поклонников: ей было прислано 4 000 букетов, 11 000 телеграмм и 50 000 открыток и телеграмм. В следующем году Эстефан отметила свое возвращение выпуском альбома "Into the Light", с рекламным турне которого объехала за год 29 стран. Сингл "Coming Out of the Dark" из этого альбома вышел в чартах на первое место. Неудивительно, что ее альбом "Greatest Hits" 1992 года стал платиновым; в 1993 году она получила почетную степень доктора музыки Университета Майами; в Музее мадам Тюссо изготовили ее восковую фигуру; в Голливуде на Дороге Славы выложили в честь нее звезду; за альбом "Mi Tierra" она получила награду Грэмми в номинации Лучший Латиноамериканский Альбом (Best Tropical Latin Album). В 1995 году латиноамериканская дива с альбомом "Abriendo Puertas" повторила свой успех. Тот факт, что творчество Эстефан на границе двух культур, нашел отражение в событии, когда миллион или около того подпевали Глории на церемонии закрытия Олимпийских Игр. Она исполняла официальный Олимпийский гимн "Reach" из ее альбома "Destiny" (1996)
