-
Наталья Касаткина
-

-
Труппа театра
-
Перелом в развитии всей художественной культуры коснулся и хореографии. Он определился на рубеже 1950—1960-х годов, прежде всего в постановках Ю. Н. Григоровича и И. Д. Бельского, нашедших новые пути в развитии балета и оказавших влияние на всё поколение деятелей хореографии. Но Ю. Н. Григорович и И. Д. Бельский творили в Петербурге, хотя их ошеломляющие новации отзывались по всей стране. Ю.Н. Григорович переехал в Москву и пришёл в Большой театр несколько позже, определив до конца века его творческое лицо. В Москве же первыми молодыми балетмейстерами новой волны стали Н. Д. Касаткина и В. Ю. Василёв. Их спектакли «Ванина Ванини» (1962) и «Героическая поэма» (1964) с музыкой Н. Н. Каретникова, «Весна священная» И. Ф. Стравинского (1965) и несколько позднее поставленный в Петербурге спектакль «Сотворение мира» А. П. Петрова (1971) влились в общий процесс обновления отечественного искусства и сыграли в нём заметную роль.
-
Н. Д. Касаткина и В. Ю. Василёв первые в нашей стране (после небольших, впоследствии прерванных опытов хореографов 1920-х годов) стали ставить спектакли на авангардистскую музыку. Они сотрудничали с молодым композитором Н. Н. Каретниковым, шедшим по пути авангардистского творчества. Это было ново, не все принимали в то время такую музыку в балете. Сейчас это стало совершенно обычным, но тогда было неожиданным и свежим, намечая новые пути в балете, стимулируя поиски в области хореографического языка и форм.
Народные артисты России Наталья Дмитриевна Касаткина (р. 1934) и Владимир Юдич Василёв (р. 1931) оба окончили Московское хореографическое училище, оба свыше двадцати лет работали в Большом театре, где исполняли характерные (Н. Д. Касаткина также и классические) партии, оба в начале 1960-х годов начали балетмейстерскую деятельность, а с 1977 года возглавляют балетный театр, который ныне называется «Государственный академический театр классического балета».
Характеризуя их деятельность, необходимо к целому ряду их начинаний
применить слово «впервые». Они были первыми во многом, что происходило
в художественной жизни нашего балета во второй половине XX века.
Известно, что на рубеже 1950—1960-х годов во всех видах отечественного
искусства — литературе, театре, кино, музыке, изобразительном творчестве
— произошёл коренной перелом. Вступило в жизнь новое талантливое поколение,
впоследствии получившее название «шестидесятников». Это поколение преодолело
идеологические догмы и художественный застой предшествующего периода,
расширило духовные и образные горизонты художественного творчества и
определило главные достижения отечественного искусства второй половины
истекшего столетия.
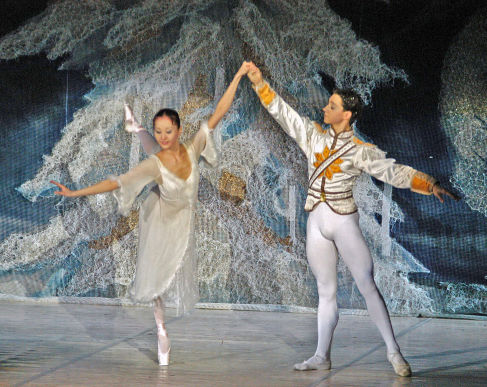
Сцена из спектакля. В главной роли народная артистка России Екатерина Березина
-
Н. Д. Касаткина и В. Ю. Василёв первые поставили в нашей стране эпохальный балет И. Ф. Стравинского «Весна священная». Он был создан в 1913 году и показан в Париже в «русских сезонах» С. П. Дягилева с хореографией В. Ф. Нижинского. Потом неоднократно ставился за рубежом. Сейчас его можно увидеть на многих сценах и у нас. Но первые обратились к нему в нашей стране Н. Д. Касаткина и В. Ю. Василёв. Это было достаточно смело, ибо И. Ф. Стравинский тогда был у нас ещё полузапрещённым композитором как эмигрант и модернист, а музыку его, новаторскую и очень сложную, многие не принимали. Но Н. Д. Касаткина и В. Ю. Василёв поняли её глубоко и адекватно, создав замечательный спектакль, который до сих пор идёт на сцене их театра.
-
Н. Д. Касаткина и В. Ю. Василёв первые в нашей стране создали свой балетный театр, который можно назвать авторским и экспериментальным. То есть это их личный (в творческом смысле) театр, возникший в качестве параллели и дополнения к ведущим театрам столицы. Сейчас свои балетные труппы есть у В. М. Гордеева, Г. Л. Таранды, С. Н. Радченко, существует камерный балет «Москва», есть несколько ансамблей народного танца и модерн-танца. Но первым авторским и экспериментальным балетным коллективом стал именно театр Н. Д. Касаткиной и В. Ю. Василёва. В 1977 году они возглавили концертный ансамбль, созданный в 1966 году (им руководили сначала И. А. Моисеев, затем Ю. Т. Жданов), и превратили его в балетный театр. Основой репертуара теперь стали не концертные номера и хореографические миниатюры, а полноценные большие спектакли. Театр Н. Д. Касаткиной и В. Ю. Василёва завоевал популярность на родине и с неизменным успехом гастролирует во многих странах мира.
-
Н. Д. Касаткина и В. Ю. Василёв первые в нашей стране привлекли для реставрации старинного спектакля известного зарубежного хореографа Пьера Лакотта, который специализировался на восстановлении утраченного классического наследия. Сейчас Пьер Лакотт реставрировал ряд исчезнувших балетов за рубежом, а у нас — в Большом («Дочь Фараона») и в Мариинском («Ундина») театрах. Но первые призвали его для этой цели в нашу страну Н. Д. Касаткина и В. Ю. Василёв, поставив в 1980 году в его реставрации старинный балет «Натали, или швейцарская молочница» композитора А. Гировеца, созданный в 1821 году основоположником романтического балета Филиппом Тальони. Ныне реставрации вошли в моду, но для начала этого дела нужна была творческая инициатива, всегда свойственная этим балетмейстерам.
-
Наконец, Н. Д. Касаткина и В. Ю. Василёв первые в нашей стране стали экспериментировать в сложных и необычных музыкально-хореографических жанрах, поставив в 1986 году вокально-хореографическую симфонию «Пушкин. Размышление о поэте» А. П. Петрова — композитора, с которым в течение долгих лет их связывала творческая дружба. Они воплотили на сцене как его балеты, так и оперу «Пётр I», проявив талант не только хореографов, но и режиссеров. Представление же о Пушкине — сложный синтетический жанр, объединяющий драматическое действие, симфоническую музыку, вокал и хореографию.
Уже из одного перечисления хореографических явлений, где содружество этих балетмейстеров характеризуется словом «впервые», видны присущие им творческая инициативность, стремление к художественному поиску, нахождению новых путей и форм в искусстве. -
Говоря об их балетном театре, имеющем сейчас множество разнообразных спектаклей, необходимо отметить гармоническое сочетание классики и современности, как в репертуаре, так и в хореографическом языке их постановок.
Н. Д. Касаткина и В. Ю. Василёв поставили ряд классических балетов, среди которых «Жизель», «Дон Кихот», все три балета П. И. Чайковского. При этом к воплощению классических произведений они подходят творчески, никогда не переносят механически версии столичных театров, а создают свои. Одним зрителям эти версии могут нравиться больше, другим меньше, что вполне закономерно. Но главное не в этом, а в творческой трактовке материала, что, безусловно, ценно в искусстве. -
Особенно большое значение в деятельности Н. Д. Касаткиной и В. Ю. Василёва имеет постановка новых балетов, сотрудничество с современными композиторами, среди которых были Н. Н. Каретников, А. П. Петров, Т. Н. Хренников, А. И. Хачатурян и другие, не говоря уже о том, что ставили они балеты И. Ф. Стравинского — «Весна священная», «Поцелуй феи», «Жар-птица» и С. С. Прокофьева — «Ромео и Джульетта», «Золушка». В постановке балетов современных композиторов вклад этих балетмейстеров в искусство, пожалуй, наиболее значителен.
-
Гармоническое сочетание классического и современного характерно и для их пластического языка. Н. Д. Касаткина и В. Ю. Василёв воспитаны на классической хореографии и в совершенстве владеют ею. Но язык классического танца не может сводиться к набору школьных движений. Он развивается, обогащается и может впитывать в себя, когда это необходимо для создания художественных образов, разнообразные пластические элементы: народных, бальных, исторических танцев, модерн — и джаз — танца, бытовой и драматической пантомимы, трудовых, спортивных, физкультурно-акробатических движений и другие. По этому пути идёт большинство отечественных хореографов второй половины XX века.
-
И в своих оригинальных балетах Н. Д. Касаткина и В. Ю. Василёв также следуют по этому пути. Танцевальный язык их балетов можно назвать обновленной или модернизированной классикой, то есть классическим танцем, обогащённом в соответствии с требованиями образного содержания элементами других пластических систем.
Особо следует сказать о том, что театр Н. Д. Касаткиной и В. Ю. Василёва является настоящей «фабрикой звёзд». Из него вышло столько лауреатов международных балетных конкурсов, в том числе мировых знаменитостей, сколько не дал ни один другой театр. -
Их артисты завоевали на конкурсах девятнадцать золотых медалей, не говоря о многих серебряных и бронзовых. Не все знают, что именно в театре Н. Д. Касаткиной и В. Ю. Василёва начинали свою деятельность такие мировые знаменитости, как И. Д. Мухамедов, В. А. Малахов, Г. О. Степаненко, С. В. Исаев, такие крупные таланты, как А. В. Горбацевич, Т. Г. Палий, М. Перкун-Бебезичи и многие другие лауреаты. Всё это говорит о высоком уровне труппы и о том, что её руководители умеют воспитывать творческие индивидуальности и выращивать выдающихся актеров.
Творчество Н. Д. Касаткиной и В. Ю. Василёва отмечено Государственной премией СССР (1976) и первой премией Всесоюзного конкурса концертных номеров (1969). Ряд их спектаклей экранизирован. -
Их обширная и многогранная деятельность заслуживает специального и всестороннего исследования. В данном же очерке мне хотелось отметить главное, благодаря чему этими талантливыми людьми вписана заметная страница в развитие отечественной культуры.
Академик В.В. Ванслов -
"Здесь были все оттенки рыжего цвета: соломенный, лимонный, оранжевый, кирпичный, оттенок ирландских сеттеров, оттенок желчи, оттенок глины..."
(Артур Конан Дойл "Союз рыжих") -
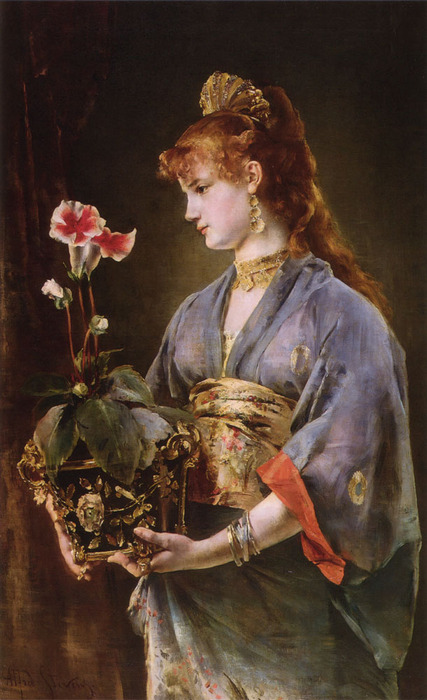
Portrait of a Woman Alfred Stevens
-
Первую жену Адама, Лилит, Господь слепил из рыжей глины и наделил пышной гривой огненных волос. Красавица, да и только! Но семейная жизнь Адама с рыжеволосой супругой не сложилась. Уже на второй день своей жизни Лилит начала борьбу за равноправие полов, утверждая, что Бог создал мужчину и женщину одинаково — из глины, по своему образу и подобию. Пришлось Господу срочно исправлять ошибку — усыпить Адама, взять у него ребро и создать первому мужчине более покладистую жену.
Образ Лилит, перекочевав из иудейской мифологии в европейскую культуру, стал символом коварной обольстительницы, ведьмы, злого духа. У Гете сам Мефистофель советует Фаусту остерегаться рыжих чар Лилит: "Она одного подростка сгубила этою прической!" -

John Collier (1850-1934) - Lilith -
Согласно древнеарабской легенде, Аллах сначала создал из огня духов - джиннов. Рассердившись на них за их изворотливость и лживость, Аллах отправил их жить под землю. И лишь потом Аллах создал из глины своё главное творение - человека. Считается, что женщина, согрешившая с джинном, стала прародительницей всех своих рыжеволосых прадочерей.
А по старинному шотландскому преданию, разновидность фей, живущих под землей, тоже имеет огненно-рыжий цвет волос. И, соответственно, рыжеволосые люди, что ходят по земле, - прямые родственники и родственницы тех самых фей. Но тут уж, видимо, постарались мужчины, вступив в половую связь с красавицами-феями. Считается, что рыжие люди состоя с ними в родствеобладают частичкой волшебства, и поэтому они бывают наделены сверхъестественными магическими способностями. -

William Stephen Coleman (1829-1904) -
Некоторые считают, что рыжий цвет волос говорит о распущенности женщины, но древняя легенда гласит иначе.
В давние забытые времена в племени берокка жила прекрасная юная девушка. Она была столь же прекрасна, сколь и добродетельна, многие мужчины племени хотели бы назвать ее своей женой, но она еще не вошла в брачный возраст, у нее еще даже не начались месячные кровотечения.
Однажды она пошла на реку в одиночестве совершать омовение. И когда она обнажилась, солнечный луч скользнул по ней и исчез прямо в ее влагалище. С этого дня у девушки началась менструация, но она не знала - что это такое, и решила, что кровь течет у нее от совокупления с солнечным лучом. С тех пор девушка стала считать себя женой солнца. Она никому не рассказывала об этом, но уклонялась от предложений других мужчин - стать их женой. Каждое утро она уходила на реку для встречи со своим возлюбленным, она раздевалась донага и солнце весь день ласкало ее прекрасное тело. На самом деле, это было не солнце. Просто молодую девушку полюбил бог Пруха, но так как у него не было пениса, то он мог ласкать женщину лишь солнечными лучами. От длительных свиданий волосы у этой женщины приобрели золотистый оттенок, а от ее любви с богом появилось на свет чудесное растение - касароутоми, побеги которого используют другие женщины, чтобы покрасить свои волосы в медный цвет. -

Francis John Wyburd (1826-1893) - Reflection -
Ну и, конечно, стоит упомянуть и о том мифе, что был создан великой Мэрилин Монро. Психолог-сексопатолог Андрей Лужко считает, что мужчин привлекает в дамах намного больше рыжий цвет волос, чем блонд или какой-либо иной. Но страх перед рыжеволосыми красотками заставляет представителей сильного пола скрывать в семидесяти пяти процентах свои истинные чувства и намерения под псевдолозунгом: «Джентльмены предпочитают блондинок». -
История. -
Если заглянуть в историю, рыжие в древние времена часто подвергались гонениям. Например, древние египтяне приносили их в жертву богу Амону-Ра, чтобы обеспечить хороший урожай. Потому что рыжеволосые, по их поверью, олицетворяли золотистый дух зерна. Средневековая Европа называла всех рыжих ведьмами. Их обвиняли в распутстве, злом колдовстве, вероломстве. Во Франции рыжеволосых либо боготворили, либо третировали. -

Adolphe Jourdan (1825-1889)- Innocence -
Так откуда вообще генетически взялся рыжий цвет волос? Оказывается, по утверждению учёных оксфордского Института молекулярной медицины, от неандертальцев. Британские биологи установили, что возраст гена, отвечающего за "золотой" цвет волос, более светлую кожу и веснушки, - от 50 до 100 тысяч лет. Сегодня рыжих, по подсчётам специалистов, много в Шотландии, Австралии, США. В Америке есть даже организация "Союз рыжих", в котором более 12 миллионов рыжеволосых. -

Художник: Edmund BLAIR LEIGHTON -
Рыжие мужчины по духу всегда считались бесстрашными и храбрыми. Среди кельтских воинов было немало с огненными шевелюрами. В Шотландии и Ирландии, например, рыжие мужчины до сих пор пользуются особым почётом как прямые потомки мужественных кельтов.
Только 3% людей в мире имеют естественный рыжий цвет волос. Больше всего рыжеволосых в Ирландии и Шотландии - 11% населения. В странах Скандинавии - 5%, а в Южной Европе - менее 1%. В средние века женщина с рыжими волосами да еще с веснушками запросто могла быть объявлена колдуньей - "дочерью дьявола". "Реабилитация" рыжеволосых наступила только в прошлом столетии. Рыжий цвет стали называть каштановым. Постепенно женщины с каштановыми волосами все чаще признавались "идеалом красоты". А сегодня при окраске волос чаще всего используется именно каштановый цвет во всех его оттенках.
-
Интересно, что название «Русь» вышло не из русого, а из рыжего цвета волос. В Восточной Европе викингов тогда называли русами, потому что латинское «руссус» означало «один из рыжих». От викингов - Рюрика и его братьев, «пришедших с роды своими» и, по летописному преданию, не только княживших в Новгороде, но даже основавших Киев, и пошло название Русь. Но подтвердить или опровергнуть эти гипотезы пока что невозможно.
Но вот, что интересно, писал в своём стихотворении "Я русский" Константин Бальмонт: -
Все народы во все времена считали рыжих отмеченными особой печатью судьбы. Они и сегодня для нас странная, тревожащая загадка. Нонсенс. Какой то особый народ. Нередко мы им втайне завидуем, но всегда будем откровенны инстинктивно опасаемся. Исходящая от рыжих незримая волна скрытой агрессивности невольно заставляет держаться с ними настороже. И не зря эти ребята непредсказуемы.
Они могут быть сколь угодно приветливы, интеллектуальны и остроумны, но вы всегда чувствуете с трудом сдерживаемый, поистине ядерный темперамент. Они и сами считают себя особенными, чтобы не сказать избранными, не лишены высокомерия, а уж критику в свой адрес простят вряд ли! -

Emilio Sala y Frances (1850-1910) - Picking Flowers
Источник
-
Цвет как щит и… меч
-
"Мужчине следует опасаться женщины в серебристо-сером. Она кажется такой тихой и похожей на голубку, и такой нежной, что обезоруживает его, не сказав еще ни слова, и он уже готов уютно устроиться рядом с нею, и позволить ей вывернуть наизнанку его разум и кошелек. При всем своем желании, женщина неспособна выглядеть коварной и расчетливой в сером."
From a Girl's Point of View -

by Lilian Bell, 1897

De Madrazo y Kuntz, Italia, 1815
-

-
Marthe Bibesco Boldini
-

William Powell Frithfh - В опере, 19 век -

Helleu, Portrait of Clara Weil -

Kees Van Dongen 1837-1968, 1930 -

Мурашко Александр - Портрет дамы в сером -

Dante Gabriel Rossetti 1828-1882 -

Irving R. Wiles 1861-1948, Among the Rhodedendrons -

Edmund C. Tarbell -

Edmund C. Tarbell 1862-1938 -
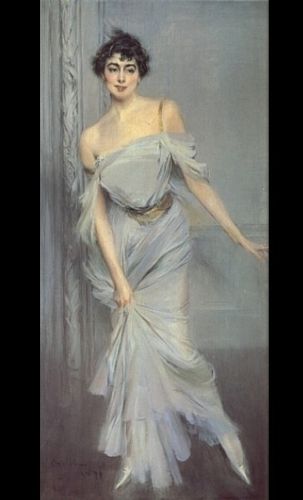
Boldini
Рыженькие: как и почему?
Мне жутко нравятся рыжеволосые люди - родной брат моего папы, был рыжим, я его обожала, а поскольку у него с папой была большая разница в возрасте, то для меня он был как брат. Я много читаю об этом вот и хочется поделится легендами и историей. (Автор источника)
Я русский, я русый, я рыжий. Константин Бальмонт |
Цвет как щит и… меч
(продолжение)
Коричневый - самый неблагодатный цвет в женской одежде. Практически ни на одной картине не встретите вы элегантную женщину, одетую в коричневое. У старых мастеров в коричневом - исключительно бедные девчушки и нищие старухи. Гм-м-м… Да простят нас бедные девушки и нищие старухи – мы исключим их сегодня из обзора. Ведь истинная красота никогда не исчезает, в какой бы цвет её ни обрядили! Убедитесь сами:

Вполне объяснимо, почему художники крайне редко писали женщин в коричневом.
И если уж такой выбор случался, то этот цвет они всегда пытались разбить
кружевами, шалями, накидками или, в крайнем случае, глубоким декольте.


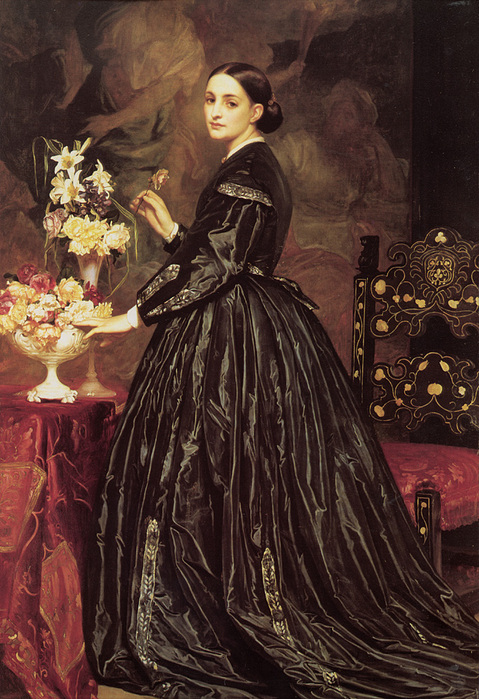



-
Поставщик счастья №1 - так себя называет художница Евгения Гапчинская. Ее работы сложно спутать с чужими - удивительные человечки с детскими подписями в духе "Мама купила мне трусы в розочках" или "Глупое мое сердце все любит и любит".
Ее работы находятся в коллекциях известных российских и украинских актеров, телеведущих и певцов. Кроме того, ее картины в свое время купил Лучано Паваротти. В Киеве, Одессе и Днепропетровске можно найти галереи Гапчинской - "Галереи счастья", а в них не только картины, но и сумочки, подушки, тарелки, книжки и многое другое с изображением работ художницы.

-
-
Евгения родилась в 1974 году в Харькове пятым ребенком в семье. Окончила в родном городе художественное училище и институт, год стажировалась в Нюрнбергской академии искусств. По словам художницы, в Киев она попала "от отчаяния и полной нищеты". "Если бы меня взяли в Харькове хотя бы маникюршей, то я бы в Киев не приехала", - говорит Евгения. "Я хорошо помню, что мечтала только о том, чтобы у меня хватало денег платить за квартиру, потому что родители Димы (мужа) давали деньги на квартиру, а мои - на еду". Уже на последнем курсе в институте Евгения Гапчинская поняла, что найти работу по специальности ей будет нелегко:
"Последний курс был дипломным, весь год мы рисовали одну большую картину. Но для меня это было смешно, потому что я картину год не рисую - появилось свободное время".
"В этот дипломный год я начала переучиваться. Уже понимала, что мои работы в салоны не берут... То, что я умела рисовать - натюрморты, портреты, живых людей - было совершенно никому не нужно".

-
По словам художницы, своих человечков она тогда еще не рисовала: "Я рисовала так, как меня учили в институте - полный реализм, репинский... После института мне надо было два года, чтобы как-то поломать то, как я рисовала до этого". Как будто бы мы взрослые...
Весь последний год в институте Евгения искала работу: "Переучивалась, заканчивала курсы маникюра, делала ремонты, клеила обои и так далее. Как раз к концу обучения я пошла искать работу в парикмахерской, но меня нигде не брали".
"В принципе, в Киев мы ехали в огромных слезах. Ехали в никуда", - говорит художница. К тому времени у нее уже была маленькая дочка: еще на первом курсе Евгения вышла замуж, а на втором курсе появилась Настя.
Толчком для переезда из Харькова в столицу стала поездка мужа в Киев: "Димка приехал в гости к друзьям. Они снимали здесь однокомнатную квартиру. Рита и Шурик - это его однокурсники". -
"Он приехал к ним на два дня в гости. Видно разговорились, он рассказал свою ситуацию... Они ему сказали так: либо ты приезжаешь сюда завтра и тогда мы разрешаем тебе месяц пожить у нас, пока ты не найдешь работу и не снимешь квартиру, либо ты слабак. Если ты не приедешь завтра, то и не приезжай".
"Димка приехал домой утром на поезде и в этот же вечер уехал. Собрал вещи, и таким образом все было решено в один момент". -
Некоторые девочки рождаются сразу принцессами!
-
Сама Евгения приехала к мужу с дочкой после защиты диплома: "Я приехала, когда окончила институт, а Настюша - садик. В то время Дима уже снимал комнату на Куреневке в двухкомнатной квартире у пожилой женщины".
"Димка нашел работу за два дня - он дизайнер. Но он дизайнер по специальности, а я художник в чистом виде, поэтому мне было тяжело - я ни с компьютером управляться не умела, ничего неумела".
"Еще два года я перебивалась - работала в рекламном агентстве менеджером, в торговой компании, которая торговала чешским пластиком, растамаживала грузы... В общем, я переходила с работы на работу. Слава Богу, нигде меня не увольняли, мне просто хотелось чего-то нового, более интересного. Таким образом, я сменила шесть работ". -
Последним местом работы перед уходом в "свободное плавание" была позиция арт-галериста в галерее "Срібні дзвони":
"Я открыла "Золотые страницы" - к тому времени я уже почувствовала свои организаторские способности, умела разбираться в искусстве - и подумала, что могла бы устраивать выставки".

-
Принцесса с колбаской
-
Решение заниматься исключительно живописью пришло к Евгении Гапчинской, когда она уже работала в галерее и впервые после окончания институту начала рисовать: "Рисовала по ночам. За полгода собралось около 15 работ. В принципе это уже были работы, подобные нынешним".
"Тогда, я помню, хозяйка галереи разрешила мне сделать там свою выставку. После первой выставки начали писать в газетах, каких-то журналах. Но это были крошечные заметки".
Впрочем, картины с выставок начали продаваться: "Я почувствовала, что когда картина продается, то это, в сущности, вся моя зарплата в галерее. У меня пошли заказы, кто-то просил что-то сделать. Я почувствовала, что рисованием уже могу иметь неплохую добавку к зарплате".
Толчком к окончательному уходу из галереи послужила заметка в журнале "The Ukrainian", который предлагается пассажирам самолетов: "Из-за журнала ко мне прилетел директор Венского музея "Albertina".
"Он сделал заказ на 15 работ о своем музее - рыженькая девочка, которая путешествует по мастерским художников, которые представлены у них в музее. Были даны конкретные сроки". -
"Это был решающий момент - мне пришлось выбирать: либо я хожу на работу и отказываюсь от этого проекта, потому что я не успею за данные сроки сделать эти работы, либо надо увольняться. Я выбрала увольнение".
-
Иллюстрация к "Алисе в стране чудес"
-
По словам художницы, ей было страшно уходить из галереи: "Страшно было скорее не из-за того, что уходишь. Я уже знала, что если человек хочет найти работу, то он найдет. Страшно было, потому что тогда у меня был большой кредит".
"Одна клиентка посоветовала мне купить квартиру на первом этаже и сделать там мастерскую. Она сказала: там ты будешь самостоятельной - будешь ходить туда как на работу, и туда же к тебе будут приходить люди смотреть твои картины".
"Вот из-за этого было очень страшно уходить, именно из-за кредита. Ты остаешься без какого-то гарантированного дохода, а тебе каждый месяц надо выплачивать этот кредит. Но отрыв все же произошел".
До открытия своей галереи Гапчинская старалась выставляться где только можно. Кроме выставок в галереях и музеях, картины художницы представлялись и в банке, и в ресторанах. -
"Куда звали, туда и шла. Мне всегда было важно, если обо мне узнают еще два человека, а если десять - то это уже классно". Объявления о своих первых выставках Евгения сама разносила по редакциям, пытаясь привлечь к своим работам как можно больше внимания.

-
По мнению Евгении Гапчинской, счастье - когда близкие люди рядом
-
Сейчас рабочий день художницы начинается с подъема в половине шестого. При этом Евгения отмечает, что и спать она ложится рано - к десяти-одиннадцати часам. Когда-то, вспоминает она, приходилось спать по три-четыре часа в сутки.
Рисует Гапчинская по вечерам, лавируя между всевозможными встречами и поездками: "Если у меня нет времени, я не работаю. Но поработать я всегда рада - когда мне никуда не надо ехать или что-то делать. Если у меня есть время, я сажусь и с огромным удовольствием работаю". По словам художницы, на одну картину в среднем уходит около месяца.
Для успеха не только в среде художников, но и в любом другом деле у Гапчинской есть один совет: "Он подойдет и производителю туфлей, сумок, водки, пирожных, любому человеку, который что-то делает".
"Не пить, меньше спать, меньше есть, больше работать, не отчаиваться, когда что-то не получается. Это рецепт для любой профессии, для любого вида деятельности. Здесь все равно - делаешь ты картины или шьешь белье. Если ты не успокаиваешься, то все у тебя получится".
А вот статья из другого источника:
«Галеристы меня не выставляли, предпочитая работать
со «своими», а стать членом Союза художников я не могла, поскольку мою
живопись сочли недостаточно серьезной. Вот и пришлось развиваться отдельно»
Ее картины приобретал Лучано Паваротти, есть они в домашних коллекциях
Никиты Михалкова, Софии Ротару, Андрея Шевченко, Тины Канделаки и многих
других известных людей. Забавные человечки, которые наивно смотрят на
мир с этих полотен, невольно заставляют улыбаться даже самых серьезных
мужчин. Не потому ли поклонники творчества этой художницы готовы выкладывать
за каждое из них десятки тысяч долларов. Ее имя — Евгения
Гапчинская.

Сама она оказалась столь же добродушной, как и ее герои: появившись в галерее точно в назначенное время, заразила всех присутствующих своим хорошим настроением, уютно разместилась на… подоконнике — и началась неспешная беседа.
— Детям из многодетных семей приходится рассчитывать
разве что на удачу. Кто помогал пробиться в мир богемы вам?
— Ясно, что деньги и сила родителей в чем-то облегчают жизнь ребенка.
И нашим детям с материальной точки зрения будет легче, но вот со становлением
характера — сложнее. Мы закалялись и стали такими умными лишь благодаря
свалившемуся на нас безденежью. Есть то ли фильм, то ли песня (не помню
точно) «Разбогатей или сдохни». Это — про нашу ситуацию: бывало настолько
плохо, что приходилось ломать ветки и заваривать из них чай. А когда ситуация
дошла до отчаяния, мобилизировались внутренние ресурсы. Нашим детям выживать
намного легче. Но, с другой стороны, я бы не хотела, чтобы мой ребенок
прошел аналогичный путь.

— А вам сложно было поступать?
— Несмотря на количество детей, наша семья была достаточно обеспеченной.
Причем папа нам ни в чем не отказывал. А насчет образования… Знаете, как
он говорил? Я никому не буду давать взятки, я найму преподавателей и буду
вкладывать деньги в ваше развитие. Поэтому летом мы вместо отдыха обычно
ходили к преподавателям по алгебре, геометрии, правописанию и учились,
учились, учились. Думаю, ему не дешево обошлась моя подготовка к вступительным
экзаменам, ведь я посещала еще и мастерскую художника. Остальные дети
тоже готовились к вузам по аналогичной программе.
— Евгения, а вы согласны с мнением, что наше образование
— в отличие от иностранного — способно «заглушить» индивидуальность молодого
художника?
– Когда я училась, мне казалось, что может. Видимо, на тот момент я просто
устала от преподавательского гнета. Но на самом деле, если человек сохраняет
внутреннюю свободу, он проходит через учебу в вузе как через школу жизни,
впитывая все самое нужное. Если ученик — фантазер, сюрреалист, преподаватели
легко научат его прекрасной обработке формы. Кажущийся гнет впоследствии
дает свободу: ты изучаешь технику и технологию живописи и можешь писать
и в стиле Рембрандта, и в стиле Ван Гога. Причем главное не то, что ты
хочешь или не хочешь, ты понимаешь, как это можно сделать.
— А когда после такого элитного вуза пришлось работать
маникюршей, не было ощущения, что жизнь обошлась несправедливо, унизила?!
— К счастью, мне никогда не приходилось себя переламывать. А это занятие
на тот момент позволяло зарабатывать деньги, так что перед глазами до
сих пор счастливый взгляд ребенка, когда я приносила
в дом сладости и фрукты. И раньше говорила, и снова повторю: стыдно не
работать или работать плохо! А трудиться — независимо от того, что нужно
делать, — никогда не стыдно.
— Понимали ли вас в тот момент окружающие? И чье мнение
для вас — закон?
— Обычно прислушиваюсь лишь к точке зрения мужа и сотрудников. Если бы
слушала все, что мне говорят, из Харькова бы, наверное, не уехала. Да
и вообще много чего не делала бы! Например, когда я печатала свой первый
каталог за пять тысяч долларов, многие крутили пальцем у виска. Ведь однокомнатная
квартира, в которой тогда жила моя семья, стоила всего семь тысяч. Я понимала,
что сильно рискую, у меня даже нервный срыв из-за этого тогда был. Но
у меня такое правило — делать то, что считаю нужным, не оглядываясь назад.
Если звезды зажигают...

— Пробиться в мир богемы всегда было сложно, но некоторые
художники считают, что раньше сделать это было проще.
— Времена всегда одинаковые! На самом деле наличие таланта не играет большой
роли, куда большее значение имеет трудолюбие, выносливость и гибкость,
в хорошем понимании этого слова. На Западе, может быть, и легче: там творческого
человека изначально считают значимым, на работы ему выделяют гранты. У
нас ситуация иная: деньги нужно искать самому. Но тем, кто постоянно на
что-то сетует, следует поехать в Индию. Вот где действительно плохо! Так
что нам грех жаловаться!
— Чтобы стать эстрадной певицей, говорят, достаточно
обратиться к продюсеру Диме Климашенко… А среди художников вы знаете такого
специалиста по «зажиганию» звезд?
— Диму обожаю, хотя лично с ним не знакома. Мне безумно нравится, с каким
наслаждением он идет по жизни, уважаю и его работу. Если бы так получалось
среди художников… Не знаю, художник, как по мне, величина самодостаточная.
— Но все же, сколько в наше время нужно денег молодому таланту на качественную
раскрутку?
— А что такое «раскрутка»? Когда мне говорят, что Гапчинская не художник,
ее просто раскрутили, всегда хочется спросить: «А кто меня раскручивал
и что нужно делать, чтобы раскрутиться?» Я как ненормальная целых десять
лет работала днями и ночами, не знала и не знаю, что такое поехать в какую-то
страну и просто наслаждаться отдыхом. Постоянно кредиты брала, рисковала,
так что все, что я вложила в свои картины, сегодня уже и посчитать сложно…
— Свою первую выставку помните?
— Она состоялась в… нашей трехкомнатной квартире: тогда мы еще жили недалеко
от станции метро «Дарница». Как организовали? Да просто открыли двери,
снесли всю мебель в детскую, а в двух свободных комнатах оформили экспозицию.
Тогда я еще работала на фирме, занимающейся пластиком, так что картины
рисовала в свободное время, часто ночами. Вторая выставка прошла через
два года — уже в галерее, где я тогда работала. Можно сказать, служебное
положение использовала.
— Но вы ведь тогда еще не были известной художницей:
как посетителей домой приглашали?
— С этим действительно было сложновато. Для начала взяла справочник, составила
список тех, кого хотела бы увидеть, и начала самостоятельно развозить
пригласительные. Выйдя из редакции одной газеты, не выдержала: села на
бордюр и расплакалась. Тогда было очень жарко, а проходить пешком приходилось
километры, и я сильно натерла ноги. К тому же я в то время еще плохо ориентировалась
на улицах Киева, и от этого становилось обидно. Да и безразличие людей
удивляло. Но все мои мытарства не прошли зря: выставку посетили многие
люди, среди которых была Лиля Пустовит. Она уже тогда была известным модельером,
так что до сих пор помню, как задрожали у меня коленки, когда я ее впервые
увидела.
— Вы часто пишете картины «под заказ»? А можете отказаться
от работы, если человек вам неприятен?
— Честно говоря, занимаюсь этим крайне редко. Но даже когда делаю это,
с будущим героем картины обычно не знакомлюсь. Мне достаточно, чтобы другие
о нем рассказали: что он любит, что ест, как отдыхает. Хорошо, если еще
и пару смешных историй вспомнят. Тогда я уже фантазирую и рисую воображаемый
образ. Ведь как часто говорят заказчики? Мол, не хочу фотографического
сходства, важно, чтобы это было написано Женей Гапчинской! Да и разве,
пообщавшись несколько раз с человеком, можно познать его сущность?
— Евгения, а как можно охарактеризовать стиль, в котором вы работаете?
— Никогда не задумывалась, да меня об этом и не спрашивают! Раз людям
нравится, значит, хорошо.

Сама по себе
— Вы человек решительный? Помните свое самое тяжелое решение?
— Самая сложная процедура для меня — увольнение работника. Когда беру
человека, я от него в восторге. Но случается, через пару месяцев ему уже
тяжело выполнять какие-то мои поручения, он постоянно в плохом настроении,
так что реагировать как-то приходится. Но решиться на увольнение непросто:
хожу и думаю, что он теперь будет делать.
— Ваше творчество ценят далеко за пределами Украины, почему до сих пор
не являетесь членом Союза художников?
— Понимаю, такое членство может дать много привилегий: по материалам,
выставкам. Но сегодня мне это не нужно! Я самостоятельная и не нуждаюсь
в общении с художниками и галеристами — у меня нет ни места, ни повода,
чтобы с кем-то встречаться. К тому же, подозреваю, что и они меня не особо
жалуют.
— Но вы же «выпадаете» из богемного круга!
— А я никогда в него и не попадала: двигаюсь параллельно. В этот круг,
когда мне хотелось рисовать и выставляться, меня никто не хотел принимать.
Галеристы не выставляли, предпочитая работать со «своими» художниками,
а стать членом Союза художников я не могла, поскольку мою живопись сочли
недостаточно серьезной. Вот и пришлось развиваться отдельно. Помню, очень
смешно выходило (а я раньше таки хотела выставляться в галереях): звоню
в некоторые галереи, меня спрашивают, мол, кого представляете? А когда
я говорила, что саму себя, мне отказывали: никто не хотел работать с незнакомым
и неизвестным художником.
— Была ли в вашей жизни встреча, изменившая если не
все, то очень многое?
— Да, целых две! Первая — с Мариной Ткаченко, которая сказала: «Я в тебя
верю больше, чем ты сама!» Она убеждала, что мне нужно работать самостоятельно,
идти вперед! И с Юрием Никитиным — он дал мне внутренний толчок. Поговорил
со мной несколько минут, с легкостью объяснил положение… Он сам, наверное,
тогда даже не осознавал, насколько для меня это важно, но его слова для
меня стали настоящим девизом.
— А сейчас, когда все страдают из-за кризиса, на вас лично сильно отразились
эти негативные явления, или клиенты, наоборот, стали больше внимания уделять
искусству?
— Об этом говорить не хочу! Мне кажется, люди сейчас уже начинают торговать
этой темой, ведь ее используют даже в рекламе!
— Ваши работы часто подделывают. Боретесь как-то?
— А как с этим бороться? Не могу же я из страны в страну ездить и ходить
по Арбату или Андреевскому спуску и контролировать, нет ли там подделок!
На это всю жизнь потратить можно. Если клиенты просят кого-то подделывать
именно мои работы, значит, они людям нравятся.
Это мы знали:
- Евгения — пятый ребенок в многодетной семье военного.
- Окончила в Харькове сначала художественное училище, а затем институт.
- Все, чего добилась, — только благодаря собственному труду.
Этого мы не знали:
- Работала маникюршей и не стыдится этого.
- Считает себя самостоятельной художницей, не нуждающейся в общении с
коллегами и галеристами.
- Убеждена, что для достижения успеха не обязательно быть талантливой:
куда большее значение имеет трудолюбие, выносливость и гибкость в хорошем
смысле этого слова.
Одним из необъяснимых увлечений XVIII века были мушки. Их вырезали из бархата или шелка черного цвета, иногда вправляли маленькую жемчужину, камушек или блестку. Формы бывали всевозможные – от кружочка и звездочки до экипажа и зверька. С обратной стороны они были обмазаны клеем, и прелестница слюнявила палец и лепила мушку на лицо или грудь. Положение мушки могло означать весь набор любезностей и намеков, от «я согласна» до «я неприступна». Считалось приличным носить 2-3 мушки, но находились любители шокировать общество и появлялись с 15 мушками. У дам, терявших мушки во время празднеств, имелась крохотная золотая мушечница с запасом.

Считается, что своим появлением мушка обязана британской герцогине Ньюкастл,
кожа которой оставляла желать лучшего. Герцогиня изобретательно обыграла
свои недостатки при помощи круглых кусочков чёрной тафты, которые на её
лице стали играть роль «искусственных родинок». С их помощью удалось не
только «победить» неровности кожи, но и оттенить белизну лица. В Англии
этот чёрный кружочек стали называть beauty spot (буквально — «пятнышко
красоты»), а ещё — patch (заплаточка) или speckle (крапинка).
Во Франции, куда мода на beauty spots проникла очень быстро, их стали
именовать moucheron или mouche (муха). Именно это название прижилось потом
и в Росии. В те времена женскую красотумог в одночасье уничтожить коварный
враг — оспа: самые прекрасные лица оказывались изрыты страшными рубцами,
которые не исчезали даже спустя многие годы. Мушки пришлись как нельзя
более кстати.
XVII, а в особенности, XVIII век, можно также назвать «эпохой флирта».
Любовь, сведённая к непрерывному и, порой, опасному кокетству была основой
взаимоотношений праздных аристократов. Хорошо воспитанная дама должна
была уметь флиртовать сразу с несколькими кавалерами, не выходя за рамки
приличий.

Когда авторы пишут о «галантном веке», как об эпохе разврата
и половой распущенности, то оказываются неправы — был в моде именно флирт,
недомолвки, полутона и не приводящее ни к каким «ужасным последствиям»
кокетство.«Язык мушек» — явное тому подтверждение. Дама не могла выразить
кавалеру свою приязнь или, напротив, отказать во взаимности. Для этого
она прибегала к иносказаниям. Мушки, приклееные на лице особым образом,
могли сказать об их обладательнице больше, чем она сама могла себе позволить.
Разные источники содержат различную трактовку положения мушек (вероятно,
со временем значения менялись). Историк М.Н. Мерцалова пишет о том, что
мушка-полумесяц приглашала для ночного свидания, амурчик означал любовь,
а карета — согласие на совместный побег.
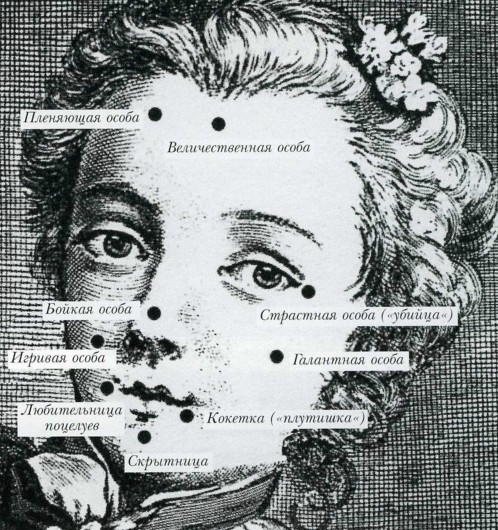
Часть информации взята из Википедии
Мушки являлись одной из самых необходимых частей женского "прикида" еще во времена Екатерины, без них ни одна дама не решалась показаться в обществе. Каждая удачно посаженная мушка контрастировала с безупречно гладкой кожей и задерживала страстный мужской взгляд, подчеркивая "соблазнительность своего окружения". Существовал даже "язык мушек". Изобретен он был, насколько мне известно, при французском Дворе маркизой де Помпадур. В зависимости от местоположения на лице мушка означала тот или иной настрой дамы:
• в середине лба - неприступность;
• в уголке рта - "я милостива сегодня";
• под нижней губой - скромность;
• над верхней губой - кокетливость;
• в складочке улыбки - легкомыслие;
• на виске у левого глаза - страстность;
• на виске у правогоглаза - "я склонна вас немного потиранить";
• на подбородке - "люблю, да не вижу";
• на середине щеки - любезность;
• а если чуть выше - "я согласна";
• под носом - "мы должны расстаться".

Каждая дама имела запас мушек и на балу - в зависимости
от ситуации - в туалетной комнате могла изменить расположение мушки. По
свидетельству Вольтера, мушками не гнушались даже многие щеголи, а в России
перед ними не смогли устоять даже женщины из семей раскольников.
Но все течет, все изменяется. Казалось, и мушка навсегда похоронена вместе
с пудрой, париками и прочими атрибутами кокетства современниц елизавето-екатерининской
эпохи. Но в начале прошлого века парижские артистки - этуали, создававшие
моду и ревниво следовавшие ей, стали появляться на сцене и в обществе
украшенные мушками - в уголке губ или "в складочке улыбки".
Источник
Лесли Харрисон
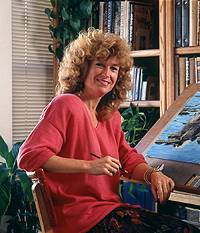 |
|
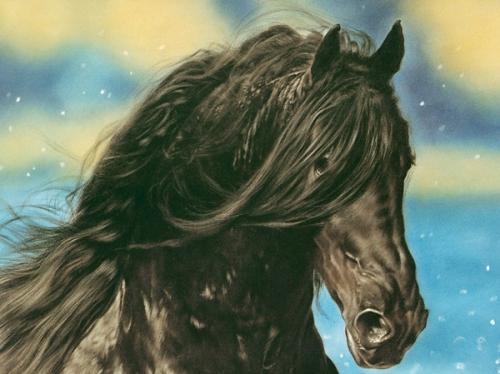


Закончив школу, Харрисон переехала в Аризону. Как-то раз, блуждая по рынку,
она увидела пастельные краски. В то время немногие художники работали
с пастелями, но Лесли, едва только их попробовала, поняла, что нашла себя,
и утвердилась в этом мнении, продав свою первую картину человеку, который
влюбился в эту работу с первого взгляда. К 1983 году она писала достаточно,
чтобы не заниматься ничем другим.

"Как только я прихожу в какую-нибудь галерею и предлагаю выставить
свои работы, меня сразу спрашивают, что за краски я использую. Когда я
отвечаю, что пишу пастелями, они тотчас же теряют всякий интерес и даже
не хотят посмотреть на мои картины. Однажды я решила сказать, что работаю
с масляными красками и с пастелями. Меня попросили показать только написанное
маслом, но я принесла и то, и другое. Увидев мои пастели, все затрепетали!"
Даже теперь, спустя семнадцать лет, это все еще борьба, хотя уже и не
такая сложная. Любителям живописи пастели не так близки, как масляные
краски, но люди не могут пройти мимо того, что пишет Лесли.

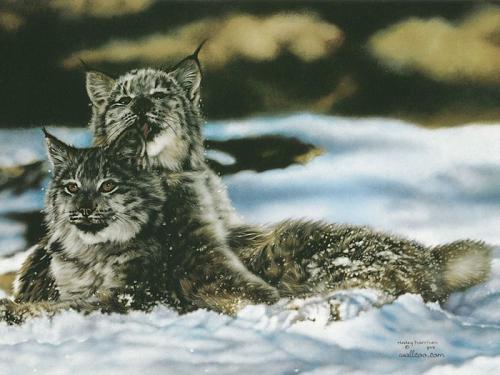


Харрисон получила огромное число наград за выдающееся мастерство, а Ассоциация
пастелей западного побережья в трижды признавало ее вклад в искусство.
Она также член Американского общества пастелей.
Лесли живет на севере Калифорнии со своим мужем, скульптором Джоном Келлером,
и девятью кошками.
Харрисон рисует вот уже двадцать шесть лет. В живописи она воплощает всю
свою любовь к животным, подчеркивая их индивидуальность, грацию и силу.


"Я счастлива, если людям нравится то, что я делаю. Иногда они стоят
перед моими картинами и плачут. Неужели может быть что-то лучшее для художника?
Кроме того, я убеждена, что когда пишешь сердцам, ты трогаешь сердце другого
человека. Мне все равно, птицу я рисую, кошку или лошадь, главное - суметь
передать на холсте то волнующее чувство, которое при этом испытываешь".

Габриэль Шанель
«Мода выходит из моды, стиль – никогда», - утверждала
мадемуазель Коко Шанель (Сoco Chanel), великая королева моды прошедшего
столетия.
Шанель – это стиль, несущий в себе идеи свободы и современности, которые
прошли через целое столетие. Та, что придумала его, уже при жизни стала
легендой, вдохновляя романистов, кинематографистов и даже музыкантов.
Габриэль Шанель, больше известная как Коко, и ее Дом
моды…
Говорят, она работала и днем, и ночью. Новые модели являлись ей даже во
сне. Проснувшись, она зарисовывала их на бумаге. А на предложения сделать
передышку отвечала: «Ничто не утомляет меня так как отдых».
Она сняла с женщин корсет, подарила им черный цвет и подстригла волосы,
создавая неповторимый стиль безупречных линий и идеальных пропорций -
стиль женщины двадцатого века.

Более андрогенная, по сравнению с господствующей тогда антифеминстической
модой, которую создавали мужчины, мода Шанель была более женственной.
У нее было потрясающее чувство элегантности. Кроме того – стремление к
комфорту. Возможно это было связано с тем, что ее собственная внешность
была достаточно андрогенной и ей не хотелось чувствовать себя неловко.
Ей хотелось быть элегантной, но при этом носить одежду, в которой удобно.
Остальных модельеров это тогда не волновало.
Ей хотелось, чтобы одежда хорошо прилегала к телу, но не слишком обтягивала,
поэтому в плечах ее модели были очень точно скроены, а в талии они более
свободные, в отличие от моделей других дизайнеров того времени. Она любила
юбки ниже колен, поскольку считала колени уродливыми. А еще она считала
нужными карманы, чтобы класть ключи от дома и машины. Она обладала не
только чувством стиля и элегантностью, но и практичностью.

Chanel by Horst P. Horst, 1934
«Дать женщинам возможность свободно двигаться, не чувствовать
себя скованно, не подстраиваться под одежду, которую они надевают, - это
очень трудно. Мне кажется, у меня есть этот дар» - говорила Шанель.
Это была великолепная женщина. Ее все боялись. Даже дамы из высшего общества
– все они боялись и восхищались мадемуазель Шанель. Она могла сказать
что угодно и кому угодно – такой у нее был характер.
Первые шаги в профессиональной жизни Габриель Шанель делала в городе Мулен, где научилась шить. А в 1903 году устроилась на работу швеей. Дочь крестьянки и мелкого торговца в дестве она познала настоящую нужду. После смерти матери отец отдал 12-летнюю девочку в монастырский приют, где и прошло ее отрочество. Однако в 20 лет она уже вела другую жизнь, принимая ухаживания военных из местного гарнизона и выступая с песенками в кафе. Правда знала она лишь две, и из названия одной из них - «Кто видел Коко» - возникло ее прозвище – Коко.

Восхождению Шанель ничто было не в силах помешать. Ее
успех превзошел все границы, когда она выпустила свои знаменитые духи
№ 5. Они принесли ей целое состояние. Позже Мэрилин Монро прославит их
еще больше, заявив, что "надевает" на ночь «Chanel № 5».
А в 1925 году появляется маленькое черное платье из крепдешина, которое
превратится в своего рода униформу, желанную для всех женщин. На следующий
год Шанель открывает для себя твид, из которого шьет целые коллекции.
А также заводит роман с богатейшим человеком Франции – герцогом Вестминстерским.
Так она окончательно становится персонажем светской хроники.

Карл Лагерфельд, который сейчас руководит Домом моды Шанель, рассказывает:
«Шанель изобрела саму себя. Это уже большая находка. И она была первым
стилистом, в том значении, в котором сегодня употребляется это слово.
Она видела австрийские униформы – они легли в основу женского костюма
от Шанель. Ведь это нужно было придумать! Придумать эквивалент мужского
костюма с пиджаком на двух пуговицах! Это было гениально. Шанель соединила
все элементы, в которых она видела новизну и создала новый образ, который
для нее был выражением современности. И который позже, в 1970-е годы,
стал символом буржуазности. Потому что у нее все-таки была одна проблема
– она не признавала мини-юбки как элемент прогресса моды. Да, это ее тормозило.
Но ей ведь было 85… Так что ее можно простить».
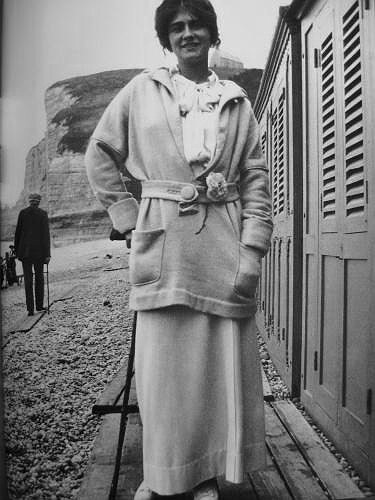 |
A fresh-faced Gabrielle 'Coco' Chanel herself, in 1907 |

Early undated photo of French fashion designer Coco Chanel,1920

Mar 1931 - Mademoiselle Gabrielle (Coco) Chanel, right, fashion expert,
with actress Ina Claire
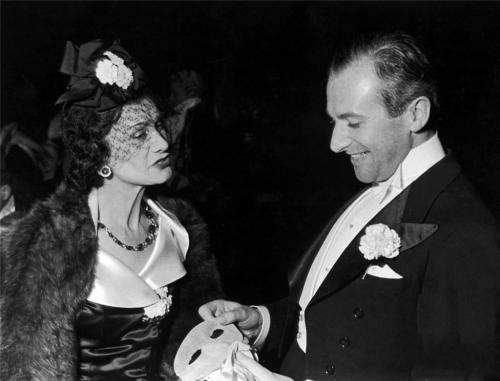
Fashion designer Gabrielle (Coco) Chanel w. photographer Cecil Beaton,
1937

Spectacles add a studious look, but the jewellery prevents this 1938
outfit from looking dull

Chanel Look by Paul Schutzer, 1961
- Я предпочитаю в женщине милые манеры, приятный разговор, милое поведение,
умение приятно танцевать, а не чисто классическую красоту, которая может
выглядеть очень глупо, если находится не в музее.
Посмотрите, как входит в комнату женщина, притягивающая все взгляды. Как
она идет, как она садится, какие жесты она делает в разговоре. По классическим
меркам она может считаться вполне уродливой, но, несмотря на это, в ее
фигуре, ее поведении, ее жестах есть что-то, что составляет стиль и что
очень важно именно потому, что все это не какие-то внешние украшения,
а принадлежит самому ее существу.
Почему из пятидесяти женщин она самая привлекательная, независимо от того,
велика она ростом или мала, брюнетка или блондинка, спортивна или женственна?
Потому что дурманящие напитки, уродливая обстановка, которая не радует
сердце, глупые люди, которые ночь за ночью повторяют свои бесчисленные
истории - истории тех жизней, которые проживаются только для того, чтобы
быть рассказанными и по этой причине не стоящие рассказа.
Она знает, как ей надо идти, почему ей надо сесть и к
чему относятся ее жесты. Она - это она. Ее походка не связана никакой
модой.
Надо сохранять собственную неповторимость даже перед требованиями моды.
Что такое, собственно говоря, плохая фигура? Это фигура, испуганная с
головы до ног. Этот испуг в поведении происходит оттого, что женщина не
дала своему телу то, что ему полагается. Девочка, которая стесняется оттого,
что не сделала домашнего задания производит то же впечатление, что и женщина,
не осознающая, что такое природа природа.
Нельзя одновременно иметь две судьбы - судьбу необузданного дурака и умеренного
мудреца. Нельзя выдерживать ночную жизнь и быть в состоянии создать что-то
днем. Нельзя позволять себе еду и алкоголь, которые разрушают тело, и
все же надеяться иметь тело, которое функционирует с минимальным разрушением.
Свеча, которая горит с двух концов, может, конечно, распространять ярчайший
свет, но темнота, которая последует потом, будет долгой.
Пища должна быть простой. Спать хорошо семь-восемь часов,
если столько хочется, спать при открытых окнах. Вставать рано, работать
сурово, очень сурово. Это не повредит никому, потому что это создаст бодрость
духа, а дух в свою очередь, позаботится об участи тела. Не сидеть допоздна.
В конце концов, что такого уж ценного в светской жизни, чтобы вы пренебрегли
подушкой для того, чтобы ббодрствовать до раннего утра!
Пощадите себя ради самих себя. Щадите свои уши, щадите свои глаза, щадите
свои мысли. Что вы слышали такого после полуночи, что вы считали бы ценнее
собственного сна? Это всего лишь то, что вы так или иначе слышали, и к
тому же раз сто...
- Лично меня после двенадцати часов вообще ничего не интересует.
Эдит Хэд
Что нам вспоминается из фильма, увиденного много
лет назад? Это образы - Кэри Грант в элегантном костюме застыл в дверном
проеме, Мэй Уэст эротично пересекает комнату, Одри Хепберн парит в танце
или Элизабет Тейлор прожигает фиалковым взглядом собеседника. И они всегда
выглядят безупречно.
Более пятидесяти лет художник по костюмам Эдит Хэд (Edith Head) одевала
звезд "Золотой эры" Голливуда. И, в итоге, сама стала легендой.
З5 номинаций на "Оскар" и 8 заслуженных статуэток, невероятное
количество (свыше 1000) фильмов, для которых она разрабатывала костюмы
- для многих имя "Эдит Хед" стало синонимом дизайна одежды в
кино. А ведь она даже не умела рисовать, когда пришла работать на "Paramount".

Эдит Клэр Познер родилась в городке Сан-Бернардино, Калифорния
28 октября 1897 года. Неизвестно, были ли ее родители женаты, но в 1901
году мать Эдит, Анна Леви вышла замуж за Фрэнка Спэра и он удочерил девочку.
Хотя родители были евреями, Эдит приняла католическую веру.
Семья перебралась в Лос-Анджелес, когда Эдит было 12 лет. В своей автобиографии
«The Dress Doctor» Хэд написала, что ее лучшими друзьями были собаки,
кошки и ослики, которых она одевала в отрезы материи. Она также интересовалась
гимнастикой, к которой как нельзя лучше подходили ее миниатюрные формы.
Эдит окончила Калифорнийский университет в Беркли в 1918 году, с лучшими
оценками по французскому, затем чем отправилась за получением степени
магистра по романским языкам в Стэнфорд.
Она стала учительницей - сначала в католической школе
в Ла Джолла, а затем в голливудской школе для девочек. Когда школа попросила
ее вести дополнительный курс по искусству, она записалась на вечерние
курсы по рисованию в Chouinard Art College. И там познакомилась с сестрой
человека, который потом стал ее первым мужем. 25 июля 1923 года Эдит вышла
замуж за Чарльза Хеда. Этот брак был скоротечным, хотя развелись они только
в 1936 году, после долгих лет отдельного существования. Несмотря на то,
что в своей биографии Хэд упомянула о первом муже походя, его имя она
использовала в профессиональном плане всю жизнь.
Эдит снова вышла замуж в 1940 году, за дизайнера по интерьерам Виарда
Айнена. На этот раз брак был счастливым и продлился до самой смерти Айнена
в 1979.


Среди студенток школы, где преподавала Хэд, также учились дочери знаменитого
режиссера Сесиля Б. Де Милля. Чтобы немного заработать, летом 1924 года
Эдит стала репетитором у девочек. Как-то раз она оказалась вместе с ними
на съемках очередного фильма Де Милля. "Я была заинтригована,"
- так вспоминала Хэд о том визите. Очевидно, именно это событие и сподвигло
девушку откликнуться на объявление о поиске художника по костюмам. Когда
Говард Грир, главный дизайнер Paramount, попросил примеры ее работ, Эдит
вернулась на следующий день с портфолио, полным рисунков, которые она
одолжила у студентов из Chouinard Art College. "Говард сказал, что
никогда не видел столько таланта в одном портфолио. Я получила работу",
- делилась Хэд. Хотя ее обман вскоре раскрылся, Грира эта уловка весьма
позабавила и он начал учить Эдит делать наброски. Первые месяцы на Paramount
она рисовала эскизы для Грира и его ассистента, Трэвиса Бэнтона, но затем
ей доверили категорию вестернов (“horse opera class”), для которых четыре
года Хэд делала кожаные ковбойские "наштанники".

Следующей ступенью по карьерной лестнице стал, так называемый,
"отдел бабушек" ("grandmother class"), "Это место,
где кто-то другой одевает ведущих актеров, а ты работаешь с персонажами
старушек и тетушек и со всеми, кто еще остался", - так Эдит отзывалась
об этом периоде.
Когда Говард Грир уволился, чтобы открыть свой магазин на Родео-драйв,
Хэд назначили дизайнером-ассистентом под руководством Трэвиса Бентона.
Он давал ей возможность проектировать костюмы только тогда, когда был
сам очень занят, или когда ему просто не нравилась актриса. Свои первые
лавры она снискала в 1932 году, когда Трэвис Бэнтон отправился на показ
коллекций моделей в Париж, а заменившая его Эдит должна была создать костюмы
для нового фильма Мэй Уэст. Заносчивая кинодива высказала новенькой свои
указания: «Мои платья должны сидеть достаточно свободно, чтобы доказать,
что я дама, и быть достаточно узкими, чтобы показать, что я женщина».
Эдит Хэд поняла, что имела в виду Мей Уэст, и отчасти благодаря ей фильм
побил все кассовые рекорды и спас Paramount от банкротства.

Mae West, (She Done Him Wrong, 1933)
Когда Уэст вернулась в кинематограф в картине «Майра Брекинридж» («Myra
Breckinridge», 1970), она настояла, чтобы в ее контракте на месте дизайнера
была указана Хэд.
Она проявила также понимание и в отношении Барбары Стенвик, фигура которой
оставляла желать лучшего. Она окутала ее золотой парчой и осыпала стразами
- и вот уже у Голливуда появился новый секс-символ, а у Эдит - новая подруга.
Но самым большим ее талантом было умение молчать, благодаря которому она
стала близким другом для многих звезд.
Бэнтон ушел со студии в 1938 году, и вот тогда Эдит Хед стала главным
дизайнером Paramount Studios. Она была единственной женщиной, занимавшей
столь высокий пост в то время. Эдит делала костюмы для 50 фильмов в год
и работала по шестнадцать часов в день. Хэд говорила, что она представляет
собой комбинацию психиатра, художника, модельера, портного, историка,
медсестры и агента по продажам.

Эдит была верна Paramount в течении 44 лет, хотя ее иногда
"одалживали" для работы и MGM, Warner Brothers Studios, Universal,
Columbia , and 20th Century-Fox. В 1967 году, Эдит подписала долговременный
контракт с Universal Studios, где и оставалась до конца жизни.
«Эдит была скорее координатором, чем модельером», - отмечала Лоретта Юнг,
для которой та делала костюмы к пяти фильмам, и это полностью соответствовало
собственной оценке Эдит. «Я знаю, что я вовсе не творческий гений, - говорила
она сама о себе. - В дипломатии я сильнее, чем в эскизах». Благодаря этому
она смогла удержаться в «Парамаунт» и за эти тридцать лет одевала всех
кумиров, от Лиз Тейлор и Бетт Дейвис до Грейс Келли, стилю которой подражало
затем целое поколение. С одним только Альфредом Хичкоком она сделала 11
фильмов, поскольку лишь ей он доверял, когда дело касалось того, чтобы
спрятать таинственные глубины его холодных блондинок за буржуазной одеждой.
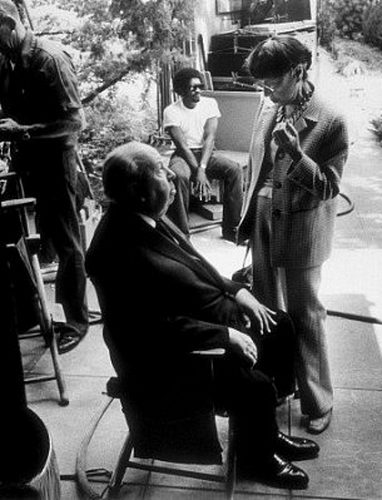
Эдит Хэд с Альфредом Хичкоком на съемках
Когда в 1948 году впервые была присуждена премия «Оскар» за лучшие костюмы, 50-летняя Эдит Хэд была уверена, что она достанется ей, хотя бы за одно только «умение выживать», как намекала она на особенности работы в этой отрасли, полной интриг. Она была совершенно растеряна, когда вышла из зала с пустыми руками. Правда, в последующие годы она неоднократно завоевывала высшие награды Голливуда.

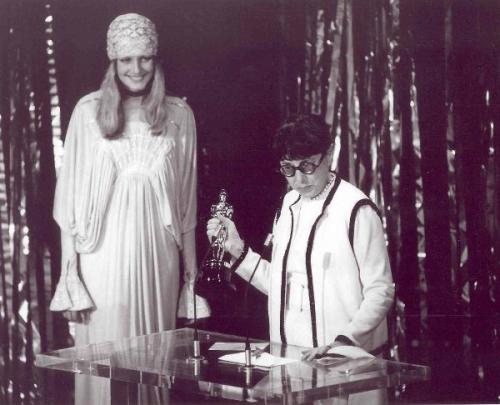

В 1949 году Хэд все-таки получила "Оскар" за исторические костюмы
к черно-белому фильму «Наследница» (The Heiress). В 1950 последовало уже
два "Оскара": один за цветную картину по библейским мотивам
Сесила ДеМилля «Самсон и Далила» , а второй за черно-белую ленту «Все
о Еве» (All About Eve), где она проектировала костюмы Бетт Дэвис. В 1951
году "Оскаром" были отмечены костюмы для Элизабет Тейлор в черно-белом
«Место под солнцем» (A Place in the Sun). Платье-буфон, без лямок, которое
носила Тейлор в фильме, стало очень популярным и продавалось под именем
Эдит Хэд. С этого момента началась крепкая дружба Хэд и Тейлор.
В 1953 году Хед получила еще один Оскар за фильм «Римские каникулы» (Roman
Holiday), где Эдит работала с восходящей звездой Одри Хепберн. В следующем
году была еще одна аналогичная награда «Сабрину» (Sabrina). Правда, большинство
нарядов для мисс Хепберн сделал французский кутюрье Юбер де Живанши. Но
он не был даже упомянут в титрах.

После «Сабрины» Хэд не побеждала в номинации до 1960 года, когда вышли
«Факты из жизни» («The Facts of Life»). Восьмую и последнюю статуэтку
ей вручили за работу в фильме "Афера» (The Sting, 1973), первом фильм,
за который она получила награду, одевая звезд-мужчин: Пола Ньюмена и Роберта
Редфорда.
Edna Mode "The Incredibles", 2004

Эдна МОД Рост: 112 см. Вес: Не скажу, дорогуша. Cверхспособности: Супердизайнер
костюмов супергероев. Суперпрофессионализм: Блистательная и успешная,
Эдна Мод начинала карьеру как ведущий модельер костюмов для супергероев.
Теперь она вошла в элиту дизайнеров мира, и ее авторские работы потрясают
воображение на показах в Милане, Париже и других важных центрах моды.
Однако Э до сих пор не утратила страсти к моделированию супер костюмов.
Ей есть, что предложить новому поколению супергероев: сочетание супертехнологий
и самого изысканного вкуса на планете.
Прототипом этого персонажа стала Эдит Хэд.

Ingrid Bergman, (Notorious, 1946)

Ginger Rogers, (Lady in the Dark, 1944)

Veronica Lake, (Sullivan's Travels, 1941)

Audrey Hepburn (The Roman Holiday)

Audrey Hepburn (Sabrina)

Barbara Stanwyck, (Ball of Fire, 1941)
Полина Клюкина
 |
|
Полина Клюкина: Да, я пишу рассказы и, скорее всего, не о любви к России, это точно.
Виктор Ерофеев: А о любви просто.
Полина Клюкина: Нет. Человек и, наверное, какой-то чужой жизненный опыт. В каждом рассказе читается какое-то такое недовольство, наверное, крестьянское недовольство.
Виктор Ерофеев: Вы из крестьянской семьи?
Полина Клюкина: Ну, у меня все дедушки, бабушки, прабабушки из деревни. И такие гены во мне есть.
Виктор Ерофеев: Наши слушатели слушают вас сейчас и думают, читать произведения или не читать. Что вы можете сказать им такого, чего они не знают? Как вы думаете, Полина, что им можно такое рассказать? Вы говорите, про любовь вы не пишете, значит, вы не можете поделиться своими какими-то откровениями про современное поколение, как они любят.
Полина Клюкина: Наверное, все-таки не про современное поколение, а про поколение моих родителей.
Виктор Ерофеев: Вы любите их?
Полина Клюкина: Да.
Виктор Ерофеев: А за что?
Полина Клюкина: Потому что это люди, которые пережили этот перелом.
Виктор Ерофеев: Как все мы.
Полина Клюкина: Как они адаптировались к этому. Я не могу сказать, что все адаптировались. Глядя на свою маму, ей это удалось. Она смогла, сумела попасть в эту струю. Но очень многие сломались.
Виктор Ерофеев: Это важная тема.
Полина Клюкина: В том то и дело, что я росла в деревне с мальчишками и видела все это и сейчас вижу, как мои все родственники живут. Это не лучшее. Поэтому я так и говорю, что это очень по-московски.
Виктор Ерофеев: Мы говорим сейчас о том, о чем действительно стоит говорить с молодыми писателями. Тематика – отношение к России, отношение к родителям, отношение к любви. И я так понимаю, что действительно, с точки зрения наших писателей, хотя страна прекрасная и города прекрасные, но жить трудно. Да, Полина?
Полина Клюкина: Да.
Виктор Ерофеев: А почему трудно? Что, рук, ног нет у людей?
Полина Клюкина: У людей-то как раз есть, но порой создается впечатление, что никому этому не надо – этих рук, ног.
Виктор Ерофеев: А что надо?
Полина Клюкина: Очень много людей не востребованы просто, сидят где-то и занимаются непонятно чем. Что надо? Это сложно сказать.
Виктор Ерофеев: Какой у вас писатель любимый?
Полина Клюкина: Оскар Уайльд. Я очень люблю Акутагаву. Если из русских писателей, я очень люблю Чехова, рассказы Чехова, и как любая девушка я люблю бунинские «Темные аллеи».
Виктор Ерофеев: А почему любая девушка любит «Темные аллеи»? Ведь это очень мужские рассказы.
Полина Клюкина: Вот об этом как-то я не думала.
Виктор Ерофеев: Ну, подумайте тогда.
Полина Клюкина: Хорошо.
Виктор Ерофеев: Полина, расскажите, пожалуйста, какой-нибудь свой рассказ, что там происходит, в чем сущность, смысл? Как называется?
Полина Клюкина: «Птицы», который первый пришел на ум. Как раз о деревне. Хотя я не назову себя прямо деревенщиком. Просто когда есть какие-то мысли о доме, наверное, поэтому и рассказы появляются все-таки о родине. Однажды моя тетя попросила написать меня рассказ о своей жизни, а жизнь там, дай Боже, какая несчастная. Рассказ этот до сих пор я ей не показала.
Виктор Ерофеев: Стесняетесь.
Полина Клюкина: Нет, дело не в стеснении. Потому что это откровение, это большое откровение. И я не уверена даже, что она меня за него простит, хотя она просила именно об этом. Это женщина, ей 50 лет, она спилась, спилась по той причине, что когда-то у нее был молодой человек, у которого его родители были против… В общем, она ему отказала, и из-за нее он с собой покончил. Дальше у нее начались просто безудержные муки, она прекратила появляться домой, чем дальше, тем больше. Потом появился сын, которого она отдала моей бабушке, и бабушка его вырастила.
Виктор Ерофеев: Ну, почему в стране такое несчастье? Написали бы что-нибудь веселое.
Полина Клюкина: Мне кажется, даже менталитет наш не позволит веселиться. Я даже по себе могу сказать. Я не самый веселый человек, и у меня нет даже таких рассказов.
Виктор Ерофеев: Вы верующая?
Полина Клюкина: Да, я верующая.
Виктор Ерофеев: Давно?
Полина Клюкина: Ну, если по-честному верующая, то, наверное, лет шесть. Я начала соблюдать все посты, это опять же началось все с бабушки. Я жила в деревне каждое лето, и так само собой получилось, что для меня мои вот эти родственники, мое начало – это, конечно, святое. И вера началась с веры в них.
Виктор Ерофеев: Полина, вы действительно, молодая, от сохи, условно говоря. Когда было произнесено слово «Абрамович», вас прямо передернуло. А если бы Абрамович попросил вашей руки, вы бы отказались выйти замуж за такого богатого человека?
Полина Клюкина: Да.
Виктор Ерофеев: Вот прямо приходит Абрамович в студию…
Полина Клюкина: У меня нет какого-то табу.
Виктор Ерофеев: И говорит: «Полина, будьте моей женой!» А вы говорите: «Нет, не хочу».
Полина Клюкина: Ну, хорошо, пускай звонит.
Виктор Ерофеев: А почему? Не хотите за богатого человека замуж выходить? Ну, понятно, по любви.
Полина Клюкина: У меня нет каких-то целей, табу, еще чего-то. Как получится, так и получится.
Виктор Ерофеев: То есть по любви только?
Полина Клюкина: Наверное.
Виктор Ерофеев: Ну, только по честному.
Полина Клюкина: Наверное, да, потому что я за самодостаточность в первую очередь. Это очень важно.
Виктор Ерофеев: А поплавать на яхтах, написать какой-то…
Полина Клюкина: А на что я сейчас, собственно, тружусь и так далее?
Виктор Ерофеев: «Полина, что бы вы сказали, если бы увидели Льва Толстого?» Что бы вы сказали Льву Толстому?
Полина Клюкина: Я бы ему рассказала про свою очень близкую подругу, у нее все – Лев Толстой, у нее блокнотик Лев Толстой, у нее мысли – Лев Толстой.
Виктор Ерофеев: Вот бы обрадовался Лев Толстой. Как зовут подругу?
Полина Клюкина: Маша, Маша Бессмертная.
Виктор Ерофеев: С такой фамилией только общаться с Толстым.
Полина Клюкина: У нее бабушка актриса, это глубоко интеллигентная семья.
Виктор Ерофеев: Тоже писательница?
Полина Клюкина: Ну, вроде как да.
Виктор Ерофеев: Ну, посмотрим, еще молодая. Давайте мы тоже вас спросим, чем писатель отличается от журналиста, на ваш взгляд, Полина? На самом деле, ключевой вопрос.
Полина Клюкина: Журналистика – это все-таки, наверное, передача информации.
Виктор Ерофеев: Это точно.
Полина Клюкина: Передача информации, а здесь существует атмосфера, существует все-таки какая-то позиция. Я, наверное, за журналистику больше объективную, не оппозицию, только так.
Виктор Ерофеев: То есть вы не диссидентка?
Полина Клюкина: Нет.
Виктор Ерофеев: Сказала она с очаровательной улыбкой. Значит, вы за Путина и Медведева вместе взятых?
Полина Клюкина: Я вообще в стороне от этого.
Виктор Ерофеев: Ну, где же вы в стороне? Вы же в той же самой стороне, где и они. Как же в стороне то? Вы в общежитии, разве это сторона?
Полина Клюкина: Поэтому я об этом и умалчиваю. На самом деле, я уже об этом говорила, это читается в моих рассказах, что я не в восторге от ситуации, которая…
Виктор Ерофеев: Я не знаю ни одного писателя, который в восторге. Даже самый, который просто ходит на прием к Путину каждый день, если такой есть…
Полина Клюкина: Писатели – может быть, нет, но существуют такие режиссеры.
Виктор Ерофеев: То есть вы тут сошлись с Леонидом. Полина, очень интересно, значит, журналистика – это передача информации, а писательство Это что?
Полина Клюкина: Это все-таки и атмосфера, и люди, не делающие поступки, а журналистика – это просто констатация факта.
Виктор Ерофеев: А что такое вдохновение?
Полина Клюкина: Это, наверное, то, что сопровождает начинающего писателя. А потом я, наверное, уже к этому отношусь как к работе.
Виктор Ерофеев: Вдохновение как работа.
Полина Клюкина: Да. Вовремя сесть и заставить себя.
Виктор Ерофеев: Вовремя сесть и заставить – это вдохновение?
Полина Клюкина: Ну, потом оно приходит.
Виктор Ерофеев: Что такое вдохновение?
Полина Клюкина: Это, наверное, знаете, что? Когда едешь в метро и видишь каких-то людей, которые чем-то тебя заинтересовали, и ты это несешь, и больше ни о чем не думаешь, до дома. Ты врываешься, не снимая просто обуви, садишься и начинаешь писать об этом. Вот это, наверное, и есть вдохновение.
Елизавета Яковлева-Уранова-Сандунова
 |
|
Эта история, быстро обросшая самыми эффектными деталями, вошла в театральные анналы как образец героической борьбы молодых актеров за свою любовь, борьбы, увенчавшейся благодаря их самоотверженности и предприимчивости, блистательным успехом, несмотря на козни влиятельных противников. О чете Сандуновых охотно писали мемуаристы. Один из них, известный театрал Александр Михайлович Тургенев, оставивший подробный, хотя и малодостоверный рассказ об этом эпизоде, утверждал, что “Безбородко прислал Лизаньке 80 тысяч ассигнациями; она взяла их и кинула в камин. 80 тыс. государственных векселей сгорело, не выменяв собою и даже одного поцелуя”.
По словам современного театрального журналиста А. Лопатина, “историю ее Елизаветы Сандуновой. любви и замужества запечатлели абсолютно все историки русского театра”. Лопатин остроумно предположил, что эта легенда могла отразиться в финале “Капитанской дочки”, где Маша Миронова вымаливает у государыни прощение Гриневу. О происшествии в Эрмитажном театре писали авторы некрологов Сандуновой и статей о ней и ее муже. Автор ставшей классической “Летописи русского театра” П.Н. Арапов даже посвятил этой истории водевиль “Лизанька”, с успехом шедший на сцене. И хотя в конце XIX — начале XX века был опубликован ряд документов, которые должны были бы побудить историков поставить многие аспекты этой версии под сомнение, инерция легенды оказалась слишком сильна.
История Сандуновой — целый роман. Талантливую Лизаньку Уранову “заметил” великий сластолюбец Безбородко, но Лизанька была влюблена в Сандунова и не поддавалась обещаниям Безбородко. Говорили, что влюбленный вельможа подарил Урановой громадную пачку ассигнаций на несколько десятков тысяч рублей, но Лизанька на глазах богача бросила всю пачку в горящий камин. Тогда Безбородко решил действовать иначе: приказал выслать Сандунова из Петербурга в Херсон, а Лизаньку собирался похитить и увезти в свой “сераль”. Но в день, назначенный для похищения, Екатерина приказала играть в Эрмитажном театре “Федула с детьми” с участием Лизаньки. Уранова знала уже о высылке Сандунова и решилась на отчаянную меру: во время спектакля внезапно стала на колени, протягивая к ложе Екатерины составленное ею прошение. Вдогонку за Сандуновым немедленно был послан курьер, актера вернули в Петербург и тотчас же обвенчали с Урановой, а вскоре после брака Сандуновы были переведены в Москву.
Законы жанра побуждают автора спрессовать события в один
день, примыслить высылку и эффектное возвращение жениха, похищение Лизаньки
в “сераль” и пр. Но в целом ход событий излагается здесь в полном соответствии
с устоявшейся версией. Вероятно, вытеснить ее из массового культурного
сознания уже невозможно, да и незачем — красивая легенда имеет право на
существование вне зависимости от своей фактической обоснованности. И все
же исследователям истории российского двора и русского театра имеет смысл
еще раз обратиться к этому сюжету и подвергнуть имеющиеся в нашем распоряжении
данные тщательному анализу. Перед нашими глазами предстанет картина, возможно,
несколько менее идеализированная, но не менее яркая и драматическая, а
главное — исполненная глубокого историко-культурного значения.
Первый раз судьбы великой императрицы и юной воспитанницы театрального
училища пересеклись годом раньше. 29 января 1790 года Лиза Уранова впервые
выступила на сцене Эрмитажного театра в комической опере “Дианино древо”
композитора В. Мартина-и-Солера, которого в это время как раз ожидали
в Петербурге. Либретто оперы написал прославленный либреттист Л. Да Понте,
а перевел на русский язык старейший актер русского театра И. Дмитревский.
Лиза исполняла роль Амура. Екатерина сочла, что “La piиce n’a pas le sens
commun”, но похвалила “Лизу и музыку”. На следующий день эта тема была
продолжена. “Разговор о Лизе, Сандунове, pourquoi les empecher de se marrier?
Пожалован ей перстень в 300 рублей, и при отдаче приказано сказать, что
вчерась пела о муже, то бы иному, кроме жениха, перстня не отдавала”,
— это высочайшее повеление занес в свой дневник А. Храповицкий, секретарь
императрицы и одновременно управляющий императорскими театрами. Екатерина
ссылалась на арию из “Дианина древа”, в которой Лиза, только превратившаяся
из мальчика в девушку, пела:
| По моим же зрелым годам Муж мне нужен поскорее, Жизнь пойдет с ним веселее, Ах, как скучно в девках нам! |
Императрица продемонстрировала исключительную осведомленность в жизни театральной труппы. Она знала и о романе дебютантки с актером Силой Сандуновым, прославившимся исполнением ролей слуг, и о препятствиях, которые чинят их браку. Впрочем, ухаживания Безбородко за юной студенткой театрального училища и ее сопротивление его домогательствам уже стали к тому времени предметом сплетен в придворных кругах. “Лизанька ни на какие обещания графу не поддается”, — писал из Петербурга на юг в действующую армию Потемкину его секретарь М.А. Гарновский. Письмо это не датировано, однако в нем говорится также, что архитектор Старов был отправлен в распоряжение светлейшего князя “10-го сего месяца”, между тем известно, что И.Е. Старов выехал из Петербурга 10 января 1790 года и 4 февраля прибыл в Яссы. Таким образом, письмо Гарновского было написано во второй половине января, то есть незадолго до или в те самые дни, как Екатерина сделала свои распоряжения насчет будущей судьбы актрисы.
Императрице уже доводилось распекать Безбородко за то, что он подарил 40 000 рублей итальянской актрисе. Она хорошо знала своего ближайшего сотрудника и придворные и театральные нравы и понимала, что без ее вмешательства сопротивление, которое оказывает Лиза могучему вельможе, не может оказаться слишком длительным. Судя по тональности обращенного к молодой актрисе назидания беречь девичью честь, государыня явно полагала, что на этот счет есть основания тревожиться. Во всяком случае, ее наставления Храповицкому были ясными и недвусмысленными.
У Екатерины уже был опыт устройства свадеб. Полугодом ранее ее фаворит Александр Мамонов обратился к ней с просьбой отпустить его и позволить ему жениться на княжне Дарье Щербатовой. Молодые люди упали перед императрицей на колени, моля о прощении и снисхождении к их взаимной любви. Уязвленная, но душевно тронутая государыня, несмотря на сильные переживания, пошла навстречу пожеланиям влюбленной пары, щедро одарив ее перед свадьбой. По любопытному совпадению, разрыв Екатерины с Мамоновым пришелся на те же дни, что и начало хлопот по постановке на русской сцене еще одной комической оперы тех же авторов — композитора В. Мартина-и-Солера и либреттиста Л. Да Понте. Русская версия либретто была также подготовлена И. Дмитревским.
“Изготовлена была русская Cosa rara ; отказали. С утра невеселы. Слезы. Зотов сказал мне, что паренька отпускают, и он женится на кн. Дарье Федоровне Щербатовой”, — говорится в дневнике Храповицкого в записи от 18 июня. Опера “Редкая вещь” (“Cosa rara”) начинается с того, что в ноги к испанской королеве Изабелле бросается крестьянка Лила и просит избавить ее от домогательств местного алькальда и отдать замуж за ее возлюбленного Любима, который хитростью или насилием “удален из села”. Тронутая Изабелла повелевает вельможе Коррадо и своему сыну, Инфанту, сторожить Лилу до окончания разбирательства. Оба они пленяются красотой прекрасной крестьянки и пытаются соблазнить ее бриллиантами, однако Лила остается неколебимо верна своему суженому. “Как знатного вельможу я вас почитаю, как надзирателя уважаю, как человека в старых летах люблю, как волокиту ненавижу, как соблазнителя презираю и гнушаюсь”, — говорит она Коррадо. В соответствии с законами жанра этот несколько мелодраматический сюжет оттенен комической парой. Подруга Лилы Гита существенно уступает главной героине по части патетичности, она игрива и склонна к лукавству, однако ее добродетель столь же незыблема. Именно она, как и полагается субретке, исполняет главную моралистическую арию:
| Престаньте льститься ложно И мыслить так безбожно, Что деньгами возможно В любовь к себе склонить. Тут нужно не богатство, Но младость и приятство Еще что-то такое <…> Что может нас пленять, Что может уловлять. Любовники слепые, За перстни дорогие, За деньги золотые Красотки городские Лишь могут вас ласкать. |
Естественно, благодаря королеве вся коллизия в конце концов разрешается
благополучно. Соблазнители раскаиваются, а обе девушки, щедро вознагражденные
Изабеллой за свои строгие правила, венчаются с сужеными. “Редкая вещь”
была поставлена в придворном театре в октябре 1789 года, а в 1790-м на
роль добродетельной поселянки Гиты была введена Лиза Уранова. В действительности,
дело обстояло, однако, куда менее пасторально, чем на сцене. Версия мемуариста
о том, что Безбородко “увидел все свои приступы Лизанькою со стоической
твердостью отвергнутыми”, опровергается текстом прошения, поданного Елизаветой
Урановой императрице со сцены театра, которое было в 1904 году опубликовано
И.Ф. Горбуновым:
Я государыня имела жениха, который своею ко мне привязанностью стоит всей моей горячности и любви, и была равна с ним состоянием и чувствиями. Я решилась разделить с ним судьбу мою, на что он и я получили от директоров и позволение, и ничем другим я не была занята, кроме моей должности и привязанности к человеку, в котором я полагала все мои благополучия, но вдруг открылись хитрые и по молодости моей непредвиденные действия, которые невольно отогнали от меня моего жениха. Я увидела, но поздно, что нужно было только меня расстроить в душе моей и воспользоваться моей неопытностью. Прости Государыня, что я всего того не могу начертать, что со мной происходило и что за угрызение ощущала в душе моей, заслужа и справедливое отвращение жениха моего и любовника и все оное время я не имела свободного часа от моего раскаяния — и ужас и стыд попеременно царствовали в душе моей. Но теперь, к совершенному моему счастию, я вижу моего жениха толь великодушна, что он, претерпя даже за меня все гонения, решился отдать Вам и Богу на суд всю принужденную погрешность.
Как ясно видно из этого документа, разрешение от директоров театра на венчание Лиза Уранова и Сила Сандунов получили. Очевидно, что оно было следствием распоряжения императрицы, данного 30 января 1790 года Храповицкому. Тем не менее выполнено оно не было. Не приходится сомневаться, что из всех участников этой коллизии только один мог позволить себе пренебречь высочайшей волей. Мотивы и расчет канцлера Безбородко восстанавливаются в данном случае без особенных затруднений. На плечах императрицы в эти месяцы были две тяжело складывавшиеся военные кампании. Война с турками на юге грозила потерей Крыма и территорий, отошедших к России по Кучук-Кайнарджийскому миру 1774 года. Шведы на Севере беспокоили Петербург. В Польше патриотический Сейм все отчетливей стремился ревизовать результаты раздела. Англия и Пруссия были близки к созданию антироссийской коалиции. К тому же европейским монархам надо было считаться с последствиями разгоравшейся во Франции революции.
В отсутствие находившегося на театре военных действий на юге Потемкина, Безбородко был, по существу, главным сотрудником Екатерины в области внешней политики. В этой обстановке он имел достаточно оснований полагать, что государыня не будет гневаться на него по столь ничтожному поводу, даже если она вовсе не забудет обо всей истории. Однако он, как и большинство европейских государственных деятелей того времени, недооценил железную волю самодержицы. Упорство и изобретательность Екатерины, позволившие ей с блеском выйти из тяжелейшего политического кризиса, проявились и в этом вполне частном случае. Положение Храповицкого было куда более двусмысленным. С одной стороны, он не мог не понимать, что не выполнил прямого распоряжения монархини, с другой — не мог позволить себе вступить в конфликт с Безбородко. По существу, ему оставалось изображать полное невмешательство в происходящее. Летом ему был сделано по этому поводу первое, слегка завуалированное предупреждение. Обсуждая со своим секретарем пребывание Безбородко на даче, императрица спросила его: “S’il y est avec sa famille? — Не знаю. — Il n’est pas hereux dans ses amours? — Не слышно. — Как не слышно? Я многое знаю”.
Между тем 11 сентября 1790 г. Сила Сандунов был уволен из театра. Причины и обстоятельства этого решения театральной дирекции остаются до сих пор не вполне ясными, и их можно только отчасти попытаться восстановить по сохранившемуся ответу театральной дирекции на жалобу актера. В этом документе говорится, что в своем “прошении” Сандунов “прописывает, что он подавал прежде сего прошение о прибавке жалования и о произведении ему впредь по тысяче триста рублей в год (жалование Сандунова на тот момент составляло 700 рублей в год.— А.З.), но получил увольнение от службы и без аттестата, а о бенефисе и дровяных деньгах, коих он не получал в семь лет, вовсе умолчано”. Актер просил “наградить его за все время службы единовременно годовым жалованием или бенефисом и дать ему аттестат, с прописанием в оном, что он служил при театре беспорочно семь лет”. Дирекция постановила выплатить Сандунову дровяные деньги в размере семидесяти шести рублей пятидесяти копеек и выдать ему аттестат с указанием, что он был уволен со службы “вследствие прошения от него подданного”.
Что же касалось “выдачи ему единовременного жалования или сбора за какую-нибудь пьесу”, то актеру было объявлено, что “к сему театральная дирекция сама собою приступить не может, не имея особого Ее Императорского Величества повеления давать бенефисы”. Аттестат Сандунову был выписан 17 сентября, а 23-го он получил расчет. Невозможно сказать, в какой мере увольнение Сандунова было связано с его непомерными денежными запросами, а в какой — с конфликтом вокруг Елизаветы Урановой. Возможно, дирекция просто воспользовалась финансовыми притязаниями актера как поводом, чтобы избавиться от него. Кроме того, ссылка на невозможность давать бенефис без повеления императрицы, вероятнее всего, была завуалированной формой отказа. Однако актер сразу же обратился к государыне с прошением, в котором романтические и материальные мотивы оказались переплетены самым замысловатым образом.
И я, мати, <…> просил директоров о прибавке жалования, потому что обижен слишком перед другими, хотя игрывал и перед лицем Вашим пред публикою, заслужив Воззрение Ваше и благоволение ее, но директоры, невзирая на то, что я комик, поступили со мной по трагически, то есть жалования не прибавили, да прочь без всякого отставили, несмотря на то, что другим дают они вдвое против меня жалования. Едят те столько же, сколько мне надобно, не вспомня и того, что играл и трудился я почти вдвое больше против других, но хотят, чтоб я ел вполовину перед другими меньше, для того, что я без защиты и без покровителей, так будто можно мне жить и вполсыта. Все то б это, Государыня, снес я по комически, да худо, когда нечем будет в зуб толкнуть, а еще и хуже, что домашние мои челядинцы, коих, могу похвастать, я имею на своих руках довольно, приняли все это драматически. Да и не то, Государыня, а вот что я здесь немножко позадолжал от челядинцев же, а заимодавцы мои так грубы, что не хотят без того меня выпустить из города, пока не расплачусь деньгами.
Прости, Великая Монархиня, что комик, хотя и больно сердцу, говорит по комически, однако ж я, право, обижен, семь лет прослужил, проиграл. <…> Я бы облился слезами пред Тобою и уверял, что правда — прижимка и слезы великую Екатерину трогают, но хоть горько больно, а плакать не могу, довольно того, мы лишь родимся, да и зарюмим. Я бы призвал в помощь силу выражения Демосфена и красноречие Цицерона, чтоб изъявить мою горесть, да это будет для комика слишком важно. <…> Всемилостливейшая Государыня, позволь, чтоб я вечно был Демокритом, и повели остаться мне вечно при себе, потому что лестно пред Вами шутить, повели остаться, но с прибавкою, или если надобно вытолкнуть меня из столицы, как некогда в Риме вытолкали Овидия, что много болтал о любви. И ведь и меня не жалуют некоторые за любовь и за помышления о женитьбе. И за это я, если бесповоротно и без всякой вины лишился и прибавки и места, так прикажите, Государыня, наградить меня за мои семилетние труды хотя годовым жалованьем. <…> Овидия содержали под караулом в замке на казенном, а я на свой счет жить должен. Да и Овидий, как видно из истории, и долгов на себе не имел ни копейки. Или хоть бы, наконец, господа директоры дали мне бенефис или сбор одного спектакля. <…>
Логика Сандунова чрезвычайно интересна. С одной стороны, как и подобает благородному жениху в комической опере, которого стремятся “удалить хитростью или насилием”, он ищет справедливости у монаршего престола и приписывает все свои бедствия своей любви и “помышлениям о женитьбе”. С другой, — в полном соответствии с жанровым амплуа комического слуги, исполнением ролей которых он прославился, — он сетует исключительно о потере “прибавки и места”. Стоит отметить, что весь пассаж про Овидия от слов “как некогда в Риме” до “долгов на себе не имел ни копейки” вставлен в текст письма вопреки синтаксическим нормам. Если его мысленно изъять, то запутанная логика изложения сразу проясняется. Складывается впечатление, что ссылка на любовную драму введена в письмо как бы поверх первоначальных жалоб, всецело написанных от лица комического персонажа. Во всяком случае, Сандунов просит императрицу не о дозволении соединиться с возлюбленной, но только о денежном вознаграждении за претерпленные гонения. Можно предположить, что на этот момент он уже воспринимал Елизавету Уранову как отрезанный ломоть.
Екатерина пошла навстречу актеру и разрешила ему сыграть бенефис. Кроме того, 17 сентября у нее состоялся очередной разговор с Храповицким. На этот раз императрица уже не скрывала своего гнева: “Разговор о девках театральных. От того погибла Франция, qu’on tombe dans la crapule et les vices: опера Буфа всех перековеркала. Je crois que les gouvernantes de vos filles sont les maqurelles. Смотрите за нравами!” Скорее всего, ко времени этого разговора письмо Сандунова еще не могло попасть в руки императрицы. Тем не менее связь этой тирады со скандалом вокруг Урановой не вызывает сомнений. Интересно, что на этот раз Безбородко выведен из-под удара. Вина за происшедшее возлагается на саму Елизавету (“театральные девки”), училищных гувернанток, занимающихся сводничеством, и косвенно на Храповицкого, который недостаточно внимательно “следит за нравами”.
Екатерина намеревалась сама заняться воспитанием морали
труппы императорских театров и воспитанниц театрального училища. 21 августа
1790 года Елизавета Уранова вышла на придворную сцену в “Редкой вещи”.
4 октября и 22 ноября опера была вновь представлена в Эрмитажном театре.
Императрица обычно держала театральный репертуар и распределение ролей
под строгим контролем, тем не менее определенно утверждать, что она приказала
назначить актрису на эту роль, чтобы напомнить ей о наставлении, которое
та получила после дебюта и которым пренебрегла, конечно, невозможно. Тем
не менее, произнося со сцены реплики вроде: “Вы, господа, думаете, что
женщин так же за деньги покупать можно, как собак, лошадей и кареты, однако
ж, не всех” — и принимая по ходу исполнения роли награду от королевы за
добродетель, Лиза должна была вспоминать про перстень, подаренный ей императрицей.
5 декабря Екатерина сообщила Храповицкому, “что наподобие игрища изволит
дать оперу в один акт, спрашивая, скоро ли можно сделать музыку и балет”.
Из последнего вопроса явствует, что императрица очень торопилась увидеть
свой новый замысел реализованным. Уже 7 декабря она читает Храповицкому
начало оперы. “Сказал я о правиле дуэта. На это плевать”, — замечает в
дневнике секретарь. 9-го следует продолжение. (“Это будет смешно”, — комментирует
Храповицкий.) 11-го императрица сообщает, что пьеса близка к окончанию,
и спрашивает, “поспеет ли музыка, чтоб играть на Святках”.
13 декабря опера “Федул с детьми” была закончена, 14-го переписана, и Храповицкому было вновь “приказано спешить с музыкой”, работать над которой должны были сразу два композитора: тот же В. Мартин-и-Солер и В. Пашкевич (последний, вероятно, должен был отвечать за музыку к стилизациям русских народных песен, изобильно представленных в либретто). Полностью подготовить оперу к святкам все же оказалось невозможным, но “первая проба Федулу, без платья” при авторе состоялась уже 3 января. А 10-го прошла “проба в платье”. Императрица выразила недовольство “Худушей (одна из ролей в либретто. — А.З.) и балетом”, а на следующий день распорядилась “отменить балет”.
В соответствии с традицией, комическая опера должна была
завершаться балетным дивертисментом, однако Екатерина пошла на сознательное
нарушение жанровых норм. Возможно, она так торопилась, что не хотела терять
время на отделку не понравившейся ей части спектакля, но еще вероятнее,
что она руководствовалась композиционными соображениями, о которых пойдет
речь ниже. В любом случае решение об отмене балета было принято императрицей
на следующий день после того, как ей доложили о новом повороте “сандуновской
истории”.
10 января 1791 года почти сразу после записи о “пробе Федулу в платье”
Храповицкий занес в дневник самую свежую новость: “Сандунов говорил на
счет дирекции, играя в свой бенефис на городовом театре”. Действительно,
в этот вечер состоялся давно разрешенный Екатериной прощальный бенефис
актера. По завершении спектакля Сандунов, исполнявший, как обычно, роль
слуги, обратился со сцены к зрителям со стихотворным монологом, где, среди
прочего, заявил:
| Теперь иду искать в комедиях господ, Мне б кои за труды достойный дали плод, Где б театральные и графы и бароны Не сыпали моим Лизетам миллионы И ко сердцам златой не делали бы мост, На то, чтоб щегольским Кристонов сделать рост. Сыщу ли это я, иль поиск мой напрасен, Не знаю, но со мной всяк будет в том согласен, Что в драме той слуга не годен никуда, Где денег не дают, да гонят лишь всегда. А девушки мои, пренежные служанки, Любили верность так, как истину цыганки. В угодность авторов, забывший страшный стон, Поподчивал меня рогами Купидон. Хоть силой авторов то сделано невольно, Но право оттого мне было очень больно, И я, не вытерпев обидных столь досад, Решился броситься отсель хотя во ад. Моя чувствительность меня к отставке клонит, Вот все, что вон меня отсель с театра гонит. |
В отличие от своего письма Екатерине, Сандунов практически не выходит
в этом монологе из амплуа комического слуги, жертвы любовных неудач и
притеснений материального характера. Он оскорблен и невестой, и знатными
господами, соблазняющими его Лизету миллионами и не платящими ему самому
того, что причитается ему по праву. Надо сказать, что по нормам общественных
приличий того времени подобное самочинное заявление, сделанное со сцены,
было неслыханной дерзостью, чреватой для актера самыми серьезными неприятностями.
Не случайно первым делом, узнав о произошедшем, императрица распорядилась
“у Сандунова, через полицию, взять рацею, им говоренную”. Однако, познакомившись
с текстом, она приняла решение взять актера под свою защиту. “Гнев за
Сандунова. Voilа ce que fait l’injustice! <...> гр. Брюсу (коменданту
Петербурга. — А.З.) велели это дело оставить, comme non avenue”, — записывает
Храповицкий в дневнике 12 января.
Он попытался оправдаться ссылками на дурную нравственность самого Сандунова, “обрюхатившего” другую актрису театра и соблазнившего мать Лизы, но эти доводы не были приняты во внимание. На этот раз к ответу был призван в том числе и Безбородко. Вечером того же дня Храповицкий должен был написать “письмо со всеми обстоятельствами и изъяснениями к гр. А.А. Безбородке, для доклада Ея Величеству”. Письмо это было подписано П. Соймоновым и передано Безбородко 13 января утром, но государыня соизволила принять графа только 16-го, в день премьеры “Федула с детьми”. Не исключено, что именно содержание этой оперы, которое могло стать известно Сандунову от кого-то из бывших коллег по императорской труппе, занятых в репетициях, и придало ему смелости, дав основание надеяться на высочайшее снисхождение.
Сюжет либретто “Федула с детьми” производит впечатление совершенно бессодержательного, чтобы не сказать нелепого, и именно так характеризуется исследователями. Пожилой крестьянин Федул, живущий с пятнадцатью детьми, многие из которых носят крайне экзотические имена, вроде Неофит, Митродора, Нимфодора и пр., решает жениться на вдове Худуше. Дети возражают против этого намерения, опасаясь, что мачеха их “ударит в лобок”, но Федул настаивает на своем. Параллельно за одной из дочерей Федула, Дуняшей, ухаживает “городской детина”. Поначалу она как будто бы привечает его домогательства, но после “воспитательной работы”, проведенной с ней отцом и сестрами, дает ему от ворот поворот. В либретто дело кончается ремаркой, по которой “вдовушка приходит с караводом, дети к ней подходят с поклонами, и начинается балет”, отмененный, однако, Екатериной при постановке.
Трудно понять,что могло заставить Екатерину так торопиться
с постановкой этого странного “игрища”, если не иметь в виду того обстоятельства,
что все ее комические оперы писались с “применением” и содержали в себе
намеки на те или иные обстоятельства придворной или политической жизни.
Для ряда опер этот аллюзионный фон уже выявлен. Представляется возможным
предложить такого рода истолкование и для “Федула”.
На наш взгляд, пятнадцать детей Федула — это труппа императорского театра,
а их отец — либо собирательный образ театральной дирекции, либо, что более
вероятно, собственно Храповицкий. В этом случае его матримониальные планы
намекают на намерение Екатерины взять жизнь труппы под свой непосредственный
контроль. Как поет в последней арии Федул, “она деток заставит скакать,
по своей дутке петь и плясать”.
Имя Худуша, которое дала высочайший автор либретто своему alter ego, — это, конечно, вполне характерный для ангальт-цербстского юмора Фелицы намек на ее чрезвычайную дородность. Впрочем, Федул и говорит, что она “отплеча до плеча больше чем аршин, в личике не приметно морщин”. Сама Худуша не произносит в опере ни слова, а только царственно появляется в финале. Понятно, что первоначальные возражения детей против женитьбы отца обозначают испуг актеров перед новым порядком, который будет теперь наведен в их жизни и которому им придется подчиниться. В финале пьесы они с поклонами подходят под руку мачехи.
Стоит отметить, что на следующий день после премьеры “Федула с детьми” Храповицкий, по-прежнему после истории с “рацеей” Сандунова находившийся в немилости, не был во дворце. Благодарность за спектакль досталась Соймонову. А про отсутствовавшего секретаря Екатерина сказала: “Chr... [Chrapovitsky] me boude”. Это “boude” (“дуется”) отчетливо корреспондировало с именем героя сыгранной накануне оперы, взятым из поговорки “Федул губы надул”, многократно повторяющейся в тексте либретто. Впрочем, если эта реконструкция прикладного смысла оперы в целом неизбежно остается гипотетической, то аллюзионный характер линии с ухаживанием детины за Дуняшей совершенно несомненен и давно указан в научной литературе. Речь здесь идет об истории отношений Безбородко и Елизаветы Урановой, которой с самого начала и была отведена главная в опере роль Дуняши. В финале “Федула с детьми” Лиза должна была исполнять старую песню “Во селе Покровском”, несколько переделанную в соответствии с сюжетом оперы:
| Приезжал ко мне детинка Из Санктпитера сюда. Он меня, красну девицу, Подговаривал с собой; Серебром меня дарил, Он и золото сулил. “Поезжай со мной, Дуняша, Поезжай”, — он говорил, Подарю тебя парчою И на шею жемчугом; Ты в деревне здесь крестьянка, А там будешь госпожа, И во всем таком уборе Будешь вдвое хороша. Я сказала, что поеду, Но опомнилась опять. Нет, сударик, не поеду, Говорила я ему: Я крестьянкою родилась, Так нельзя быть госпожой <…> Вот чему я веселюся, Чему радуюсь теперь, Что осталась жить в деревне, А в обман не отдалась. |
Актриса, игравшая саму себя, по существу, рассказывала со сцены историю
своих отношений с одним из самых могущественных людей империи. Однако
финал житейского варианта этого сюжета еще предстояло привести в соответствие
с его сценической версией. Если разрыв между словами, произносившимися
со сцены, и реальностью еще можно было допустить при исполнении оперы
на либретто Лоренцо Да Понте, то там, где автором выступала сама императрица,
жизнь должна была подчиниться. Лизе Урановой предстояло отвергнуть домогательства
“детинки из Санктпитера” сначала на сцене, а потом и в жизни. По описанию,
сделанному Ф. Кони “по собственным рассказам старожилов” через полвека
после событий, когда Лиза пропела последнюю арию, и все зрители осыпали
ее рукоплесканиями, императрица бросила ей свой букет. Лиза схватила его,
поцеловала и, побежав на авансцену, упала на колени и закричала: “Матушка
царица, спаси меня!” Зрители были поражены таким неожиданным явлением.
Екатерина встала и с участием и любопытством обратилась к певице. Лиза
в ту же минуту вынула просьбу и подала ее государыне.
Если этот рассказ верно излагает ход событий, то не приходится сомневаться, что высочайший букет, брошенный на сцену, был своего рода условным знаком, побуждавшим актрису переходить к следующей части спектакля. Падение актрисы на колени перед государыней с мольбой “учинить” ее “счастливой, совокупя… вечно с любезным… женихом”, воспроизводившее первую сцену “Редкой вещи”, было запрограммировано сюжетной логикой оперы и составляло ее неотъемлемую, если не главную часть. В этой перспективе особый смысл приобретает и отмена балетного дивертисмента в финале. В либретто оперы за процитированной арией Дуняши следует финальная реплика Федула: “Да вот моя Худуша идет с своим караводом! чево не достает? Как пава плывет! Примите ж ее с ласкою”. Тем самым мысли и взоры актеров и зрителей должны были обратиться от Дуняши-Лизы и ее греха и раскаяния к императрице и на сцене, и в зале, вслед за чем немедленно и должен был последовать возглас еще не снявшей сценический костюм актрисы, обращенный к настоящей государыне: “Матушка царица, спаси меня”. Вставной балетный номер мог только смазать этот эффект.
По сути дела, настоящий дивертисмент к спектаклю состоялся через два дня — им стала церемония свадьбы Лизы и Силы Сандунова, сопровождавшаяся пением песен, как специально написанных императрицей на этот случай (“Как красавица одевалася, / Одевалася, снаряжалася / Для милого друга / Жданого супруга. / Все подружки / Друг от дружки / Ей старались угодить, / Лизу все они любили, / Сердцем все ее дарили / За ласку, любовь, / За доброе сердце; / А доброе сердце /Всего нам милей”), так и взятых из другой ее комической оперы, “Февей”. Отметим, что подготовить столь детально разработанную церемонию в такой сверхкороткий срок без предварительного сценария было бы практически невозможно, да и не нужно.
Столь же неотъемлемой частью закулисного спектакля было и демонстративное торжество справедливости — награждение пятнадцати детей Федула новым отцом. Сразу после окончания оперы императрица распорядилась подготовить указ об отстранении Храповицкого и Соймонова от руководства театрами и назначении директором князя Н.Б. Юсупова. Указ был обнародован утром следующего дня, о чем Екатерина, как свидетельствует Храповицкий, рассказывала всем, “даже и Турчанинову (секретарь по принятию прошений. — А.З.)”. Одновременно Сандунов был принят в театр с годовым жалованием в 1200 рублей (на пятьсот больше, чем он получал до увольнения, но на сто меньше, чем он первоначально просил), а Лиза — с жалованием в 500 рублей (в следующем году оно было увеличено до 800).
Теперь становится понятно настойчивое, хотя и не реализованное из-за организационных проблем стремление государыни сыграть “Федула с детьми” на святках. Вся история с заступничеством всемогущей императрицы за бедных актеров и наказанием их влиятельных гонителей носила отчетливо святочный характер, усилить который должны были фольклорные и квазифольклорные мотивы, лежавшие в основе оперы. Любопытно, что русские народные песни и стилизации под них остались коронным номером в репертуаре Елизаветы Сандуновой до конца ее сценической карьеры.
Мы уже никогда не узнаем, почему Екатерина не стала реализовывать свой замысел ни на первом (16 января), ни на втором (20 января) представлении оперы. Возможно, на императрицу повлиял демарш Сандунова на бенефисе — в слишком близком соседстве с этим выступлением задуманное ею действо могло бы смотреться продолжением или ответом. Возможно, она не хотела подвергать публичному унижению Безбородко и отложила развязку, зная, что в конце января канцлер должен покинуть столицу. Безбородко выехал в Москву 30 января, а вернулся 13 февраля, на два дня позже достопамятного спектакля и накануне свадьбы Елизаветы и Сандунова. А может быть, императрица просто руководствовалась чисто эстетическими соображениями, прибегая к своего рода ретардации, и хотела сполна насладиться представлениями своей оперы и воздействием заключенных в ней аллюзий перед тем, как запускать всю машинерию внесценических эффектов на полную мощность. Во всяком случае, откладывать слишком долго она не могла — 24 февраля начинался Великий пост, на котором играть комедии, а тем более свадьбы было нельзя.
По свидетельству Ф. Кони, “несколько дней спустя после венчания” на представлении “Редкой вещи” при исполнении своей знаменитой арии Лиза Сандунова под аплодисменты зала бросила со сцену в ложу, где сидел Безбородко, туго набитый кошелек с деньгами, ранее подаренный ей вельможей. Разумеется, в эти дни никаких спектаклей в Петербурге уже не игралось. Следующее после упомянутых событий представление “Редкой вещи” в императорском театре состоялось лишь 6 мая. Соответствует ли действительности описанный Кони и приобретший широкую популярность в театральном фольклоре инцидент, установить уже невозможно, однако у многих театралов того времени имя Елизаветы Сандуновой связывалось именно с этой комической оперой:
| Хоть часто, Лизанька, ты редку вещь играешь, В которой надобно титул переменить, Но публику игрой и пеньем столь пленяешь, Что редкой опера тобой лишь может слыть, — писал в мадригале актрисе князь Г. Хованский. |
Как бы то ни было, императрица сочинила и поставила сразу две комические
оперы с одной и той же исполнительницей главной роли: одну на сцене придворного
театра, другую — непосредственно при дворе. При этом кульминационные моменты
обеих — финальный монолог Дуняши и жалоба Елизаветы Урановой на своих
гонителей — практически совпали. Впрочем, если театральное представление
увенчалось happy end’ом, то в жизни, как это нередко бывает, за счастливой
развязкой последовали новые драматические события.
Отношения четы Сандуновых с новым директором императорских театров князем Н.Б. Юсуповым тоже оказались исключительно тяжелыми. Тремя годами позже Сандунов вновь обратился к Екатерине с пространным письмом, в котором перечислял преследования, которым подверглись он и его жена. В этом письме он несколько раз жаловался на “слухи, которые были распущены об нас по всему городу и даже самим князем и с прибавкою, что мы оба очень развратную жизнь ведем”. Императрица вновь пошла навстречу актерам и приказала перевести Сандуновых подальше от их гонителей в Москву, где, однако, вокруг них тоже ходили чрезвычайно неблагоприятные слухи. “Говорили и о Сандунове, как он торгует бедной женой своей!” — записал в свой дневник 4 декабря 1799 года влюбленный в Елизавету Семеновну восемнадцатилетний Андрей Иванович Тургенев .
О специфической атмосфере в семье Сандуновых свидетельствует
и диалог, записанный 22 октября 1806 года Степаном Жихаревым. “Бедный
русский театр! <…> Со времени пожара все актеры без дела и повесили
головы. Что же касается актрис, то Сила Сандунов говорит, что их жалеть
нечего, потому что они имеют свои ресурсы. Селивановский заметил, что
его жена также актриса. — Так что же? — возразил Сандунов — жена сама
по себе, а актриса сама по себе: два амплуа, и муж не в убытке”. Неудивительно,
что семья актеров вскоре распалась из-за конфликтов вокруг дележа доходов
с коммерческих бань, по сей день носящих их имя.
Предложенная интерпретация не может быть полной без ответа на еще один,
последний вопрос. Зачем Екатерине все это понадобилось? С какой целью
в дни, когда полководческий гений А.В. Суворова под Измаилом и дипломатическое
искусство С.Р. Воронцова в Лондоне решали судьбу Российской империи, государыня
тратила время и силы на постановку комической оперы, воспитание нравственности
театральной труппы и высших сановников и устройство любовных дел одной
актерской четы? Ответить на этот вопрос помогают уже процитированные нами
слова Екатерины, сказанные ей Храповицкому 17 сентября 1790 года. Высочайшая
тирада началась и завершилась обсуждением “театральных девок” и их гувернанток,
однако по ходу дела и без всяких посредующих звеньев императрица коснулась
вопросов более фундаментального свойства: “От того погибла Франция, qu’on
tombe dans la crapule et les vices. Опера Буфа всех перековеркала”.
По-видимому, все дело здесь именно в связи, существовавшей в сознании Екатерины между нравственностью молодых актрис, оперой-буфф и крушением старого порядка во Франции. Представления о том, что причиной гибели великих держав является крушение моральных устоев высших сословий, относились к числу общепринятых клише политической мысли эпохи и были подкреплены в конце XVIII века огромной популярностью труда Э. Гиббона “Упадок и разрушение Римской империи” (1776—1787). Применить эту максиму к происходившим во Франции потрясениям, учитывая расхожую репутацию Парижа и французского двора как средоточия пороков и рассадника философии либертинажа, также не составляло труда.
Столь же общепринятой после выступлений Дидро и Д’Аламбера
была идея о роли театра как мощного средства политического и нравственного
воспитания общества. Екатерина относилась к театральным представлениям
с величайшей серьезностью, и с 1772 года, когда она отдала на сцену свою
первую комедию “О, время!”, рассматривала театр как один из важнейших,
наряду с журналистикой, если не самый важный инструмент формирования общественного
мнения и распространения своих идей и представлений. Естественно, как
самодержица, она считала себя непосредственно ответственной за поддержание
в публике моральных устоев, имеющих столь решающее значение для будущего
империи.
Опера-буфф получила всеевропейский резонанс в 1752 году, когда неаполитанская
труппа привезла в Париж оперу уже покойного композитора Дж. Перголезе
“Служанка-госпожа”. Ее успех привел к началу яростной дискуссии, получившей
название “война буффонов”. Через два года итальянские музыканты были изгнаны
из французской столицы, однако в культурно-исторической перспективе победа
осталась за ними. В качестве пропагандистов новой оперы выступил, в числе
прочих, весь круг энциклопедистов.
Демократические тенденции оперы-буфф сказались, в частности, и в сюжетно-тематическом ее пласте. Резко возросла роль, отведенная на сцене слугам. Они не только сплошь и рядом оказывались умнее своих хозяев, что случалось и в мольеровских комедиях, но и позволяли себе использовать свое интеллектуальное превосходство в собственных целях. В “Служанке-госпоже” служанка Серпина с помощью хитрых уловок выходит замуж за хозяина и подчиняет его своей воле. Да и в целом в жанровом каноне, созданном оперой-буфф, социальные перегородки оказывались в известном смысле проницаемыми. Своего рода консервативным ответом на вызов, брошенный буффонами, стало широкое распространение комической оперы.
Как писал один из ведущих исследователей этого жанра
Ж.-П. Гвиккьярди, место, где разворачивается действие комической оперы,
— это деревня, <…> ее интрига всегда основана на препятствиях, на
которые наталкивается пара главных героев на своем пути к счастью. Одно
из наиболее частых препятствий такого рода — это присутствие сеньора,
или, что то же самое, богатого человека, влюбленного в молодую женщину,
принадлежащую к низшему сословию. Образ сеньора всегда представлен в негативном
свете — это Дон Жуан, несущий в себе угрозу для простых деревенских парней.
<…> При этом надо заметить, что у совратителей находится сильный
союзник — сами девушки. Как сопротивляться тому, кто ухаживает за вами,
разговаривая с такой элегантностью? И тем более как сопротивляться соблазну
красивых нарядов, блеску драгоценностей?
В конце концов, однако, аристократ-либертен не достигает своих целей.
Столкновение двух миров кончается победой крестьян. Вместе с тем в финале
герои вместе с односельчанами поют и танцуют перед собравшимися придворными.
Они остаются тем, чем всегда и были, — дивертисментом для вельмож.
Эротическое вновь выступает здесь мощнейшей метафорой социального, а символическое табу на сексуальный контакт поверх сословных барьеров гарантирует незыблемость общественных отношений. Даже если девушка, в соответствии с выведенной исследователем формулой жанра, и оказывалась, подобно Елизавете Урановой, подвержена соблазну иного образа жизни, она должна быть возвращена к родной простоте нравов, а ее соблазнитель посрамлен.
| Я советую тебе Иметь равную себе; В вашем городе обычай Я слыхала ото всех, Что всех любите словами, А на сердце никого; А нас та вить в деревне Здесь прямая простота, — увещевала Дуняша-Лиза в финале “Федула” “детинку” — Безбородко, готовясь падать на колени перед государыней, а потом увеселять собравшихся в зале пением и танцами на своем свадебном торжестве. |
Американская исследовательница французского ancien rеgime Сара Маза обнаружила
своего рода исторический аналог комической оперы — так называемый “праздник
розы” (fкte de la rose), сельский ритуал, когда самая красивая и невинная
девушка в деревне увенчивалась розами в присутствии сеньора, который выделял
ей приданое и должен был выдать замуж. Подобные празднества приобрели
широкую популярность начиная с 1760-х годов, когда множество аристократических
семейств стало устраивать их в своих деревнях. Как пишет Сара Маза,
праздники розы не были простым утверждением сословной гегемонии, но скорее
перенесением в сельскую обстановку тех стилизованных социальных игр, которые
разворачивались в салонах эпохи рококо или в ложах “Комеди Франсез”. <…>
Начиная с 1760-х годов образованные аристократы начинают стремиться переформулировать
свои претензии на ведущую роль в национальной жизни и обосновать их такими
связанными с общественной пользой категориями, как достоинство, добродетель
и благотворительность. <…> Добродетель и бедность деревенской жизни
становятся медиирующими категориями, с помощью которых благородные дамы
и господа пытаются утвердить в глазах друг друга, как и других членов
образованной элиты, моральный статус и общественную полезность своей социальной
группы.
Однако такая интерпретация праздника сталкивалась с исходившей
из радикальных кругов альтернативой, согласно которой сеньор оказывался
соблазнителем и злодеем, угрожавшим как невинности девушки, так и процветанию
и покою сельских жителей в целом. “Власть и сексуальность” стали центральной
идеологической проблематикой всего праздника и приобретали “политическое
значение, которое могло быть использовано различными социальными группами
в разных целях”. Однако оба противоположных по направленности истолкования
этого культурного символа, по сути дела, исходили из одной предпосылки:
эротическая трансгрессия социальных границ угрожает основам социального
мира.
В сентябре 1790 года практически одновременно с обсуждением судьбы изгнанного
из театра Сандунова императрица с ужасом и отвращением читала “Путешествие
из Петербурга в Москву”, где добродетельный судья оправдывает крестьян,
убивших семью помещика, пытавшегося надругаться над крестьянкой накануне
свадьбы.
Разумеется, “право первой ночи” никогда не существовало в России на законодательном уровне, однако сексуальные отношения между барином и крестьянками были частью общепринятой социальной нормы. Радищев вдохновлялся не столько российской реальностью, сколько французской революцией. Как и его парижские современники, он видел в сексуальной распущенности высших сословий по отношению к низшим наиболее яркий и будоражащий воображение символ социального зла. Императрица была права, усмотрев в его книге “рассеивание заразы французской”. Впрочем, “Путешествие…” Радищева в ту пору было практически неизвестно публике. Между тем тот же круг вопросов находился в центре комедии, которая уже седьмой год гремела на всю Европу.
“Свадьба Фигаро” Бомарше, в которой слуга успешно защищает свою невесту от домогательств сеньора, по ходу дела едва сам не становясь любовником его жены, была с невероятным скандалом поставлена в Париже в 1784 году. Согласно распространенному в Париже и хорошо известному в России мнению, постановка “Свадьбы Фигаро” вызвала французскую революцию. Революционный дух пьесы сделал ее особенно популярной в это время всеобщего возбуждения умов. На одном из представлений комедии в 1790 г. голос одного из зрителей заменил последнюю строку заключительного куплета “Tous finit par des chansons” на “Tous finit par des canons”. Зал хором подхватил этот рефрен, который был рекомендован к исполнению для всех театров, которые охотно включали в репертуар пьесу, столь хорошо подходившую к ходу политических событий, не забывая отметить, что прежде она была запрещена, — писал Феликс Гефф в классической книге о судьбе “Свадьбы Фигаро”. В другой куплет публика вставила знаменитый революционный девиз “зa ira”.
В 1786 году на основе комедии Бомарше была создана самая
популярная опера-буфф XVIII столетия, написанная Моцартом на либретто
все того же Л. Да Понте, как раз писавшего в то время для Мартин-и-Солера
либретто “Редкой вещи”. Согласно воспоминаниям Да Понте, испанский композитор,
преклонявшийся перед гением Моцарта, разрешил ему прервать работу над
“Редкой вещью”, чтобы завершить “Свадьбу Фигаро”.
Годом раньше австрийский император Иосиф II запретил играть комедию Бомарше
в Вене. Естественно, либреттисту пришлось снять политически сомнительные
и считавшиеся неприличными пассажи. Однако сам сюжет был, в основном,
сохранен, и, по словам современного исследователя, “музыка отчасти восполнила
то, что было утрачено в либретто”. Моцарт достиг этого эффекта, изменив
традиционный принцип, по которому музыкальные темы распределялись по персонажам
в соответствии с их социальным происхождением. В его опере “низшие сословия
были подняты до музыкального уровня своих господ”.
Екатерина была восхищена первой комедией о Фигаро. Первая премьера оперы по “Севильскому цирюльнику”, написанной Паизиелло, состоялась в 1782 году в Петербурге. В том же году великий князь Павел Петрович, находившийся в Париже, пытался использовать свое политическое влияние, чтобы добиться для “Свадьбы Фигаро” цензурного разрешения. Потом, однако, и сама пьеса, и ее репутация начали вызывать у императрицы глубокое беспокойство. 22 апреля 1785 года в письме Гримму она жаловалась на грубость комедии и писала, что она “пронизана намеками” (“courue de sous-entendue”). “Русский Фигаро, или Женитьба Сандунова” — так называется самая подробная в исследовательской литературе биография актера, написанная К.Ф. Кулаковой. Даже не разделяя предложенное ее автором истолкование интересующих нас событий, нельзя не отметить, что связь скандала в Эрмитажном театре с общественной атмосферой, созданной успехом комедии Бомарше, она уловила абсолютно точно. Исследовательница справедливо усмотрела завязку всей “сандуновской истории” в резко негативной реакции императрицы на “Свадьбу Фигаро”, исполненную в 1785 году в Петербурге французской труппой.
Императрица внимательно следила за европейской, и в особенности парижской, литературной и театральной жизнью. Она знала о сценических и цензурных перипетиях комедии Бомарше и о неприятностях в жизни драматурга, о негодовании короля и поддержке, оказанной пьесе высшей парижской аристократией, включая некоторых членов королевской семьи, принимавших участие в любительском представлении “Свадьбы Фигаро”. Интересно, что в числе последних был и брат Людовика XVI граф д’Артуа — один из самых горячих энтузиастов ритуала fкte de la rose. В русских газетах публиковались новости о заключении Бомарше в тюрьму Сен-Лазар и о его триумфальном освобождении. После падения Бастилии Екатерина могла до конца оценить, к чему приводят фривольные нравы французского двора и французской публики. В этих нравах, а также в опере-буфф и упадке нравственности театральных актрис она усмотрела причины революционных потрясений.
Любовь, неверность и эротика традиционно составляют символический центр театрального представления, будь то трагедия, комедия, опера или водевиль. Так сексуальное становится базовой метафорой для социального и политического — как на сцене, так и в “реальной жизни”. Екатерина превратила банальное соблазнение молодой актрисы крупным вельможей в репрезентацию фундаментальной социальной проблемы, которая, однако, могла и должна была получить благополучное разрешение. Посягательство аристократа на простолюдинку, по крайней мере когда оно происходило на театральных подмостках или в “публичном пространстве” театрального закулисья, несло в себе угрозу “устоям”. Чтобы восстановить статус-кво, требовалось высочайшее вмешательство.
Комедии Бомарше, опере-буфф, созданной Моцартом на ее основе, и ее продолжению на парижских улицах императрица противопоставила свою версию комической оперы, тоже разыгранной и на сцене, и в жизни. При этом образцом для нее стала опера, поставленная в том же, 1786 году, что и моцартовская “Свадьба Фигаро”, созданная на основе либретто того же автора, который работал для Моцарта, композитором, которого она впоследствии пригласила к своему двору писать музыку для своих опер. Исторический резонанс поставленного ею спектакля не оставляет сомнений в том, что ей удалось создать поистине редкую вещь.
Лиззи Каплан
Американская актриса Элизабет Анна («Лиззи») Каплан, самые знаменитые роли которой - в фильмах «Дрянные девчонки» (2004) и «Монстро» (2008) - родилась в Лос-Анджелесе, Калифорния, в еврейской семье. Лиззи училась в средней школе Александра Гамильтона в Лос-Анджелесе. Её актерская карьера началась на телевидении с маленькой роли Сары в сериале «Чудики и чокнутые». После она была приглашена на ток-шоу Шерон Осборн. Лиззи снялась в музыкальном клипе Джейсона Мраза You and I Both.

Также на телевидении она снялась в сериале «Тайны Смолвилля» (она дебютировала в нем 6 ноября 2001 года, играя Тину Грир в эпизоде под названием «Рентген», а позже она появилась в этой роли 11 января 2003 года в эпизоде «Облик»). К 2004 году опыт у актрисы был уже большой, а вот заметных ролей не было. Но однажды ей повезло: у нее появилась заметная роль в фильме «Дрянные девчонки», где она играла лесбиянку Дженис Иен (названную в честь певца и поэта Джениса Иена). В этом фильме с Лиззи Каплан снимались Рэйчел МакАдамс и Линдсей Лохан. Во втором сезоне сериала «Вернуть из мертвых» Лиззи играла Эйвери Бишоп - подругу Тру Дэвис, роль которой исполняла Элиза Душку.
Лиззи Каплан вместе с Джейсоном Риттером на People’s Choice Award в январе 2007 года представляли победителя в номинации «Лучший саундтрэк из кинофильма». Недавно Лиззи появилась в проекте Дж. Дж. Абрамса «Монстро» в роли Марлены Даймонд. Также она снялась в фильме «Девушка моего лучшего друга», где сыграла Эми, соседку по комнате Алексис, которую играет Кейт Хадсон. На экраны фильм вышел 19 сентября 2008 года. В настоящее время Лиззи Каплан снимается в сериале «Настоящая кровь».
Молодая актриса была номинирована на премию «Сатурн» за роль в фильме «Монстро». Что еще об этой еврейской девушке? Она проживает на голивудских холмах с несколькими соседями по комнате. Жениха у нее пока нет, но зато есть любимая кошка, которую зовут Лиза Тертл - по имени ее любимого персонажа из сериала Saved by the Bell.
Дебора Роу
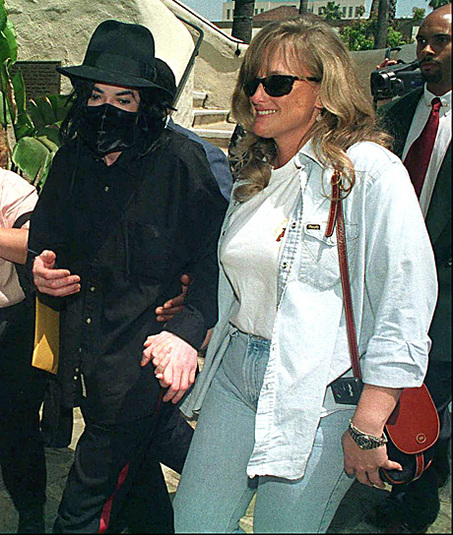
Бывшая супруга Майкла Джексона Дебора Роу (Deborah Rowe) заявила, что знаменитый певец не был биологическим отцом двух своих старших сыновей, сообщает в понедельник британский таблоид News of the world. "Король поп-музыки" скончался в ночь на пятницу в больнице медицинского центра Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в возрасте 50 лет. После смерти Майкла Джексона остались сиротами трое его детей - 12-летний Принц Майкл-младший, 11-летняя Пэрис Майкл Кэтрин, рожденные от Деборы Роу, и 7-летний Принц Майкл Второй по прозвищу Бланкит (Одеяло). Младшего ребенка Майкла Джексона выносила неизвестная суррогатная мать, которую, как утверждается, он никогда не видел.

В эксклюзивном интервью газете экс-миссис Джексон призналась,
что дети были зачаты от "неизвестного донора".
Также она сообщила, что певец "чувствовал себя очень одиноким"
после развода с Лизой-Марией Пресли и "безумно хотел детей".
По словам Роу, ради осуществления своей мечты известный певец не только
женился на ней, но и выплатил ей значительную сумму.
"Я получала за это деньги. Я родила (ему) детей и больше никогда
их не увижу", - сказала Роу.
"Король поп-музыки" познакомился с Роу, работавшей ассистентом
дерматолога, во время очередной пластической операции. Во время бракоразводного
процесса Роу отказалась от родительских прав. По мнению газеты, признание
Роу ставит под вопрос безоблачность будущего детей певца. Однако в понедельник
также стало известно, что дети не будут лишены родительской заботы.
В интервью CNN адвокат семьи Лонделл Макмиллан (Londell
McMillan) сообщил, что мать певца Кэтрин Джексон "хочет стать опекуном
детей".
"Миссис Джексон окружила любовью детей Майкла ... Она - чудесная
бабушка. Я не могу назвать ни одного человека, который справился бы с
этой задачей лучше", - сказал Макмиллан. В воскресенье отец певца
Джо Джексон сделал заявление, согласно которому только он и его жена имеют
право заботиться о детях Джексона. С целью выяснения причин смерти знаменитого
певца было проведено два вскрытия. Семья скоропостижно скончавшегося Майкла
не была удовлетворена результатами первого вскрытия, показавшего что Джексон
скончался от остановки сердца, и наняла частного патологоанатома, который
провел повторную аутопсию.
Одним из преимуществ повторного вскрытия является то, что у родственников появится шанс узнать что-либо раньше официальных данных, так как частный патологоанатом получит лабораторные результаты через одну-две недели, считает глава судебно-медицинских патологоанатомов полиции Нью-Йорка Макл Баден. В офисе же коронера (следователь, ведущий дела о подозрительной смерти) отмечают, что результаты официальных токсикологических тестов могут занять от четырех до шести недель. Однако в понедельник британский таблоид Sun опубликовал шокирующие подробности смерти Джексона. По данным газеты, на момент смерти певец был полностью лысым, на его теле были обнаружены многочисленные шрамы от пластических операций, а в желудке найдены медикаменты, назначение которых выясняется.
Имя Майкла Джексона по мере роста его популярности обрастало все новыми и новыми легендами: про него говорили, что он мессия, что он принимает наркотики и что он сменил цвет своей кожи посредством пластической хирургии. В прессе публиковали фотографии специальной барокамеры, где якобы спит Майкл Джексон, чтобы не состариться.
- В 2000 году в Монте Карло на церемонии World Music Awards 2000 Майкл Джексон был признан "человеком тысячелетия", а в 2001 году имя Майкла Джексона было включено в Зал славы рок-н-ролла, а певец отметил тридцатилетнюю годовщину своей артистической деятельности, вновь выступив на сцене с участниками группы Jackson Five. После терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне певец записал благотворительный сингл "What More Can I Give?", в записи которого приняли участие Бритни Спирс, Destiny's Child, 'N Sync и другие звезды.
- Майкл Джексон два раза выступал в Москве. Первый концерт состоялся 15-го сентября 1993 года на открытой площадке — Большой Спортивной Арене (БСА) стадиона "Лужники". Зрители слушали Джексона под проливным дождем. Второе выступление Джексона в России прошло в сентябре 1996 года на московском стадионе "Динамо".
- Самым успешным альбомом певца следует считать выпущенный в 1982 году "Thriller". Этот диск принес Майклу семь "Грэмми". В феврале 2009 года вышел альбом "Thriller 25", приуроченный к 25-летней годовщине релиза первого "Thriller". В сборник вошли девять оригинальных композиций со старого, а также ремиксы и новая песня "For All Time". "Триллер 25" вышел на первое место в чартах восьми европейских стран, достиг второй позиции в американских и третьей - в британских хит-парадах. В США было продано 166 тысяч экземпляров этого диска, до звания самого продаваемого альбома не хватило 14 тысяч проданных копий. Незадолго до смерти Джексона в голосовании канала MTV за лучший альбом всех времен победил именно "Thriller".
- Фирменное танцевальное движение, которое ассоциируют с Джексоном, а именно "Лунную походку", придумано не им, а степистом Биллом Бэйли. Но именно Джексон довел это движение до идеала и сделал своим фирменным. Танцор, исполняющий "лунную походку", движется как бы и вперед, и назад одновременно. "Лунная походка" считается одним из самых узнаваемых танцевальных движений в мире. Обычно это движение танцор выполняет, стоя боком к зрителям.
- Майклу Джексону приписывали много романов, тем не менее сам певец подтверждал слухи редко: об отношениях с Брук Шилдс он сам рассказал в одном из интервью. В последние годы Джексону приписывали отношения с Памелой Андерсон.
- Певец был женат дважды - в мае 1994 года в Доминиканской Республике на тайной церемонии певец сочетался браком с Лизой Марией Пресли, дочерью Элвиса Пресли. Союз продержался 18 месяцев. В ноябре 1996 года Джексон официально объявил об отношениях с ассистенткой своего дерматолога Дебби Роу - спустя несколько месяцев они поженились в Австралии.
- У Джексона трое детей. Дебора Роу родила сына Принца Майкла (Prince Michael) и дочь Пэрис Майкл (Paris Michael). Третий сын - Принц Майкл II (Prince Michael II) - появился на свет от неизвестной суррогатной матери, причем, по слухам, поп-идол даже никогда не встречался с этой женщиной.
- О здоровье Джексона также ходило много слухов, тем не менее, единственный недуг, в котором он признавался сам - витилиго: изменение пигментации. Именно из-за этого, по словам певца, его кожа так радикально посветлела.
- В июле в Лондонском зале O2 Arena должна была стартовать серия из 50 концертов Джексона под названием "This Is It!". Эту серию выступлений, которые Джексон заявил "последними в своей карьере", должно было посетить около миллиона человек.
- В 2010 году Майкл Джексон должен был открыть собственное казино в Лас-Вегасе. В оформлении игорного заведения должны были быть использованы образы зомби из знаменитого 14-минутного клипа исполнителя на песню "Thriller".
Материал подготовлен Glomu.Ru
А вот ещё один материал:
Решается судьба детей скончавшегося в ночь с четверга
на пятницу короля поп-музыки Майкла Джексона: специалисты по семейному
праву спорят о том, отдавать ли двух старших детей Джексона под опеку
их матери, Деборы Джейн Роу, медсестры еврейского происхождения.
Старшие дети Майкла — 12-летний Принс Майкл I и 11-летняя Пэрис Майкл
Кэтрин — евреи по матери. Третий сын Джексона, Принс Майкл II, был рожден
от суррогатной матери, установить происхождение которой не удалось. После
развода с Лизой Марией Пресли Майкл женился на ассистентке своего дерматолога
Деборе Роу. Это произошло в 1996 году, когда Роу была на шестом месяце
беременности.

В 1999 году семья Джексона и Роу распалась, и Дебора подписала соглашение об отказе от родительских прав. Впоследствии она опротестовала этот документ, помимо всего прочего ей не нравилось то, что ее дети будут мусульманами. Опасения не были лишены оснований: поп-певец стал членом движения «Нация ислама», объединяющего мусульман-афроамериканцев. Суд рассмотрел апелляцию и вынес решение в пользу Роу, но затем дело об опеке было отозвано для пересмотра. Заплатив Роу за отказ от родительских прав, Джексон, судя по всему, хотел стать «единственным родителем своих детей», считает профессор права Калифорнийского университета Грейс Ганс Блюмберг. В итоге, Джексон умер, а его дети остались без родителя. Юристы сходятся во мнении, что родительские права Роу могут быть восстановлены, даже несмотря на то, что Джексон в своем завещании указал другого опекуна.
Поверенная Деборы Роу Ирис Финсилвер подтвердила информацию о еврейском происхождении своей клиентки. Как сообщает Associated Press, Финсилвер уверена, что Роу будет ходатайстовать о том, чтобы ее признали опекуном ее собственных детей. Раввин Шмуэль Ботеах, хорошо знавший Майкла Джексона лично, очень удивился, услышав о еврейском происхождении Роу. «Весьма странно, что Майкл Джексон не рассказал мне о еврейском происхождении детей, видимо, он сам ничего не знал об этом. Не думаю, что Дебору можно назвать правоверной иудейкой: это так или иначе стало бы известно. Но раз дети — евреи, то и воспитывать их должна еврейка», — заявил Ботеах.
Материал подготовила Яна Савельева
Кармела Менаше
Уже мало кто помнит, что свою карьеру на радио «Коль Исраэль» Кармела
Менаше начинала «сверху», поднимаясь каждое утро на вертолете
в небо: ее голос сопровождал водителей на дорогах страны, информируя их
о пробках и авариях. Спустя несколько лет девочке из хорошей семьи пришлось
интервьюировать убийц, грабителей, насильников, сутенеров, проституток
– она стала первой в Израиле женщиной-репортером уголовной хроники. В
1987-м Кармела примерила на себя роль военкора, еще одну традиционно мужскую
роль – и та тоже пришлась ей впору. И не потому, что моя героиня отслужила
в свое время в десантных войсках, где не раз наравне с мужчинами прыгала
с парашютом. Просто ей всегда нравилось работать на опережение событий:
первой выходить в эфир с важным сообщением. И в этом смысле новая должность
подходила ей более всего. Новости, полученные из армейских источников,
нередко предвещали грядущие события, в то время, как полицейские источники
чаще сообщали о преступлении, которое уже произошло.

Казалось бы, за 20 с лишним лет в должности военкора, когда она всех генералов знает лично, равно, как и они ее, Кармела могла бы открывать любые двери пинком ноги (добавим сюда уникальную особенность нашей маленькой «домашней» страны, где даже серьезные дела нередко решаются по-семейному). Отнюдь. Кармелу не увидишь на свадьбах и бар-мицвах генеральских отпрысков, что, впрочем, не мешает ей, презрев всяческую субординацию, напрямую позвонить крупному военачальнику, если речь идет о судьбе солдата, попавшего в беду. Те, кто ее достаточно хорошо знают, определенно не могут быть ее врагами. Резкая, но отходчивая. Ничего не делает за спиной: даже самую нелицеприятную вещь предпочитает сказать в лицо, невзирая на чины. Прежде чем нанести удар в эфире, всегда предупредит об этом. Если чего-то не знает, никогда не станет делать вид, что ей это известно – предпочтет спросить. Вопросы всегда задает резкие и прямые, невзирая на лица. Добавим к ее портрету еще одну важную деталь: доброжелательная, искренняя, не растерявшая душевной теплоты – при том, что чужую смерть, горе матерей и вдов ей приходится видеть часто. Слишком часто.
Имя военного корреспондента Кармелы Менаше достаточно
известно в Израиле: каждый день мы слышим ее низкий, чуть хрипловатый
голос в выпуске новостей радиостанции «Коль Исраэль», где она выходит
в эфир уже более тридцати лет. Создается впечатление, что Кармела вообще
не покидает студии, однако, все обстоит ровным счетом наоборот. Большую
часть времени она как раз проводит не в студии, а в разъездах.
– У меня бешеный адреналин в крови, не могу усидеть на месте, постоянно
в дороге, на месте происшествия, с людьми, – говорит она мне и с усмешкой
добавляет. – Кажется, психологи называют это гиперактивностью. Но я и
на самом деле не способна уходить на работу в восемь и возвращаться домой
в пять, как большинство израильтян, закрыв служебный телефон и переключившись
на личные дела. Моя линия открыта 24 часа в сутки, я готова сорваться
среди ночи из дома и ехать на место происшествия.
Так что какие там выходные, какой отпуск… Я на радио
не работаю, я там ЖИВУ. – Кармела открывает дверцу своей машины, предлагая
заглянуть внутрь, где есть все необходимое, вплоть до нескольких смен
одежды. – Здесь я провожу большую часть времени. Наверное, у меня уже
могла бы быть машина и побольше, возможно, даже с водителем (несколько
месяцев назад Кармеле предлагали возглавить армейское управление по жалобам
военнослужащих, от чего она отказалась – Ш.Ш.), но я вполне довольна и
своей «малышкой». Ну какая из меня чиновница? У меня репортерство в крови.
Я уже давно могла оставить новостные выпуски и вести собственные большие
передачи. Но разве я высижу в студии целый день у микрофона? Нет, мое
место в гуще событий. Предпочитаю все видеть своими глазами и проверять
информацию на месте, а не по телефону.
Я была на войне, под пулями, под градом камней. Первая интифада, вторая,
три войны (1982, 1991, 2006 – Ш.Ш.), вывод войск из Ливана…
Однажды я даже предприняла попытку взглянуть на события с другой стороны, находясь в Рафиахе среди палестинцев, когда наша армия проводила там военную операцию. Но знаешь, с тех пор, как у меня появилась дочь, я стала более осмотрительной и осторожной. Ей уже десять лет, и она все понимает. Даже спрашивает меня: «Почему ты не такая, как другие мамы – с утра до ночи на работе?», – правда, все реже и реже. Дочка уже привыкла, что мне постоянно звонят чужие люди, рассказывая о своих бедах. Иной раз, опережая меня, даже сама берет трубку и спрашивает какого-нибудь солдата: «В чем твоя проблема? Расскажи. Я могу тебе помочь?». Ужасно смешная, я так ее люблю, – Кармела улыбается. – Мне кажется, она бы могла стать неплохим журналистом – способна слушать людей, сопереживать им.
Я бы хотела, чтобы она пошла по моим стопам – тогда ей обеспечена интересная жизнь. Правда, за это приходится платить свою цену. Я ведь мать-одиночка, так и не смогла создать полноценную семью. Каждая попытка заканчивалась крахом. Всякий раз повторялась одна и та же история: поначалу все просто чудесно, мужчина восхищен, не пропускает ни одного выпуска с твоим участием, гордится, что у него такая необычная женщина, а потом оказывается, что, по большому счету, ему нужна «нянька», которая бы большую часть времени проводила дома, а не на работе, и наш союз неизбежно распадается. Но, знаешь, я свой выбор сделала. Для меня важнее работа, причем, работа, не имеющая временных и прочих ограничений.
Кстати, женщине гораздо сложнее утверждать себя в мужской
профессией. Нужно постоянно доказывать, что ты справляешься не хуже, чем
«сильный пол». К тому же, когда мои коллеги-мужчины отправляются в горячую
точку, им не нужно заботиться о том, куда пристроить на это время детей:
дома – жена, прочный тыл. А мне всякий раз нужно искать себе замену, просить
родителей или подруг. Я уже не говорю о том, что во время длительных отлучек
страшно скучаю по своей дочке, а ей нелегко переносить разлуку со мной,
ведь у нее нет никого ближе меня.
Я не знаю, какой из моих дней был самым счастливым. Счастье – это вообще
что-то очень мимолетное… секунда, мгновение… А у меня такая профессия,
которая, к сожалению, связана с очень тяжелыми вещами. Однажды я едва
не сломалась… В Израиле произошла страшная авария, где погибли 20 детей
и их учитель, которые ехали на школьном автобусе, столкнувшемся на переезде
с поездом.
Я выехала на место происшествия, где еще были разбросаны детские ботинки и ранцы, потом – в школу. Там уже вывесили списки раненых, возле которых толпились растерянные родители. Они в тот момент еще не понимали, что если ребенка в списке нет, значит, его нет в живых. Сын моих близких друзей оказался среди погибших… Мне было так страшно и так больно, что я разрыдалась в прямом эфире, сорвав новостной выпуск. За тридцать лет работы на радио я видела очень много смертей, привыкнуть к этому невозможно, просто я научилась держаться, что очень нелегко. Когда ты прибываешь на место аварии двух вертолетов, и молодой парень с расширенными от ужаса глазами говорит тебе: «Здесь настоящее кладбище. Все мои товарищи погибли, я один живой...»… – Кармела замолкает, собирается с силами, чтобы продолжить.
Мне говорят: почему ты, военный корреспондент, должна заниматься личными проблемами солдат, на то есть армия! Твое дело – информировать о главных событиях. Но как же я могу оставаться безучастной, когда узнаю о медицинских экспериментах над солдатами срочной службы; сексуальных домогательствах военачальников по отношению к солдаткам; произволе командиров, отправляющих солдат в военную тюрьму за малейшую провинность. Знаешь, при жизни Рабина у меня были с ним очень хорошие отношения, но я не понимаю, как можно отправить солдата на три недели в военную тюрьму из-за того, что тот непроизвольно зевнул во время церемонии по случаю смерти покойного премьер-министра! После моего вмешательства, солдата освободили, но до того он все же провел в тюрьме десять дней!
Я постоянно получаю телефонные звонки от солдат и их матерей, которые рассказывают мне ужасные истории: некоторые из них становятся поводом для серьезного журналистского расследования. Например, о качестве медицинской помощи военнослужащим, которая поставлена из рук вон плохо. А в результате один солдат, которому поставлен неправильный диагноз, не получает своевременного лечения и умирает от рака. Другого солдата после полученной травмы, продолжают гонять на учения вместо того, чтобы отправить в больницу, в результате чего он становится тяжелым инвалидом. Это всего лишь одно из многих расследований, которыми мне приходилось заниматься: факты, приведенные в нем, сейчас находятся на проверке у государственного контролера.
Может, тебе покажется странным, но все эти истории, выходящие благодаря моему вмешательству наружу, и стоящие иным офицерам погон и даже нескольких лет тюрьмы (как в случаях издевательств над солдатами в четвертой военной тюрьме, изнасилования солдатки ее непосредственным командиром), или общественного порицания (как в случае памятной поездки группы офицеров в бывшие лагеря смерти Майданек и Освенцим, где они позорили израильскую армию походами в ночные клубы и картежными играми) не осложняют моих отношений с высшим руководством ЦАХАЛа. Причина проста. Они уже знают, что я предаю гласности только те факты, которые проверила самым доскональным образом: многократно и со всех сторон.
Им, как и мне, небезразлична судьба солдат, и они не готовы мириться с фактами командирского произвола и другими нарушениями в ЦАХАЛе. Так что многие проблемы солдат мне удается решить именно благодаря пониманию и поддержке со стороны высшего руководства армии. Даже если я их, порой, и очень сильно раздражаю, они понимают, что за моим вмешательством нет никаких личных мотивов: во всех случаях я отстаиваю истину, и не более того. Я считаю так: коли общество доверило армии своих сыновей, оно имеет право знать, как к ним там относятся – чем кормят, как лечат, и насколько оправдан приказ, который может стоить им жизни. Кстати, далеко не каждая история, о которой я узнаю от солдат или их матерей, выходит в эфир. В очень многих случаях я просто помогаю решить проблему, поскольку хорошо знаю, как устроена армия и где можно найти правильный ответ на тот, или иной вопрос.
Они защищают родину
Я по своей природе журналист и, как многие, охочусь за «скупами»1. Уточняю, за «скупами», а не за историями, раздутыми на пустом месте. Мне очень важно первой обнаружить нечто такое, до чего еще не успели добраться мои коллеги. В то же время, если я отправляюсь на место события, куда не может выехать кто-то из моих товарищей, я охотно поделюсь с ним по телефону всеми подробностями происходящего. Иной раз моя работа, а иногда и жизнь, сильно осложняется после того, как в очередном эфире я наступаю кому-то на больную мозоль. Начинаются угрозы – письменные, а чаще – по телефону, что проще, поскольку мой номер открыт для всех.
Однажды наше руководство даже вынуждено было приставить ко мне охрану, от которой я сбежала через несколько дней: ходить под конвоем – это не для меня. Что делать, профессия военного корреспондента не связана с визитами на презентации и подарками от компаний в благодарность за рекламу их деятельности: ты постоянно ходишь по лезвию бритвы. А поскольку я провожу свои расследования в одиночку, никаких помощников у меня нет, то и степень риска, равно как и ответственности, неизмеримо больше. К тому же, надо обладать соответствующим уровнем знаний (Кармела имеет две ученые степени по истории, в ее доме – обширная библиотека книг по военной истории и стратегии – Ш.Ш.).
…Глядя на нее, предельно собранную, резкую – невзирающую на лица и чины – в эфире, трудно представить себе, что ее руки дрожали, когда она, тогда еще просто техник на студии «Коль Исраэль», впервые взяла в руки микрофон (все вышло достаточно случайно) и вышла в эфир. Если бы не ее природная любознательность, умение слушать других, мгновенная реакция и способность увидеть в наборе фактов нечто большее, чем видят другие, – может быть, все и закончилось бы на той первой попытке, когда ей случайно сунули в руки микрофон. И звезда Кармелы Менаше никогда бы не взошла. А если бы этого действительно не случилось? Кем бы она тогда была?
– Думаю, что все равно, рано или поздно, я пришла бы
в эту профессию, – после небольшого раздумья произносит Кармела. – При
моей сумасшедшей энергии и неспособности усидеть на одном месте, я могу
заниматься только делом, которое дает мгновенный результат и мгновенное
удовлетворение. Какая еще профессия может соперничать в этом с профессией
военного репортера, к тому же работающего в редакции новостей?
…Кармела смотрит на часы и торопливо прощается, направляясь к машине:
сегодня ей предстоит ехать в Сдерот.
Автор: Шели Шрайман
Источник
Вера Путина
После Татьяны Дьяченко, дочери Ельцина и по совместительству
его советника, желающих взойти по семейной лестнице в политику не находилось.
Зато именитые дети успешно штурмовали банки, занимая там не по годам взрослые
посты. И вдруг недавно сын спикера Госдумы Бориса Грызлова Дмитрий и племянница
премьера Владимира Путина Вера взялись создавать молодежный парламент
и молодежное правительство в Санкт-Петербурге. Чтобы понять, по плечу
ли именитым отпрыскам эта задача, "Известия" отправились в Питер.
- У нас сразу же образовался тандем, - модное словечко явно нравится Дмитрию
Грызлову. - Мы познакомились на "круглом столе" в парламенте
Петербурга. И решили вместе заняться молодежной политикой.
Значит, политикой и молодежью. "Я ведь им идеально подхожу",
- подумала я, ощутив себя "электоратом". Вот только подходят
ли они мне?
Племянники Путина: скрытность в крови?
Ни в одну девушку я так в жизни не всматривалась. На
Владимира Путина Вера внешне совсем не похожа. В черной водолазке, женственная,
красивая и скорее напоминает застенчивую кинозвезду. Дмитрий тоже полная
противоположность отцу. Взъерошенный и в очках, он словно мимикрирует
под отличника, который не зубрит, а все схватывает на лету.
Вера закрыта, сначала изучает собеседника, как и премьер. Дмитрий открыт
всем ветрам и явно влюблен, но о невесте говорит поменьше, чем о политике.
- Да если в Москве вернуть выборы мэра, ни один здравомыслящий человек
не проголосует против Лужкова! - продемонстрировал он мне незнание жизни.
- Сразу видно, вы не стояли в московских пробках!
- Ах да, Москва - единственный город в мире, где тебе могут въехать в
зад, когда ты обгоняешь по встречке, - Вера знает жизнь, хотя бы по анекдотам.

Мы сидим в ресторанчике на улице Марата, в центре города,
воспитавшего двух президентов. Неподалеку когда-то жил Достоевский, а
сейчас Вера Путина может весь округ назвать своим местом работы. С марта
она депутат. Вопрос, трудно ли было выиграть муниципальные выборы, задавать
глупо. С такой фамилией чертовски сложно проиграть.
Родилась Вера в Рязани, детство провела в ГДР - там работал ее отец, военный
хирург, а в первый класс пошла уже в Питере. Про родство с премьером молчит,
как радистка Кэт на допросе. Даже слухи о том, что они просто однофамильцы,
опровергать не хочет.
- Я этот вопрос не поднимаю, - нотка раздражения играет в ее ровном голосе.
- Меня часто спрашивают об этом, а я понять не могу, как это может быть
связано с моей деятельностью! Представляйте меня как самостоятельную единицу,
которая хочет сделать что-то хорошее в молодежной политике.
"Известия" все же копнули вглубь ее биографии:
Вера - двоюродная племянница премьера по линии своей матери, чью девичью
фамилию, признает, взяла, но не уточняет, зачем и когда.
- Да, Вера - моя двоюродная сестра, - подтвердил мне 31-летний племянник
премьера Роман Путин.
Он тоже часть "рязанской ветви" Путина, как и Вера. У Владимира
Путина по линии отца было трое дядьев. Один из них, Александр Спиридонович,
обосновался в Рязани, воспитал дочь Людмилу (мать Веры) и сына Игоря (отец
Романа). Любопытно, что никто из них родство с премьером особо не афиширует.
Роман окончил Вольское военное училище тыла, между прочим, с красным дипломом,
но свое родство с тогда еще президентом скрывал до последнего курса.
- О себе не хочу рассказывать, - заявил "Известиям" Роман.
Хотя "политический период" был и в его жизни. Он баллотировался в городскую думу Рязани, но не прошел. А в 2007 году после ФСБ, уже из частной компании, перешел на госслужбу. Сейчас уже советник мэра по безопасности. Продвигает идею народных дружин. Несколько лет назад вместе с отцом съездил к Владимиру Владимировичу в Кремль. Рассказывать об этой встрече тоже отказывается. Но тщеславие Роману явно не чуждо: последние пять цифр номера его мобильника - сплошные нули.
Они не идут в космонавты
- А вы с дядей хоть раз виделись? - спрашиваю у Веры.
- На съезде "Единой России" его видела, выступал.
В ЕР Вера Путина вступила 12 марта 2008-го, минуя прокремлевские
молодежные сети. В России есть и другие партии, но у Веры...
- ...других вариантов точно не было. Очень уважаю Владимира Владимировича.
И "Единая Россия" в целом мне импонирует.
Вера и Дмитрий - вылитые "преемники" в плане политических взглядов.
Лозунг парижской радикальной молодежи "Запрещено запрещать!"
им явно не близок. Вера считает, что "сейчас время работать, а не
критически относиться". Дмитрий в свои 29 с каким-то бородатым снобизмом
ругает 90-е годы и без устали называет себя консерватором.
"У нас и 20 лет после развала СССР не прошло, о
какой демократии можно говорить. Тут не одно столетие потребуется!",
- он захлебывается от восторга. А я, электорат, скучаю. В 90-е мы с друзьями
начали зарабатывать первые деньги. Тупо ждать "не одно столетие",
когда манной небесной снизойдет очередной "коммунизм", не готовы.
То антикризисный штаб, то прием избирателей, то встреча с ветеранами...
"Бальная книжечка" Веры заполнена под завязку. По примеру генерал-губернаторов
Вера мечтает раз в полгода тестировать школьников на наркозависимость.
По примеру дяди управление предпочитает "ручное". Например,
к старушке-блокаднице, до квартиры которой не доходит вода, обещает съездить
сама.
А вот русским на Украине она пока не способна помочь:
- Ко мне в Крыму, куда я съездила прошлым летом, подходили со словами:
"Мы хотим обратно в Россию!". А я им говорила: "Но я-то
как вам могу помочь?".
Вере всего 24. Политикой, говорит, увлеклась еще в школе.
- Потом окончила Санкт-Петербургский университет по специальности "политический
журналист", защитила диплом по политтехнологиям, - перечисляет она,
- занималась спортивным пиаром, была пресс-секретарем Фонда развития тенниса...
В моем классе никто не хотел стать политиком. Это же по большому счету
не профессия. Но у нас и Путиных не было. Вера, которая выбрала теннисный
корт вместо татами, четырежды повторит: "Спорт тесно пересекается
с политикой".
Менее чем за год у Веры - багаж портфелей: председатель комитета по печати
и СМИ муниципального совета Центрального округа Петербурга, а также главный
редактор журнала "Россия Единая" и газеты "Владимирский
округ".
- Я сама от себя не ожидала, что займусь еще и молодежной политикой, -
признается Вера.
У Грызлова-сына портфелей поменьше, но опыта побольше.
Свои первые выборы он, как когда-то его отец, проиграл. Обещания не вступать
в "Единую Россию" сын тоже торжественно не сдержал (в партию,
которую критиковал, был принят в апреле).
- После первой волны романтиков-демократов у нас появилась стабильность.
Ведь если плохо, но стабильно, это уже хорошо! - Грызлов поправляет на
лацкане значок ЕР.
Дмитрий - телеведущий, с поставленной дикцией и неукротимым желанием говорить
много и обо всем.
- Не понимаю, почему, дорываясь до власти и денег, люди берут и покупают
себе "Феррари". Понты! Вот в Питере где на ней ездить?! Я дружу
с Сережей Безруковым. Мы с ним как-то обсуждали, круто или нет иметь мобильник
"Верту" с бриллиантами. Ведь это не круто!
- А что круто?
- Круто, когда за тобой бежит рота солдат, несет проводной телефон и тянет
катушку!
Прикидываю, успеют ли солдаты, если ехать на "Феррари"
на первой передаче. Дмитрий за то же время демонстрирует недорогие часы,
подаренные мамой на 25 лет, и золотую цепочку на совершеннолетие.
- А машина?
Сын Бориса Грызлова впервые смущается. Да, позволил себе неплохой БМВ.
И в квартире живет на Невском проспекте, но она семье Грызловых принадлежит
аж с дореволюционных лет.
- Слушайте, а стать депутатом - круто?
- Нет. Знаете, если бы у нас с Верой была задача работать в Госдуме, то
на парламентских выборах, не поднимая шума, мы вошли бы в партийные списки.
Как у нас делают: надо кого-то провести - запихивают в какой-нибудь Ханты-Мансийский
округ.
На самом деле запихивают в крупные регионы, где больше проходных мест.
Но сын спикера, юрист по образованию, об этом не знает. Вера кажется более
вдумчивой, хотя бы потому, что умеет молчать.
- Может, вам кто-то советы дает?
- Стараемся сами, - не оставляет даже малейшей надежды Дмитрий, - используя
исторический опыт, в том числе комсомол.
Хотели как лучше, а получается БАМ.
- А с Владиславом Сурковым еще не встречались? Он любит советы давать
молодым.
- Нами заинтересовались, насколько я знаю, - Дмитрий затягивается сигаретой,
чтобы секунду подумать. - Я хотел бы с ним пообщаться, поскольку все его
мысли по поводу молодежной политики, обновления действующей системы во
многом схожи с моими.
Тут Дмитрий заводит явно любимую песню про "людей, которые станут
новой движущей силой". Вера подхватывает: те, кто войдет в молодежные
правительство и парламент, смогут набраться опыта для управления городом
в перспективе. "Даренка любила те сказки слушать", но есть приложение
к главной идее - "поднять программу по предоставлению жилья для молодых
семей".
- В Санкт-Петербурге она провалена, - заявляет Дмитрий
так, как будто где-то иначе, - а в Ленинградской области есть пустующая
земля, принадлежащая Минобороны. Почему бы там не построить молодежную
деревню и не перенести туда же строительство Охта-центра. Сейчас молодежи
не нужна политика, ей нужен молодежный БАМ!
Я вздрагиваю. Мне, как избирателю, так много не нужно. Достаточно будет
трех "О". Опыт (когда молодежный трибун знает, что делать, если
юный наркоман собирается выброситься в окно), открытость (когда до него
может дозвониться даже последний бомж) и, конечно, ответственность (неловко
опаздывать на встречу с журналистом, о которой мы с Грызловым договорились
заранее, на 12 часов).
На следующее утро я видела, как сотни ребят и девчонок на роликах, словно
на крыльях свободы, пересекали Суворовский проспект. И было в этом больше
правды жизни, чем во всех сказанных нами накануне словах.
Профессиональными политиками Вера и Дмитрий наверняка станут. Фамилии
помогут, уверен Грызлов. Только, может, вначале становятся профессионалами?
И только потом - политиками?
Автор: Александра Белуза
Источник
А вот ещё одна публикация на эту тему:
Появление на городском политическом небосклоне Веры Путиной - якобы троюродной племянницы премьера - было воспринято в Северной столице как вполне естественный факт. Где же еще начинать карьеру родственнице ВВП? Веру тут же назначили главой молодежного правительства и посадили в президиум вместе с сыном спикера Госдумы Димой Грызловым. Но, как оказалось, в питерском отделении партии «Единая Россия» не все верят в то, что Вера действительно премьерская племянница. Однако партийцы, за редким исключением, предпочитают свои сомнения прилюдно не озвучивать. Наш корреспондент, побывав в «медвежьем логове», узнала много интересного о нравах, царящих в «Единой России». Вере Путиной, кто бы она ни была, там есть чему поучиться.
Как Соколова стала Путиной
Вера Путина - девушка-загадка. О своем родстве с премьером
не говорит ничего! Виртуозно уходит от прямых вопросов на эту тему.
- Я хочу, чтобы говорили о моих делах, а не родственниках, - выдает Вера
уже заученную фразу.
В интервью девушка рассказала о себе немного: окончила журфак Санкт-Петербургского
госуниверситета, еще студенткой устроилась работать пресс-секретарем в
Фонд развития тенниса (заметим, что Федерацию тенниса возглавляет Валентина
Матвиенко), затем стала редактировать партийный журнал «Россия Единая»
- по стилю и содержанию пропагандистский вестник, выдержанный в лучших
традициях советской агитки. Неудивительно, что «Единая Россия» посчитала
молодого редактора самым лучшим журналистом Москвы и Петербурга и включила
ее в свой кадровый резерв. После чего Вера выиграла муниципальные выборы
и стала депутатом.

Стоит заметить, что партийные привилегии Вера Путина получила как раз в то время, когда поменяла фамилию! До 2007 года она носила фамилию Соколова, доставшуюся ей в наследство от отца - военного хирурга Александра Соколова, погибшего, когда девочке было всего 12 лет. Путина - это девичья фамилия ее мамы Людмилы Александровны, которая сегодня живет в Рязани (там есть несколько Путиных - но никто из них не объявляет себя родственником премьера, по крайней мере, пока). Там Вера и родилась в 1984 году, куда семья вернулась из ГДР, где проходил службу Александр Соколов. Теоретически семьи Соколовых и Путиных могли пересечься, если бы еще на год задержались в Германии. Но сотрудник Первого отдела Ленинградского управления КГБ Владимир Путин приехал в Дрезден только в 1985 году.
Семья Соколовых переехала в Питер в начале 90-х. Некоторое время жила в общежитии, потом получила трехкомнатную квартиру на проспекте Пятилеток. Жили, по словам соседей, всегда очень скромно. Правда, год назад у девушки появилась новенькая «Вольво» (кстати, тогда же на ее имя был зарегистрирован еще один автомобиль - «Тойота Авенсис»). Откуда взялся этот автопарк - уже кажется вопросом из того же ряда, зачем Вера сменила фамилию с Соколовой на Путину.
Фамилия-заклинание
Сама Вера объясняет смену фамилий очень невнятно. По ее словам, о том, что она имеет кровное отношение к Владимиру Владимировичу, кое-кто знал в ее окружении, и некоторые коварно пользовались ее «истинной» фамилией. Какую корысть имели знакомые от того, что мама Веры в девичестве была Путиной, сама Вера уточнить отказалась. Но зачем тогда вообще нужно было обнародовать знаменитую фамилию и становиться Путиной? Ведь в таком случае фальшивых друзей наберется еще больше? На эти вопросы Вера предпочла многозначительно промолчать, чем только подлила масла в костер сомнений.
- Если бы она была племянницей Владимира Владимировича, она ни за что не поменяла бы фамилию. Она бы взлетела как Соколова! - считает Наталья Будная, руководитель исполкома отделения «Единой России» Дворцового округа Центрального района. - Была бы в таком случае выдвиженка из низов. Не подкопаешься. Ее однажды спросили: «А вы бываете у Людмилы Шкребневой (девичья фамилия жены Путина. - Прим. авт.) в гостях?» - «Ой, что вы! - отвечает Вера. - Им там не до нас!» Так может сказать любой из нас! А вранья-то нет. Как говорил Бендер, главное - не выходить за рамки Уголовного кодекса. Вера Уголовный кодекс чтит и на вопросы не отвечает. Зато вместо нее говорят другие. Сын спикера Госдумы Дмитрий Грызлов в эфире «Эха Москвы» уверенно подтвердил родство Веры с премьером. Депутат Законодательного собрания Игорь Риммер выделил девушке кабинет в Мариинском дворце. А сама Вера теперь живет по жесткому графику, перемещаясь с одного важного совещания на другое. Фамилия Путина как заклинание открывает перед ней многие двери.
Куратор Веры - большая шутница
В «Единую Россию», как рассказывают партийцы, Веру привела
Светлана Лутова (на сегодняшний день - руководитель отделения «Единой
России» Центрального района). Личность Светланы Кимовны Лутовой заслуживает
отдельного разговора. Она действительно патронирует молодую девушку, являясь
в частности координатором журнала «Россия Единая». Вместе они работают
во Владимирском муниципальном округе. В беседе с нашим корреспондентом
Лутова представилась журналистом-международником и политологом.
- Я не раз ездила в горячие точки, - говорит она. - Я была спецкором.
За свою героическую деятельность Лутова получила серьезную награду - президентские
часы. На отчетно-перевыборном собрании в 2007 году было заявлено, что
по поручению администрации президента Светлане Лутовой вручаются наградные
часы с надписью «Президент России» за заслуги перед Отечеством.
Говорят, Лутовой тогда завидовали многие партийцы - ведь
она была единственной, кто удостоился столь высокой награды. Но потом
оказалось, что «часы от президента» можно купить в любой сувенирной лавке
и наградить ими самого себя. Подлог вскрыла Регина Стоянова (в то время
она входила в состав контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения
«Единой России»).
- Я отправила запрос в аппарат полномочного представителя президента в
Северо-Западном федеральном округе, - рассказывает она. - И получила ответ,
в котором было сказано, что никаких данных о том, что президент России
объявил Лутовой благодарность, не имеется.
В официальном письме (оно находится в распоряжении редакции. - Прим. авт.)
также было дано разъяснение о том, что благодарность с вручением ценного
подарка объявляется Указом президента, а ценный подарок, как правило,
вручается самим президентом в Кремле.
На политсовете партии это письмо зачитали. Ложь с награждением президентскими
часами Лутовой стала настолько очевидной, что партийцы немедленно приняли
меры - правда, весьма своеобразные.
- За то, что я написала этот запрос, меня в результате
признали виноватой, - говорит Регина Стоянова. - Все, кто вскрыл эту историю
с часами, лишились своих постов - одного из партии исключили, меня из
комиссии выкинули. Так этот подлог и замяли.
Очевидцы рассказывают, что Лутова все-таки извинилась перед партийцами
за розыгрыш с часами, сказав, что это была шутка.
…Кстати, награждение часами - далеко не единственная авантюра, случившаяся
в партии. Некоторые партийцы любят «пошутить» с должностями и званиями.
- Я помню, как один товарищ прибил себе табличку на дверь, гласящую о
том, что он помощник депутата Госдумы. Так Лутова его за это исключила
из партии! - восклицает Регина Стоянова.
- У Лутовой есть всегда свое мнение, - говорит о себе в третьем лице Светлана
Лутова. - Лутова второй раз избирается секретарем политсовета партии «Единая
Россия» Центрального района. Ни с кем не идет ни на какие сделки. Значит,
надо ее топить. И я знаю, кто это делает! Это некий Васильев, которого
исключили из партии за подлог документов в получении удостоверения жителя
блокадного Ленинграда.
Принцесса голая?
Но Вера Путина пока во внутренних разборках партийцев
участия не принимает, предпочитая держаться в тени.
- Вера - не самозванка!- заявляет Светлана Лутова. - Но муссировать эту
тему я отказываюсь. Потому что это этически неправильно.
Вопрос о том, когда и как она познакомилась с Верой, Лутова назвала «вопросом
не по существу».
- Никогда на него не отвечу! - говорит она и не скупится на комплименты
своей подопечной. - Вера - не по возрасту одаренная девочка. Талантливая
во всем, за что ни возьмется.
- Еще Юрий Солонин (председатель петербургского отделения «Единой России»
в 2002 году. - Прим. авт.) говорил, что «Единая Россия» - это крейсер,
который идет вперед, ни на что не обращает внимания и не вступает в дебаты
с оппонентами, - говорит Наталья Будная, руководитель исполкома отделения
«Единой России» Дворцового округа Центрального района. - В том, кто такая
на самом деле Вера Путина, разбираться на самом деле некому. У всех свои
мелкие интересы. И страшно кого-то тронуть, потому что неизвестно, с кем
он связан. И более того, если найдутся люди, которые скажут «А принцесса-то
голая!», они могут пострадать.
Десятка самых сексуальных
Журнал FHM составил рейтинг из 100 самых сексуальных
женщин мира. Первое место заняла звезда “Трансформеров” Меган Фокс. Ее
назвали лучшей большинство из 10 млн. проголосовавших. После выхода на
экран первой части фильма актрису хотели заполучить на обложку все ведущие
глянцевые журналы мира. Второе место досталось актрисе Джессике Альбе.
На третьем – Скарлетт Йоханссон. Самый стремительный подъем в этом году
совершила Бритни Спирс, которая поднялась с сотого места на 12.
Итак, 10 самых сексуальных женщин планеты:

1. Меган Фокс (Megan Fox)

2. Джессика Альба (Jessica Alba)

3. Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson)

4. Джессика Биль (Jessica Biel)

5. Мэйделин Зима (Madeline Zima)

6. Адриана Лима (Adriana Lima)

7. Элиша Катберт (Elisha Cuthbert)

8. Хайди Монтаг (Heidi Montag)

9. Энн Хэтэуэй (Anne Hathaway)

10. Кэти Перри (Katy Perry)
Анни Фишер
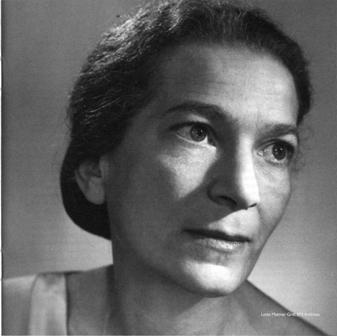 |
|
Основой репертуара Анни Фишер были Моцарт, Бетховен, Шуберт и Шуман, но она добавляла к ним произведения Белы Бартока и других своих соотечественников. Интересно, что Анни Фишер категорически отказывалась выпускать записи, сделанные во время ее концертов, ссылаясь на их несовершенство. С другой стороны, записываться в студии она также не хотела, объясняя это тем, что любая интерпретация, созданная в отсутствии живой аудитории, будет неминуемо искусственной. Тем не менее, начиная с 1977 года, она потратила 15 лет на работу в студиях, работая над записью всех сонат Бетховена, - цикла, который так и не был выпущен ей при жизни. Однако после смерти Анни Фишер многие части этой работы стали доступны слушателям и получили высокую оценку среди ценителей классической музыки. Мужем Анни Фишер был критик и музыковед Аладар Тот (1898-1986); скончавшаяся 10 апреля 1995 года Анни Фишер похоронена рядом с ним на кладбище в Будапеште.
Вот ещё одна публикация:
Это имя знают и ценят в нашей стране, как и во многих странах разных континентов - повсюду, где побывала венгерская артистка, где звучат многочисленные пластинки с ее записями. Произнося это имя, любители музыки вспоминают то особое, ей одной присущее обаяние, ту глубину и страстность переживания, ту высокую напряженность мысли, которые вкладывает она в свою игру. Вспоминают благородную поэтичность и непосредственность чувства, поразительное умение просто, без какой-либо внешней аффектации достигать редкой выразительности исполнения. Наконец, вспоминают необычайную целеустремленность, динамическую энергию, мужественную силу - именно мужественную, ибо пресловутый термин "женская игра" в применении к ней абсолютно неуместен.
Да, встречи с Анни Фишер действительно надолго остаются
в памяти. Потому что в ее лице перед нами не просто артистка, но одна
из самых ярких индивидуальностей современного исполнительского искусства.
Пианистическое мастерство Анни Фишер безупречно. Его примета - не только
и не столько техническое совершенство, сколько способность артистки без
труда воплощать в звуках свои замыслы. Точные, всегда выверенные темпы,
острое чувство ритма, понимание внутренней динамики и логики развития
музыки, способность "лепить форму" исполняемого произведения
- вот достоинства, присущие ей в полной мере. Добавим сюда полнокровный,
"открытый" звук, который как бы подчеркивает простоту и естественность
ее исполнительской манеры, богатство динамических градаций, тембровую
красочность, мягкость туше и педализации...
Сказав все это, мы еще не подошли, однако, к главной отличительной черте
искусства пианистки, ее эстетики. При всем разнообразии ее интерпетаций,
их объединяет мощный жизнеутверждающий, оптимистический тонус. Это не
значит, что Анни Фишер чужд драматизм, острые конфликты, глубокие переживания.
Наоборот, именно в музыке, полной романтического подъема и больших страстей,
до конца раскрывается ее талант. Но при этом в игре артистки неизменно
присутствует активное, волевое, организующее начало, некий "положительный
заряд", который несет с собой ее индивидуальность.

Репертуар Анни Фишер не слишком широк, если судить по именам композиторов. Она ограничивает себя почти исключительно шедеврами классики и романтики. Исключение составляют, пожалуй, лишь немногие сочинения Дебюсси и музыка ее соотечественника Белы Бартока (Фишер была одной из первых исполнительниц его Третьего концерта). Но зато в избранной сфере она играет все или почти все. Особенно же удаются ей сочинения крупной формы - концерты, сонаты, вариационные циклы. Чрезвычайной экспрессивностью, интенсивностью переживания, достигаемой без малейшего" налета сентиментальности или манерности, отмечена у нее трактовка классиков - Гайдна и Моцарта. Здесь нет ни грани музейности, стилизации "под эпоху": все полно жизни, и вместе с тем, тщательно продумано, сбалансировано, сдержанно. Глубоко философский Шуберт и возвышенный Брамс, нежный Мендельсон и героический Шопен составляют важную часть ее программ.
Но наивысшие достижения артистки связаны с интерпретацией произведений Листа и Шумана. Каждый, кто знаком с ее трактовкой фортепианного концерта, "Карнавала" и Симфонических этюдов Шумана или Сонаты си минор Листа, не мог не восхищаться размахом и трепетностью ее игры. В последнее десятилетие к этим именам добавляется еще одно - Бетховен. В 70-е годы его музыка занимает особенно значительное место в концертах Фишер и трактовка ею крупных полотен венского гиганта становится все глубже и мощнее. "Ее исполнение Бетховена по ясности концепций и убедительности передачи музыкальной драматургии таково, что оно сразу же захватывает и увлекает слушателя", - писал австрийский музыковед X. Вирт. А журнал "Мюзик энд мюзишнс" отметил после концерта артистки в Лондоне: "Ее интерпретации мотивированы высочайшими музыкальными идеями, и тот особый род эмоциональной жизни, который она демонстрирует, например, в адажио из „Патетической" или „Лунной" сонаты, представляется ушедшим на несколько световых лет вперед от сегодняшних „нанизывателей" нот".
Впрочем, ведь с Бетховена и начиналась артистическая карьера Фишер. Начиналась в Будапеште, когда ей было всего восемь лет. Именно в 1922 году девочка впервые появилась на эстраде, исполнив Первый концерт Бетховена. Ее заметили, она получила возможность заниматься под руководством известных педагогов. В Академии музыки ее наставниками были Арнольд Секей и выдающийся композитор и пианист Ернё Донаньи. С 1926 года Фишер ведет регулярную концертную деятельность, в том же году совершила первую поездку за пределы Венгрии - в Цюрих, положившую начало международному признанию. А закрепила его победа на первом в Будапеште Международном конкурсе пианистов, Ф. Листа (1933). Тогда же Анни впервые услышала музыкантов, которые произвели на нее неизгладимое впечатление и повлияли на художественное становление,- С. Рахманинова и Э. Фишера.
В годы второй мировой войны Анни Фишер удалось бежать
в Швецию, а вскоре после изгнания фашистов она вернулась на родину. Тогда
же она начала преподавать в Высшей музыкальной школе имени Листа и в 1965
году получила звание профессора. Ее концертная деятельность в послевоенную
пору получает на редкость широкий размах и приносит ей любовь слушателей
и многочисленные знаки признания. Трижды -в 1949, 1955 и 1965 годах -
она удостаивается премии имени Кошута. А за рубежами родины ее с полным
правом называют послом венгерского искусства.
...Весной 1948 года Анни Фишер впервые приехала в нашу страну в составе
группы деятелей искусства братской Венгрии. Сначала выступления участников
этой группы проходили в студиях Дома радиовещания и звукозаписи. Именно
там Анни Фишер исполнила один из "коронных номеров" своего репертуара
- Концерт Шумана. Все, кто присутствовал в зале или слышал исполнение
по радио, были покорены мастерством и одухотворенной приподнятостью игры.
После этого ее пригласили принять участие в концерте на эстраде Колонного
зала Дома союзов. Публика устроила ей долгую, горячую овацию, она играла
вновь и вновь - Бетховена, Шуберта, Шопена, Листа, Мендельсона, Бартока.
Так началось знакомство советской аудитории с искусством Анни Фишер, знакомство,
положившее начало долгой и прочной дружбе. В 1949 году она уже давала
в Москве сольный концерт, а затем выступала бесчисленное множество раз,
исполнив в разных городах нашей страны десятки разнообразных произведений.
Творчество Анни Фишер с тех пор привлекало пристальное внимание советской критики, оно тщательно проанализировано на страницах нашей печати ведущими специалистами. Каждый из них находил в ее игре наиболее близкие ему, самые привлекательные черты. Одни выделяли богатство звуковой палитры, другие - страстность и силу, третьи - теплоту и сердечность ее искусства. Правда, восхищение и тут не было безоговорочным. Д. Рабинович, например, высоко оценивая ее исполнение Гайдна, Моцарта, Бетховена, неожиданно попытался поставить под сомнение ее репутацию шуманистки, высказав мнение, что в ее игре "нет подлинной романтической глубины", что "взволнованность ее чисто внешняя", а масштабность местами превращается в самоцель. На, этом основании критик делал вывод о двойственной природе искусства Фишер: наряду с классичностью ей присущи и лиризм, и мечтательность. Поэтому маститый музыковед характеризовал артистку как представительницу "антиромантической тенденции". Думается, однако, что это скорее терминологический, отвлеченный спор, ибо искусство Фишер в действительности столь полнокровно, что оно просто не укладывается в прокрустово ложе определенного направления.
И можно лишь согласиться с мнением другого знатока фортепианного исполнительства К. Аджемова, который нарисовал такой портрет венгерской пианистки: "Романтическое по своей природе искусство Анни Фишер глубоко самобытно и вместе с тем связано с традициями, восходящими к Ф. Листу. Умозрительность чужда ее исполнению, хотя его основу составляет глубоко и всесторонне изученный авторский текст. Разносторонне и великолепно разработан пианизм Фишер. Равно впечатляет артикулированная мелкая и аккордовая техника. Пианистка еще до прикосновения к клавиатуре ощущает звуковой образ, а затем словно лепит звук, добиваясь выразительного тембрового многообразия. Непосредственно, чутко откликается она на каждую значительную интонацию, модуляцию, смены ритмического дыхания, причем частности трактовки у нее неразрывно связаны с целым. В исполнении А. Фишер привлекает и чарующая кантилена, и ораторская приподнятость, патетика. С особой силой талант артистки проявляется в сочинениях, насыщенных пафосом больших чувств. В ее интерпретации выявляется сокровенная сущность музыки. Поэтому одни и те же сочинения у нее каждый раз звучат по-новому. И в этом одна из причин того нетерпения, с которым мы ожидаем новых встреч с ее искусством".
Эти слова, сказанные в начале 70-х годов, остаются верны
и по сей день.
Анни Фишер категорически отказывалась выпускать записи, сделанные во время
ее концертов, ссылаясь на их несовершенство. С другой стороны записываться
в студии она также не хотела, объясняя это тем, что любая интерпретация,
созданная в отсутствии живой аудитории, будет неминуемо искусственной.
Тем не менее, начиная с 1977 года, она потратила 15 лет на работу в студиях,
работая над записью всех сонат Бетховена, — цикла, который так и не был
выпущен ей при жизни. Однако после смерти Анни Фишер многие части этой
работы стали доступны слушателям и получили высокую оценку среди ценителей
классической музыки.
Авторы: Григорьев Л., Платек Я. "Современные пианисты".
Москва, "Советский композитор", 1990 г.
Источник
Ирена

Недавно умерла 98-летняя леди по имени Irena. Во время Второй Мировой Войны, Irena, получила разрешение работать в Варшавском Гетто, как специалист по водопроводу и канализации. У нее был 'скрытый мотив'... Она ЗНАЛА то, что планируют нацисты для евреев, (будучи немкой). В Израиле таких людей называют праведниками мира. Ведь они сознательно, рискуя собственной жизнью, спасали жизни евреев, уничтожаемых нацистами только за их национальную принадлежность...
Irena вывозила контрабандой младенцев в основании ящика
для инструментов, который она везла, и она везла в задней части ее грузовика
мешок мешковины, (для больших детей). У нее также была собака в кузове,
которая обучалась, чтобы лаять, когда нацистские солдаты выпускают ее
из гетто. Солдаты конечно не хотели иметь ничего общего с собакой, лай
покрывал шумы детей/младенцев.
В течение ее деятельности ей удалось вывезти контрабандой и спасти 2500
детей/младенцев. Она была поймана, и нацисты сломали обе ее ноги, руки
и зверски ее избили. Irena вела учет имен всех детей, которых она вывозила
контрабандой и держала их в стеклянной фляге, закопанной под деревом во
дворе ее дома.
После войны она попыталась найти каких либо родителей, которые, возможно, пережили войну и воссоединили семью. Большинство, конечно, были убиты в газовых камерах. Те дети, которым она помогла, были размещены в детские дома или были усыновлены.
В позапрошлом году Irena была предсталена на Нобелевскую
премию мира... Она не была отобрана. (Ал Gore победил, за борьбу с Глобальным
потеплением)... Возможно, ей уже и не нужна была эта премия, премия престижа
и премия пока ещё живущих и нуждающихся в славе. Не ради престижа и славы
рисковала она жизнью во время войны. И у неё есть большее, чем Нобелевская
премия, - вечная благодарность и признательность еврейского народа. Мир
праху её!
Ольга Сутулова
Ольга родилась 4 мая 1980 года в семье математиков и инженеров, но по стопам родителей не пошла. С 5 лет занималась английским языком, затем поступила в школу с углублённым изучением английского языка. В 14 лет на несколько месяцев уехала в Оксфорд по программе обмена учащихся. Но отношения с преподавателями и одноклассниками в оксфордской школе у неё не сложились. Как заявляла сама Ольга, в то время она была хулиганкой, в школе не преуспевала и в конечном итоге её выгнали из школы. Недолго думая, Ольга отправилась в ПТУ при пароходстве, сдала туда все экзамены на отлично, но родители Ольги не смирились с тем, что их дочь станет техником-слесарем, и спустя некоторое время зачислили её в гимназию имени Александра II в Петергофе. В 15 лет на дне рождения общего знакомого, куда Ольга пришла вместе с родителями, она встретилась с драматургом Дмитрия Астрахана — Олегом Даниловым, и вскоре снялась в телесериале «Зал ожидания». После окончания гимназии Ольга поступила в университет на исторический факультет. Учёба там у Ольги не сложилась. После провала экзаменов Ольга поступила во ВГИК. Вскоре окончила его. В свободное время она любит путешествовать и готовить.
Источник: Википедия

Вот ещё один материал о талантливой актрисе:
Молодая актриса Ольга Сутулова - натура ищущая, мечущаяся. Родилась и выросла в Санкт-Петербурге — строить взрослую жизнь уехала в Москву. Учиться хотела на истфаке питерского университета — поступила в московский ВГИК. На втором курсе учебу бросила, но актрисой все равно стала. Сейчас на счету 26-летней Ольги Сутуловой более 15 фильмов. В своей первой картине «Зал ожидания» Дмитрия Астрахана Ольга снялась, когда ей было всего 15 лет. Позже в «Атлантиде» она снималась с Дмитрием Харатьяном. В США она снялась в полнометражном фильме Lima – обучение в Оксфорде не прошло даром, Оля отлично говорит по-английски.
Она ведет уединенный образ жизни. Живет вместе со своим любимцем - той-терьером Зигмундом, который всегда сопровождает ее на съемках. О личной жизни распространяться не любит. Итак, сегодня у актрисы незаконченное историческое образование, грант Фонда Сороса за студенческие научные работы (ее исследование называется «Гроты Петергофского каскада»), знание английского языка, обучение в Оксфорде и во ВГИКе.
Клементина Хозье
 |
|
Черчилль уже встречался с мисс Хозье, но тогда ему не удалось произвести на нее особого впечатления: он молча уставился на юную девушку, вогнав ее в краску. Как впоследствии вспоминала сама Клементина: «Уинстон держался слишком скованно. Он не только не решился пригласить меня потанцевать, но также постеснялся проводить на ужин». Впрочем, такое поведение было более чем характерно для Черчилля. В отличие от невероятно активной политической и общественной деятельности его общение с женщинами было подчеркнуто скромным и даже банальным. Уинстон совершенно не умел угождать представительницам слабого пола. По воспоминаниям современников и друзей, его отношения с представительницами слабого пола были «неловки», «наивны», «романтичны» и «неуклюжи». Если Черчилль писал, что какая-то женщина «замечательна», то под этим подразумевалось лишь сочетание благоразумия и целомудрия. К тому же он никогда не был мастером светской беседы или разговоров ни о чем. Как правило, все беседы с его участием превращались в длинные монологи, посвященные политике и проблемам государственного управления.
И все-таки тогда, во время бала у леди Сент-Хелье, Уинстону,
несмотря на всю его скованность, удалось растопить лед в общении с Клементиной.
В конце беседы он спросил ее:
– Вы читали мою книгу «Лорд Рандольф Черчилль»?
– Нет, – ответила та.
– А если я вам ее завтра пришлю?
Но Уинстон так и не выполнил своего обещания. Как вспоминала Клеми спустя
годы, подобная безответственность произвела на нее «дурное впечатление».
Черчилль не знал об этом впечатлении. Он был поражен
красотой, умом и обаянием своей новой знакомой. Спустя три недели после
их встречи на званом обеде Уинстон убедил свою мать пригласить Клементину
в арендуемый особняк на Солсбери Холл.
Новая встреча сблизила молодых людей. Черчилль предложил Клементине продолжить
их совместное общение: «Что за утешение и наслаждение встретить столь
умную и благородную молодую девушку! Я надеюсь, мы еще встретимся и узнаем
друг друга получше. По крайней мере я не вижу особых причин, почему бы
нам не продолжить общение».
Помощь насекомого
В августе 1908 года Уинстон принял участие в свадебной церемонии своего младшего брата Джека. После свадьбы Черчилль вместе с друзьями остановился в загородном доме своего кузена капитана Фредерика Геста. Посреди ночи в результате сбоя отопительной системы начался пожар. Не дожидаясь приезда пожарной бригады, Уинстон надел на себя металлический шлем и стал спасать ценные вещи. Как отмечалось в номере местной газеты Nottingham Daily Express, «ему просто чудом удалось избежать гибели. Когда он выносил из здания очередную пару бюстов, за его спиной обрушилась крыша. Задержись он на секунду-другую, был бы погребен под обломками».
Едва добравшись до письменного стола, Уинстон поведал обо всем своей новой знакомой: «Пожар был великолепным развлечением, мы здорово повеселились. Жаль лишь, что подобное веселье обходится слишком дорого». Безрассудная смелость, проявленная Черчиллем в критический момент, произвела огромное впечатление на молодую девушку. Клементина приняла ухаживания Черчилля. Который со временем все больше стал походить на мужчину ее мечты. Или, наоборот, идеал стал все больше напоминать Уинстона.
После почти пяти месяцев ухаживания Черчилль решил пригласить Клементину в Бленхеймский дворец – родовое имение герцогов Мальборо. Первоначально Клеми скептически отнеслась к его предложению. Она считала, что там будет много гостей, к тому же ей, как всегда, нечего было надеть. Происходя из аристократического, но обедневшего рода, Клементина с детских лет привыкла жить в экономии, и поэтому нехватка бальных платьев была для нее вполне обычным явлением. Для Уинстона же, главным финансовым правилом которого было: «Если расходы превысили доходы – поступления должны быть увеличены», все эти мелочи не имели никакого значения. Пытаясь переубедить Клементину, он признался ей: «Если бы ты только знала, как я жажду нашей встречи! В прекрасных садах Бленхейма мы найдем много мест, где сможем уединиться и обсудить все на свете». Также он обмолвился о ее «странном и таинственном взгляде», секрет которого он «так и не может разгадать». Клеми была заинтригована. Поняв, что больше всего Уинстона волнует разговор наедине, а не пышный бал в Бленхеймском дворце, Клементина согласилась.

Смелый в словах, Черчилль оказался гораздо скромнее на
деле. В течение двух дней он бесцельно водил свою возлюбленную по прекрасным
окрестностям графства Оксфордшир, так и не решившись сказать ей о главном.
На третьи сутки Уинстон настолько отчаялся, что не захотел даже вылезать
из постели. В дело вмешался владелец Бленхейма Санни, попытавшийся убедить
своего кузена, чтобы тот немедленно поднимался и сегодня же признался
Клементине в своих чувствах: «Как знать, может быть, тебе больше никогда
и не представится подобная возможность?»
Уступив доводам девятого герцога Мальборо, Черчилль решил предпринять
последнюю попытку. На этот раз он повел Клементину в розарий, составлявший
гордость Бленхеймского замка.
Когда влюбленные гуляли по аллеям розового сада, разразилась сильная гроза, и они решили укрыться в храме Дианы – небольшой каменной беседке, расположенной около озера. С полчаса они просидели молча. Атмосфера накалялась. Позже Клементина вспоминала: «Я бросила взгляд вниз и увидела медленно ползущего жука. Я подумала: «Если этот жук доползет до трещины, а Уинстон так и не сделает мне предложение, значит, он не сделает его никогда». Судя по дальнейшему развитию событий, Черчилль оказался проворнее насекомого…
Вечером перед отходом ко сну Клеми написала своему жениху
любовное послание – большое сердечко с надписью «Уинстон» внутри. В течение
нескольких дней, пока будущие молодожены гостили у Мальборо, все слуги
только и занимались тем, что носили по длинным коридорам Бленхеймского
дворца бесчисленные письма, которыми влюбленные обменивались друг с другом:
«Моя дорогая, как ты? Я шлю тебе мою лучшую любовь. Я только что встал,
не желаешь прогуляться со мной после завтрака в розарии? Всегда твой У.»,
«Мой дорогой, я в полном порядке и с огромным удовольствием прогуляюсь
с тобой в розарии. Всегда твоя Клементина».
Свадьбу назначили на середину сентября. Пока данное событие решили хранить
в строгом секрете, но уже по возвращении во дворец Уинстон не сдержался
и рассказал обо всем своему близкому другу Смиту. Так что уже вскоре весь
Бленхейм знал о помолвке.
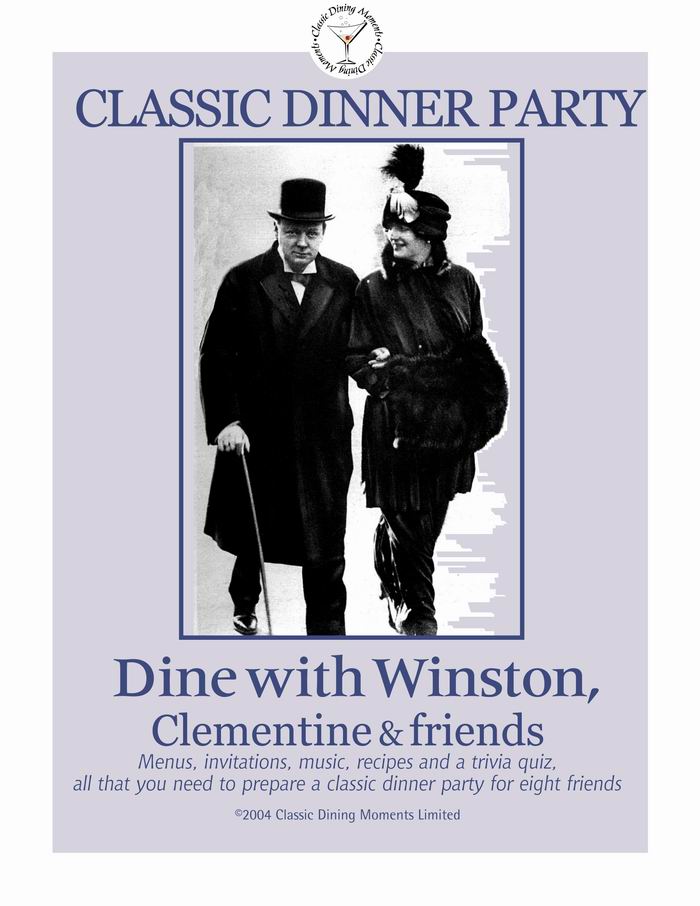
Не везет в любви
15 августа Уинстон официально объявил о предстоящей свадьбе. Правда, в какой-то момент Клементина засомневалась в своем выборе и решила отменить брачную церемонию. Как вспоминала их младшая дочь Мэри: «Она увидела лицо главного соперника, который будет в течение всех пятидесяти шести лет брака мешать их совместному общению». Под данным «соперником» подразумевалась общественная и политическая жизнь Уинстона, которая поглощала всю его энергию, силы и время. Увидев сомнения Клементины, в дело вмешался ее брат Билл, попытавшийся объяснить сестре, что безнравственно будет отказываться от собственных обещаний. К тому же Клеми уже трижды разрывала помолвку: две были сделаны в тайне, а одна объявлена публично. В последнем случае ее кавалером был Лайонел Эйрл, богатый служащий из лондонского Сити. Все уже готовились к свадьбе, когда один из близких друзей решил пригласить влюбленных в свой загородный дом в Голландии. Двух недель вместе было достаточно, чтобы понять, что мистер Эйрл совершенно не подходит на роль будущего мужа.
Билл прибегнул к последнему доводу: поступи она так в
четвертый раз, неприятности в высшем свете не заставят себя ждать. Уинстон
также не остался в стороне и с присущей ему энергией убеждал свою возлюбленную
в идеальности их будущего, предназначенного только для них двоих. Он производил
впечатление человека, хватавшегося за соломинку. Ведь путь Уинстона к
браку также был очень тернист. Только если в случае с Клементиной разрыв
отношений происходил по ее воле, то с Черчиллем было все с точностью до
наоборот. В жизни Уинстона были три девушки, которым он предложил руку
и сердце, – дочь британского резидента в Хайдарабаде Памела Плоуден, наследница
танкерной империи Мюриель Уилсон, а также американская актриса Этель Бэрримор.
Все три ответили ему отказом, так что в случае с Клементиной Уинстон уже
не мог упустить своего счастья. Вряд ли сомнения Клеми были и вправду
серьезными, ведь в том, что она была влюблена, сомневаться не приходится.
В письме к Черчиллю она писала: «Как я жила все эти 23 года без тебя?
Все, что произошло за пять последних месяцев, кажется мне каким-то прекрасным
сном». Уинстон отвечал взаимностью: «У меня просто нет слов, чтобы передать
тебе любовь и радость, которые переполняют меня».
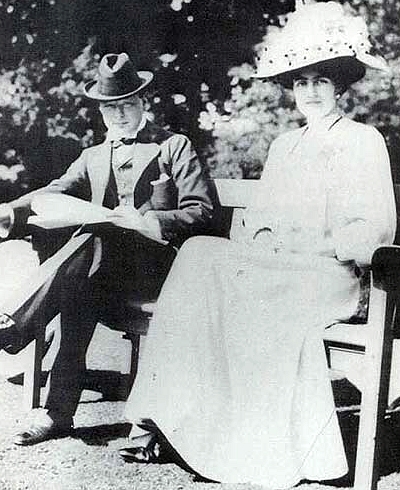
Глава истории
Венчание состоялось 12 сентября в 2 часа пополудни в
церкви Святой Маргариты в Вестминстере. На невесте было сверкающее платье
из белого атласа со струящейся белой фатой из нежного тюля, корона из
флердоранжа и бриллиантовые серьги, подарок жениха. Черчилль оделся в
обычный для того времени свадебный костюм – высокий цилиндр, белая манишка,
бабочка, жилетка и черный сюртук.
Брачная церемония проходила под руководством двух епископов – доктора
Эдвардса и настоятеля Манчестерского собора доктора Уэллдона. Последний
произнес очень трогательные слова в адрес молодоженов, закончив свою речь
следующим пассажем: «В жизни любого государственного деятеля наступают
моменты, когда он всецело зависит от любви, понимания и глубочайшей симпатии
своей жены. Благотворное влияние, которые оказывают жены на наших государственных
мужей, есть одна из ненаписанных глав английской истории».
В отличие от своего коллеги доктор Эдвардс выглядел не
слишком убедительным. Его слабый голос едва долетал до четвертого ряда.
Как вспоминал один из очевидцев, под монотонные причитания епископа «тоска
овладела каждым из присутствующих… Как вдруг церковные своды прорезал
резкий и громкий голос: «Я, Уинстон Леонард, беру тебя, Клементину Огилви,
себе в жены».
После церемонии новобрачные спокойно вышли из здания церкви и быстрым
шагом отправились к ждущей их повозке. Как вспоминал обозреватель журнала
The World, все это было сделано с такой простотой и поспешностью, как
будто свадьба была для них каждодневным явлением.
Свадебный прием состоялся в роскошном особняке на Портленд-плейс, предоставленном молодой невесте ее теткой леди Сент-Хелье, у которой они когда-то и познакомились. На свадебный банкет были приглашены тысяча триста человек. Среди многочисленных подарков, которые получили молодожены, был огромный серебряный поднос с выгравированными подписями всех коллег Уинстона по правительству, а также десятитомное собрание сочинений Джейн Остин от премьер-министра Герберта Асквита с дарственной надписью на третьем томе, содержащем первую часть романа «Гордость и предубеждение». Пришла на свадьбу и мадам Тюссо, сделавшая 12 сентября 1908 года восковую фигуру молодожена постоянным экспонатом своей всемирно известной экспозиции. Самым же ценным стал подарок от короля Эдуарда VII – трость с золотым набалдашником и золотой гравировкой: «Моему самому молодому министру». Этим подарком Черчилль пользовался в течение всей своей жизни. Сегодня его можно увидеть среди других экспонатов, представленных в личном музее Уинстона Черчилля в Лондоне.
После церемонии молодожены сели на поезд и отправились в свадебное путешествие, начавшееся с городка Вудсток. Бленхейм восторженно встретил новобрачных. На улицах со-бралась целая толпа народу, на местной колокольне послышался торжественный перезвон – тот самый, который тридцать три года назад возвестил миру о рождении Черчилля. На следующий вечер молодые отправились на небольшое церковное кладбище в Блэдоне, где посетили могилу отца Уинстона лорда Рандольфа. Спустя несколько дней чета Черчилль отбыла на континент. Проведя несколько дней в Венеции, молодожены вернулись в Лондон и начали семейную жизнь, которой будет суждено продлиться больше полувека. И подарили миру пять наследников и десять внуков.
КСТАТИ...
В середине пятидесятых годов на одном из обедов, которые
Черчилли устраивали в своем загородном доме в Чартвелле, гости и хозяева
решили сыграть в одну игру: «Кем бы вы хотели стать, если бы не стали
тем, кто вы есть?» Гости оживленно принялись фантазировать о своих мнимых
профессиях и дарованиях. Наконец очередь дошла до хозяина дома. «Если
бы я не стал тем, кто я есть, я бы с удовольствием стал… – здесь Уинстон
выдержал актерскую паузу и, вынув сигару изо рта, медленно повернулся
к Клементине: – вторым мужем миссис Черчилль».
Опубликовано в журнале "Атмосфера" № 62 за 03.06.2007 14:06:17
Анна Андерсон (Чайковская)
 |
|
Следователь Николай Соколов категорически заявил, что ни один из членов царской семьи не мог спастись в этой кровавой бойне. В отчете Соколова было особо упомянуто, что Анастасия уцелела после первого залпа и ее прикончили штыками и прикладами. Помощник Соколова пишет: «Когда дым немного рассеялся и убийцы начали осматривать тела, они обнаружили, что великая княжна Анастасия жива и невредима. Она упала в обморок, когда началась стрельба, и, таким образом, пули не попали в нее. Когда убийцы дотронулись до нее, она пришла в себя, увидев вокруг лужи крови и трупы родных, закричала. Ее убили». Племянник императрицы Александры Федоровны лорд Маунтбэттен выразился еще более четко. «Моя кузина Анастасия, - заявил он, - лежа на полу, получила восемнадцать штыковых ударов». Так заканчивает рассказ о великой княжне Анастасии официальная история.
Позже неизвестная всегда настаивала, что «сломила» ее именно психиатрическая клиника. Не потеря семьи и родины и даже не покушение на нее, но эти два года, которые она провела в Дальдорфе в обществе десятка неопрятных, бормочущих, плевавшихся сумасшедших. До этого, по ее словам, она была «другим человеком». По прибытии в Берлин, надеясь найти сестру своей матери, она направилась прямо к Нидерландскому дворцу. Только в последний момент она сообразила, что там может не найтись никого, кто бы ее знал, и что нельзя было просто постучать в дверь и назвать себя. Впоследствии она пыталась объяснить, что никогда в жизни не бывала нигде без сопровождения. «Можете вы понять, - спрашивала она, - что значит вдруг осознать, что все потеряно и ты одна на свете? Можете вы понять, почему я сделала то, что сделала?» Она остановилась на полуслове. «Я не понимала, что я делала».
Она не знала, как она попала на Бендлерский мост и на
что рассчитывала, падая в воду с небольшой высоты. Само падение она не
помнила. Она помнила только, что смотрела на воду и думала о том, что
вода всегда имела для нее особую притягательную силу, что ей всегда хотелось
знать, «что там на дне». Было 9 часов вечера, вторник, 17 февраля 1920
года. Ее завернули в одеяло и отнесли в участок, где дали выпить чего-то
горячего и крепкого. Потом начались вопросы. Кто вы? Что вы делали? Вы
поскользнулись? Вас толкнули? Вы сами бросились в воду? Зачем вы это сделали?
Кто вы? Где ваши документы?
Неизвестная молодая женщина сидела в углу, дрожа, не говоря ни слова,
бледная как полотно, в полуобморочном состоянии. Было ясно, что она смертельно
напугана. Только когда полицейские снова начали кричать и пригрозили ей
судебным преследованием, она выказала какие-то признаки внимания. «Я ни
о чем не просила», - сказала она.
В тот вечер ее перевезли в палату Елизаветинской больницы на Лютцовштрассе. Сестры сняли с нее одежду, вытерли насухо, одели в белый халат и составили опись ее вещей: черная юбка, черные чулки, полотняная блузка, нижнее белье, высокие сапоги на шнуровке и тяжелая бесформенная шаль. Но ни кошелька, ни документов. Сестры искали монограммы, прачечные метки, какие-то ярлыки, все, что могло бы помочь полиции, но никакой информации они не обнаружили, одежда неизвестной оказалась исключительно домашней работы. Больше ничего не оставалось делать. Ей дали возможность уснуть.
На следующее утро доктора и полиция нашли ее окрепшей,
более оживленной, по-прежнему испуганной, но в то же время несколько вызывающей.
Она заявила, что не скажет им, кто она такая, кто ее родственники, откуда
она и чем зарабатывает на жизнь. Им лучше оставить ее в покое. Это была
не просьба, но требование, и когда вопросы продолжились «на всех языках»,
она просто отвернулась к стене, укрылась с головой одеялом и больше ни
слова не сказала. Ни слова. Эта сцена повторялась изо дня в день шесть
недель.
В конце марта доктора отправили ее в психиатрическую клинику в Дальдорфе,
так как просто не знали, что с ней делать. Диагноз был «меланхолия», или,
точнее, «душевное заболевание депрессивного характера». Относительно ее
общего психического состояния ничего сказано не было. Она появилась в
Дальдорфе, в пригороде Берлина, как «фройляйн Унбекант» (неизвестная)
и заняла место в четвертом отделении, в палате Б, в низеньком плоском
здании, предназначенном для «спокойных больных». В палате было еще четырнадцать
женщин. Ни одна из них, кроме фройляйн Унбекант, не была, строго говоря,
спокойной.
При осмотре, проведенном в клинике 30 марта 1920 года,
был зарегистрирован ее вес -- 110 фунтов (около 50 кг) и рост 5 футов
2 дюйма (около 160 см). Дальше в ее описании говорилось: «Очень сдержанна.
Отказывается назвать имя, возраст и занятие. Сидит в упрямой позе. Отказывается
что-либо заявить, утверждает, что у нее есть на это основание, и если
бы она захотела, она бы уже давно заговорила... Доктор может думать что
хочет; она ему ничего не скажет. На вопрос, бывают ли у нее галлюцинации
и слышит ли она голоса, она ответила: «Вы не очень-то сведущи, доктор».
Она признает, что пыталась покончить с собой, но отказывается назвать
причину или дать какие-нибудь объяснения».
Сестры в Дальдорфе были решительно склонны согласиться с диагнозом, поставленным
в конце второго года пребывания фройляйн Унбекант в клинике: «обыкновенное
психическое расстройство». Одна из трезвомыслящих сестер считала, что
«у фройляйн Унбекант была склонность к несбыточным мечтам, воздушным замкам:
она воображала, что, уйдя из клиники, купит усадьбу и будет ездить верхом.
Ей нравился этот вид спорта». Иногда ее высказывания были куда более удивительными.
«Она много знала о германском императоре и однажды заговорила о кронпринце
так, словно лично была с ним знакома».
Было ли так на самом деле? Сестры недоумевали. Их сомнения
еще более усилились, когда она назвала себя «работницей» -- она, с ее
«тонкими, нежными руками», ее «изнеженными манерами» и ее «повелительным
видом». Они научились уважать ее желания и не удивились, когда за ней
приехали русские монархисты. В минуту откровенности она сказала им, что
это обязательно произойдет.
Никто не знает, что заставило фройляйн Унбекант уступить; почему после
почти двух лет в Дальдорфе она неожиданно заявила, что она - младшая дочь
императора Николая II. Никто не мог проследить точную последовательность
событий в Дальдорфе, но все причастные к ним лица согласны в одном: скандал,
последовавший за обнаружением подлинной личности фройляйн Унбекант, не
был делом ее рук.
Сестры в Дальдорфе никогда не сомневались, что фройляйн Унбекант -- русская.
И дело было не в ее «восточном» акценте и не в том, что во сне она говорила
на разных языках. «Она говорила по-русски, как русская, - свидетельствует
Эрна Бухольц, бывшая учительница немецкого языка, жившая некогда в России,
- а не как выучившая русский иностранка». Сестра Бухольц первой ухаживала
за фройляйн Унбекант и впоследствии вспоминала событие, имевшее место
уже летом 1920 года:
«Во время ночных дежурств у меня была возможность поговорить с ней, так как она обычно страдала бессонницей... Однажды вечером я рассказала ей, что приехала из России, говорила о соборе Василия Блаженного в Москве и вообще о русских делах. Она кивала и сказала, что знает все это... Я спросила ее, знает ли она русский. Она отвечала утвердительно, и мы заговорили с ней по-русски. Она говорила без ошибок, полными связными предложениями без всяких затруднений... У меня сложилось четкое впечатление, что она прекрасно знает русский язык, ситуацию в России и особенно военные проблемы». Весь остальной персонал мог подтвердить, что фройляйн Унбекант говорила о России уверенно и точно. «Она обнаружила такое основательное знание географии, - говорила одна из сестер, - и такое владение политическими вопросами. Я сразу могла понять, что она из самого высшего общества». И она имела разительное сходство с членами русской царской семьи. По крайней мере так казалось сестрам, сравнивавшим ее внешность с фотографиями царской семьи в одном из иллюстрированных журналов. Внимание сестер сразу же привлекла фотография четырех царских дочерей. Они внимательно ее рассматривали, обсуждали и наконец решили поставить вопрос прямо: они показали журнал фройляйн Унбекант.
Сестра Берта Вальц утверждала, что при виде фотографий «поведение фройляйн Унбекант заметно изменилось». Она «очень опечалилась, побледнела и сказала: «Я все это знаю!» Собравшись с духом, сестра Вальц указала на одну из великих княжон и сказала, что эта царская дочь предположительно спаслась. Фройляйн Унбекант поправила ее и сказала: «Нет не эта, но другая». Сестра Малиновская вспоминает, что во время последовавшего между ними разговора фройляйн Унбекант была «очень расстроена». Она говорила о своих сестрах, о зашитых ими в одежду драгоценностях, о последней ночи в Екатеринбурге, когда «горничная бегала с подушкой в руках, пряча в ней лицо и пронзительно крича», и о «главаре убийц, подошедшем к ее отцу, издевательски размахивая револьвером... и выстрелившем в него».
В газетной статье, опубликованной в 1927 году, Теа Малиновская писала: «Она взволнованно просила меня бежать с ней в Африку... Когда я возразила, что там идет война, она сказала, что мы можем вступить во французский Иностранный легион в качестве сестер милосердия и что там мы будем в большей безопасности, чем здесь, у евреев... Она была убеждена, что врачи-евреи в клинике состоят в заговоре с большевиками и однажды они ее предадут». Сестра Малиновская поняла особый смысл этих слов. В то время евреев, вечных козлов отпущения в Европе, обвиняли не только в организации большевистской революции в России, но и непосредственно в убийстве царской семьи в Екатеринбурге. Убийство Романовых впоследствии максимально использовалось нацистами в период их прихода к власти в Германии. Поэтому в качестве «великой княжны Анастасии» фройляйн Унбекант не было необходимости объяснять или оправдывать свой антисемитизм.
Вернувшись домой, Теа Малиновская рассказала о своей
беседе с фройляйн Унбекант своему жениху, врачу. В ответ она встретила
лишь недоумение: а что еще она рассчитывала услышать в сумасшедшем доме?
Дело могло бы на этом и закончиться, если бы в Дальдорф не поступила Клара
Пойтерт, «высокая, худая, костистая женщина» пятидесяти одного года, то
ли портниха, то ли прачка - это так и не было установлено.
Клара поступила в Дальдорф в конце 1921 года, после того как обвинила
своих много вытерпевших от нее соседей в краже денег. В клинике она вела
себя беспокойно, скучала и злилась. Довольно скоро она привязалась к стройной
девушке, лежавшей в другом конце палаты. Фройляйн Унбекант совершенно
заворожила Клару с момента ее поступления в клинику. Это была «важная
персона», вспоминала она. «Все в палате это знали». Было и еще кое-что.
В докладе русских монархистов от июня следующего года говорится, что Клара
«впервые встретила неизвестную в Дальдорфе и лицо девушки показалось ей
знакомым. Она (Клара) хотела заговорить с ней, но ее первая попытка не
удалась, поскольку незнакомка отказалась отвечать. Через некоторое время
Клара снова обратилась к ней со словами: «Ваше лицо мне знакомо, вы не
из простых». Испуганно на нее взглянув, неизвестная прижала палец к губам,
призывая ее к молчанию. Вскоре после этого она сама подошла к Кларе и
подружилась с ней.
Неясно, почему фройляйн Унбекант решила, что может доверять Кларе Пойтерт. Возможно, одиночество взяло верх над опасениями. «Мы еще больше сблизились, обнаружив, что были единственно нормальными людьми среди безумных, - вспоминала Клара. - Мы беседовали и даже шутили». Возможно, фройляйн Унбекант искренне расположилась к Кларе, привлеченная ее добродушием и материнской заботой, которую Клара умела проявлять в свои благополучные дни. Возможно, что Клара в состоянии возбуждения много ей наговорила. Клара тоже видела в газетах фотографии царской семьи. В одном номере «Берлинер Иллюстрирте Цайтунг» была статья «Правда об убийстве царя». Под фотографией великих княжон Клара прочла о слухе, пронесшемся по Сибири в 1918 году и теперь упорно державшемся в Европе: «Правда ли, что одна из царских дочерей жива?» Клара не замедлила сделать собственный вывод. По одному из рассказов, она подбежала к постели фройляйн Унбекант, сунула ей в лицо газету и закричала во весь голос: «Я вас узнала! Вы - великая княжна Татьяна!»
«Татьяна», по этой версии, не подтвердила и не опровергла
это заявление, но заплакала и закрыла лицо одеялом.
Тем временем Высший монархический совет отыскал Зинаиду Сергеевну Толстую,
подругу императрицы, жившую до революции в Царском Селе и часто бывавшую
в Александровском дворце. Если фройляйн Унбекант та, за кого она себя
выдает, рассуждали эмигранты, она наверняка помнит Зину. Госпожа Толстая
с дочерью, капитан фон Швабе и еще один офицер-монархист капитан Степан
Андриевский прибыли утром в Дальдорф. Там их встретил главный врач Елизаветинской
больницы доктор Винике, лечивший фройляйн Унбекант в 1920 году. Швабе
уговорил его выступить в качестве посредника на переговорах с врачами
Дальдорфа, но в клинике никто не оказал никакого сопротивления требованиям
эмигрантов. Сам директор Дальдорфа, побеседовав с Винике, просто попросил
одну из сестер привести фройляйн Унбекант в приемную.
«Прошло около четверти часа, - вспоминал Швабе. - Наше напряжение возрастало.
Наконец вернувшаяся сестра объявила, что фройляйн Унбекант не желает выходить».
В таком случае, сказал директор, эмигрантам придется самим к ней подняться. Они застали ее в обычном положении, лицом к стене, с головой, накрытой одеялом. Швабе приблизился к ней первым. «Не нужно бояться, - сказал он мягко. - Здесь ваши друзья». Ответа не последовало. По данному Швабе знаку подошли Зинаида Толстая с дочерью. Фройляйн Унбекант медленно повернулась к ним, все еще закрывая одеялом низ лица. Ободренные этой реакцией Толстые достали фотографии царской семьи в Тобольске, икону и подписанные фотографии императрицы Александры и ее дочерей. «Глядя на фотографии, неизвестная заплакала, - сообщает фон Швабе. - Несколько раз, склоняясь над ней, Толстые просили ее сказать им хоть словечко». Она молчала. Она продолжала молчать и когда капитан Андриевский «в состоянии крайнего возбуждения» подбежал к кровати с криком: «Ваше высочество! Ваше высочество!» Швабе был в ужасе. Все остальные пациенты в палате застыли, наблюдая эту сцену. «Они вас могут услышать!» - пытался остановить его Швабе, но Андриевский не обратил на него внимания. «Ваше высочество!» - снова закричал он.
«Поскольку было невозможно убедить неизвестную открыть
лицо, - продолжает Швабе, - дамы и капитан Андриевский попытались сделать
это силой. Неизвестная отчаянно сопротивлялась. Доктор Винике, присев
у постели, успокоил ее. Все в порядке, говорил он, все хорошо, с ней ничего
не случится. Он осторожно открыл ей лицо. Неизвестная не сопротивлялась...
На лице у нее выступили красные пятна; на глазах были слезы. Все смотрели
на нее пристально и пришли к выводу, что она действительно великая княжна...
Единственное, смутившее их обстоятельство, был небольшой рост неизвестной».
Все это происходило под видом величайшей секретности. Каждый раз, когда
один из эмигрантов подходил к постели фройляйн Унбекант, другой отходил
в сторону «отвлечь сестер». Сестрам все это надоело. В чем дело с этими
людьми, спрашивали они доктора Винике. Неужели они настолько бесчувственны,
что не понимают, как напугана эта женщина? Ее пытают, и это следует прекратить.
...Барон фон Кляйст без труда добился ее освобождения из клиники. Когда
Кляйсты приехали за ней в солнечное майское утро, директор клиники остановил
их в холле и спросил, почему они хотят забрать девушку.
«Потому что она наша соотечественница», - ледяным тоном
отвечал барон фон Кляйст. И поскольку этот ответ не произвел особого впечатления,
барон добавил: сам факт, что Анастасия могла оказаться царской дочерью,
является достаточным основанием удалить ее отсюда.
Барон Артур фон Кляйст жил с женой и двумя дочерьми в просторной квартире
на Неттельбекштрассе, 9, на четвертом этаже. Неизвестная женщина из Дальдорфа
поселилась там 30 мая 1922 года и за несколько дней перевернула всю их
жизнь вверх дном. Если барон надеялся приютить у себя Анастасию тихо и
спокойно, то он ошибся. Ее присутствие превратило дом Кляйстов в нечто
вроде малого двора в изгнании, место, где собирался «весь Петроград»,
по меткому выражению одного репортера. Русские монархисты разного толка,
и преданные и не очень, являлись туда созерцать новую претендентку и проводить
там время. Сама баронесса изумлялась количеству вдруг явившихся визитеров.
До того они с мужем особой популярностью не пользовались. Теперь же, когда
Анастасия оказалась под крышей их дома, они превратились в самую популярную
пару в монархистских кругах. В некоторые дни в их гостиной собиралось
до двадцати человек, и вполне понятно, что барону это начало доставлять
удовольствие. Бывший полицейский в царской Польше, он стал теперь доверенным
лицом высочайшей особы, важной персоной и, по имеющимся сведениям, поощрял
толпы монархистов-прихлебателей как свидетельство собственного престижа.
Некоторые монархисты сильно подозревали, что главной целью хозяев квартиры на Неттельбекштрассе было не установление личности Анастасии, а самовозвеличивание Артура фон Кляйста. Другие, менее снисходительные, утверждали, что барон намерен нажиться на трагедии царской семьи. Инспектор из главного полицейского управления высказал по поводу барона следующее: «Следует отметить, что он приложил немало усилий для разгадки этой тайны и не скрывал своего изначального убеждения, что это настоящая великая княжна. Правда, у него могли быть и скрытые мотивы, на что намекали в эмигрантских кругах. Он надеялся извлечь из своей заботы о молодой женщине немалые выгоды, если бы в России когда-либо утвердился прежний порядок». В любом случае, когда барон с женой пригласили ее к себе, они были убеждены - горячо убеждены, - что Анастасия не кто иная, как младшая дочь царя. Капитан фон Швабе также всецело поддерживал ее притязания. Когда позднее в тот год жена Швабе родила девочку, ее назвали Анастасией, крестной матерью которой стала фройляйн. «Было приглашено множество эмигрантов, -- вспоминал друг Швабе Франц Енике. - Многие из них служили раньше при дворе. Все были уверены, что Анастасия - царская дочь».
Автор: Питер КУРТ
Источник
Апполония Сабатье
Одной из самых ярких представительниц дам полусвета была Аполлония Сабатье или, как ее называл Теофил Готье, Президентша. Современники говорили, что при ее «...крещении присутствовали три феи: красота, грация и веселый нрав. У нее был великолепный цвет лица, правильные черты, маленький, вечно улыбающийся рот и хитрое выражение лица. Она распространяла вокруг себя счастье и свет, одевалась со вкусом и фантазией, не следуя моде. Вернее, она создала собственную моду. Великие художники, посещавшие ее по воскресеньям, давали Аполлонии советы и рисовали фасоны платьев...». Среди людей искусства Президентша пользовалась огромной популярностью: одни ее рисовали и лепили, другие – преподавали ей музыку, третьи - списывали с нее своих героинь, создавая шедевры мировой литературы. Аполлония была музой и другом Бодлера, Клезингера, Готье, Флобера, Фейдо, Мессонье, Делакруа... Когда-то этой юной и скромной девушке все в округе пророчили карьеру оперной певицы (Аполлония профессионально занималась пением и обладала прекрасным голосом) Никто не мог и предположить, что однажды это хрупкое и прозрачное существо бросит все, став любовницей мецената Моссельмана, чтобы еще через некоторое время превратиться в одну из самых знаменитых и самых уважаемых куртизанок Франции.

Имя Аполлонии Сабатье часто сопровождали скандалы. Так, Президентша сумела
«всколыхнуть» общественность, совершив довольно дерзкий по тем временам
поступок – согласилась, чтобы с ее тела сделали слепок. Работа знаменитого
Клезингера была прекрасна. «Женщина, укушенная Змеей», корчившаяся от
боли на ложе из цветов, привлекала тысячи глаз и вызвала настоящий переполох:
скульптора обвиняли в явном бесстыдстве работы и ее неприкрытом эротизме.
Но как бы то ни было, находящаяся сейчвс в Лувре «Женщина, укушенная Змеей»
принадлежит к самым знаменитым скульптурам XIX века. Среди посетителей
салона Презеденши был знаменитый Теофиль Готье, который настолько обожал
куртизанку, что посвятил ей часть своих стихотворений. Писатель говорил,
что «Аполлония превосходит всех остальных женщин тем, что, несмотря на
редкую красоту, не требует, чтобы за ней ухаживали... Она принадлежит
к той редкой породе женщин, с которыми мужчины чувствуют себя интеллектуально
и духовно свободными».
Здесь можно было встретить и дерзкого на слова Флобера, и задумчивого Мессонье, и скромного Листа. Но разгульная жизнь не сделала Аполлонию мелочной и строптивой, скорее, наоборот, вращаясь в кругу одаренных людей, она сама становилась ярче. И когда в ее жизни появился Бодлер, то первоначальная обоюдная симпатия быстро переросла в странную любовь. Мрачный, скрытный Шарль и веселая, жизнерадостная Аполлония... Они скрывали свои отношения. Знаменитый поэт писал ей письма, посвящал стихи, иногда приезжал. «Он обожал ее так, - пишет Дж. Ричардсон – как обожают богинь».
Но несмотря на всю силу своей привлекательности, Президентша все же была женщиной, женщиной из плоти и крови, а для Бодлера признание этого факта было равносильно удару кнута, потому что этому гениальному писателю, прежде всего, нужна была муза, идеал, который вдохновлял бы в него жизнь. А Аполлония страдала. Ненавидела и одновременно желала Бодлера, который оставался для нее, куртизанки с большой буквы, недосягаем. Но и менно духовная близость, несмотря на одну, проведенную вместе ночь, связала их узами, более крепкими, чем любовь - узами дружбы. Даже через тринадцать лет после смерти Шарля она защищала его от неистовых критиков.
Через какое-то время Аполлония рассталась с Моссельманом, у того больше не было денег на куртизанку – его семья разорилась. Президентша решив зарабатывать сама. Жизнь среди одаренных людей не прошла для нее даром – она принялась за реставрацию и рисование миниатюр. Ее учителем был знаменитый Мессонье (художник рисовал ее портрет больше восьми раз), поэтому рисовала она настолько неплохо, что заслужила одобрение большей части художественных критиков. Однако прожить на эти деньги, привыкшая к роскоши куртизанка не смогла, и потому была вынуждена продать часть произведений искусства из своей коллекции. Только за собственный бюст, работы Клезингера, Лувр заплатил ей 43 тысячи франков.
Но Аполлония проработала на себя недолго. Зная цену деньгам и мастерски владея искусством обольщения, ей не составило труда завести очередного любовника. Она выбрала Ричарда Уоллеса – внебрачного сына богатого маркиза. И не прогадала. Через несколько лет этот без пяти минут маркиз, унаследовав 60 миллионов, не забыл и о своей очаровательной любовнице. Президентше перепало около 50 тысяч ливров... Пришло настоящее богатство, но ушло время. Аполлонии было уже далеко за сорок. Она располнела. Ее красота быстро и стремительно увядала; все друзья или разъехались, или умерли, а воскресные обеды в роскошном салоне просто перестали существовать... Через несколько десятков лет одна из самых знаменитых французских куртизанок превратилась в обрюзгшую женщину, внешне мало, чем напоминающую ту молодую красавицу, при крещении которой присутствовало три феи...
Маргарет Горман
Начало 1920-х годов в Америке (да и во всем мире) с точки зрения современного шоу-бизнеса было каменным веком. Кино еще не научилось говорить, радио находилось в зачаточном состоянии, о телевидении только мечтали. Не было и знаменитых общенациональных премий - ни тебе "Оскара", ни "Тони", ни "Грэмми" с "Эмми". Первый конкурс подобного масштаба затеяли провести несколько предприимчивых жителей Атлантик-Сити - в торжественной обстановке выбрать самую красивую девушку США. (Надо сказать, что аналогичные региональные конкурсы проводились уже давно.)
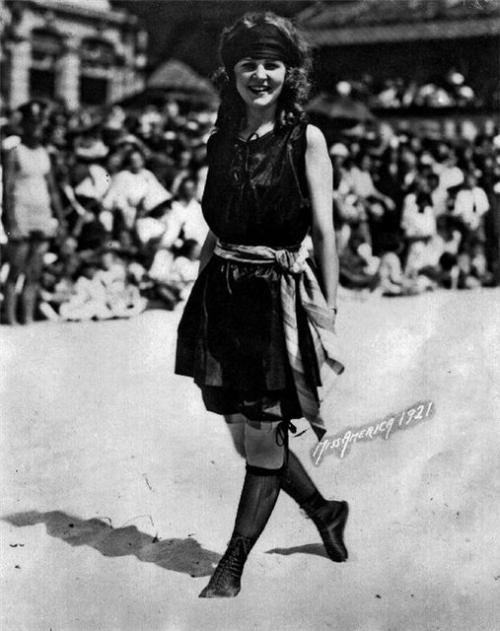
08.09.1921 г. - коронована первая мисс Америка — Маргарет Горман
А поскольку город являлся главным приморским курортом Восточного побережья, они логично решили, что юные красавицы должны дефилировать по сцене в купальных костюмах. После этого быстро нашелся спонсор, им стал популярный журнал The Bather`s Review, рассчитанный на любителей пляжной жизни. С целью продлить отпускной сезон конкурс наметили провести в праздник День труда, приходящийся на первый понедельник сентября...
Таким образом Атлантик-Сити, родина игры "Монополия",
осчастливил страну и другим гениальным изобретением: общенациональными
смотринами Золушек, надеющихся заполучить корону принцессы. Корона, само
собой, должна была достаться только одной претендентке. Все это вполне
вписывалось в русло национальной мифологии.
В 1921 году дочь чиновника федерального министерства сельского хозяйства
Маргарет Горман, завоевавшую титул "мисс Вашингтон" на городском
конкурсе (его организовала газета The Washington Herald), среди прочих
соискательниц пригласили в Атлантик-Сити - на первый общенациональный
конкурс. Оттуда девушка вернулась в столицу "самой красивой американской
купальщицей" и с соответствующим призом - золотой статуэткой русалки
стоимостью $1500.
На следующий год Маргарет предложили отстоять почетное звание, но ее родной город в Атлантик-Сити представляла уже другая "мисс". И возникла проблема: как теперь величать саму Горман? В конце концов кому-то пришло в голову ставшее знаменитым "мисс Америка". Сохранить за собой этот титул Горман, кстати, не смогла, и торжественно, под звуки фанфар и озаряемая фотовспышками, передала корону новой "мисс Америка". Кстати, это был всемирный дебют полуобнаженного тела — девушки впервые в истории показались на публике в купальниках.

Конкурс быстро набирал обороты. Случались, правда, сбои. С 1928-го по 1932 год, например, он не проводился в связи с постигшей Америку Великой депрессией (были пропущены также 1934-й и 1950-й). Любопытно, что в годы войны периодичность конкурса соблюдалась неукоснительно. Правда, временно пришлось перенести церемонию из самого крупного зала Атлантик-Сити -- Convention Hall, который использовали под казарму, в один из городских театров. Но начиная с 1946 года всех "мисс Америка" выбирали в Convention Hall, со временем превратившемся в один из главных туристских объектов города.

Всего за 80 лет короной, с 1933 года неизменно поставляемой ювелирной фирмой William Schoppy Trophies, было увенчано 75 девушек из 29 штатов. Рекорд по красавицам держат Калифорния и, как ни странно, деревенский Огайо (по 6 победительниц), за ними следует Пенсильвания (5), далее Оклахома, Иллинойс, Мичиган и Миссисипи (по 4), Техас, Миннесота, Колорадо, Канзас и Нью-Йорк (по 3). По две "мисс" приходится на округ Колумбия, штаты Нью-Джерси, Теннесси, Аризона, Алабама, Юта, Южная Каролина, Арканзас, Гавайи и Вирджиния, по одной -- на Миссури, Флориду, Коннектикут, Джорджию, Северную Каролину, Висконсин и Кентукки. Единственной в истории дважды "мисс" стала Кэтрин Кэмпбелл ("мисс Америка-1922, 1923"), в 15-летнем возрасте отобравшая корону у Маргарет Горман и сумевшая сохранить ее на следующем конкурсе.

В первые годы это был конкурс красоты как таковой: девушки демонстрировали свои физические кондиции, жюри оценивало лицо (максимум 15 очков за строение и 10 за привлекательность), глаза, ноги, руки (отдельно кисти), грудь (по 10), волосы, нос, губы (по 5), а также грациозность (10). В 1945 году набор критериев существенно расширился - стали учитывать тембр голоса, уровень общей культуры (в частности, владение речью), черты характера, способность себя подать, наличие особых талантов, здоровье, умение одеваться.

Но все равно конкурсы "Мисс Америка" долгое время весьма смахивали на невольничий рынок или лошадиную ярмарку - разве что в зубы девушкам жюри на заглядывало. Впрочем, этого и не требовалось: конкурсантки, как и положено в таких случаях, не "снимали" с лица улыбки на протяжении всего мероприятия. В 1938 году начали действовать новые правила, определявшие возможный возраст участниц в рамках 18-28 лет (сейчас - до 25). Чуть позже ввели совсем уже драконовские ограничения: к участию в конкурсе не допускались замужние американки, а также разведенные, имевшие детей и делавшие аборты. Таким образом, первая красавица страны должна была являть собой Мисс с большой буквы - иначе говоря, образец высокой морали для американских девиц на выданье.
Мэй Уэст
Есть в испанском городе Фигерасе в музее, созданном Сальвадором Дали, зал-портрет. Вы входите в салон со странной, как и полагается этому музею, мебелью и предметами причудливого дизайна. Перед двухарочным камином, украшенным в стиле лжерококо, или просто «кич», софа цвета красного густого вина, на того же цвете стене – две фотографических почти импрессионистских пейзажа реки Сены. Оглянувшись, вы видите по обе стороны зала ниспадающий живописными складками занавес, а сойдя на несколько ступенек вниз по паркету, замечаете узенькую, расставленную буквой «Л» лестничку, которая приглашает вас взглянуть в большую круглую лупу.

И только приблизив глаза к этому магическому стеклу, обнаруживаете, что
перед вами вовсе не салон, а гениально задуманный портрет. На вас смотрит
женщина – зовущее и торжествующе, уверенная в своей не подлежащей сомнению
власти. Кровавый контур дивана – это ее яркие губы, камин с часами намечает
линию носа с чувственными ноздрями, картины стали прищуренными и застланными
томной поволокой глазами, ступеньки очерчивают круглый подбородок, а занавес
белокурыми локонами обрамляет лицо. Выражение схвачено столь точно, что
хоть раз видевшие ее в фильмах или на фотографиях узнают немедленно.
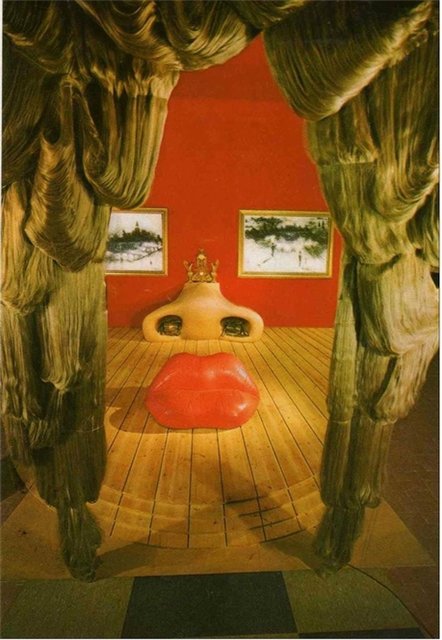
Ну конечно, это она, знаменитая кинозвезда Голливуда 30-х годов - "самый
выдающийся эротический памятник нашей эпохи", как сказал про нее
Дали. Великий Дали, очарованный фильмами с участием Мэй, написал ее портрет
и прокомментировал: "Когда ты приходишь к ней, тебя встречают манящие
и располагающие губы. Но будь осторожен! Этот рот в любой момент может
тебя съесть!"

- Вы не могли бы вынуть из кармана брюк ваш пистолет?
Его дуло так и впивается мне в живот, - говорит полноватая блондинка,
затянутая в вечернее платье моды начала века танцующему с ней мужчине.
- Но, мадам, - смущенно отвечает ее кавалер, - у меня нет пистолета...
Это вовсе не пикантный анекдот времен наших дедушек, это диалог из кинофильма,
написанный и сыгранный актрисой Мэй Уэст.
Естественно, такого рода диалоги были совсем не характерны для предвоенной голливудской продукции, строго подчиненной правилам почти викторианской морали, царившей тогда в стране. Но ведь из-за чего-то были созданы воинствующие и по сей день лиги нравственности! Так вот, одной из причин, их породивших, была Мэй Уэст.
Ворвавшись в пуританское общество Америки 20-х годов, актриса Мэй Уэст сразу же затмила собой всех тогдашних красоток - худых, бледных и томных. Своей сумасшедшей энергией, раскрепощенностью и пышными формами она сломала все стандарты. Ее ненавидели общества по борьбе за нравственность и осуждала церковь. Однажды, смеясь, она потребовала лицензию на изобретение секса, утверждая, что это она открыла его для Америки.
Откровенные манеры Мэй и низкий сексуальный голос сводили
с ума мужчин и заставляли грешить благовоспитанных женщин. Сама себя Мэй
называла копией Венеры Милосской: "Разница лишь в том, что у меня
есть руки, и я знаю, что ими делать. И я далеко не мраморная!"
Но на наш современный взгляд она выглядела довольно нелепо: сильно накрашенное
некрасивое лицо, пестрые наряды, маленький рост (155 см) и при этом большой
бюст (130 см).
Мэй Уэст появилась на свет 17 августа 1893 года в семье актрисы, которая
редко объявлялась дома, и бывшего боксера с репутацией скандалиста и пьяницы.
С детства училась петь и танцевать и уже в возрасте семи лет выступала
на сцене. С шестнадцати лет она уже выступала в любительских водевилях.

В 1911 году ее сольный номер в нью-йоркском шоу "На Бродвее" был отмечен критикой. А в 1912 году она пишет для себя первый скетч. Явная фривольность некоторых реплик вызывает стычки с цензурой и способствует ее популярности. В семнадцать лет отец, стремившийся унять нарастающий пыл дочери, выдал ее замуж за скромного актера. Но замужество не только не усмирило любознательную девушку, а наоборот, открыло для нее огромные возможности. Теперь она гуляла направо - налево. И очень скоро брак распался. Однако к этому времени Мэй уже присмотрела себе более выгодную партию - сорокалетнего богатого адвоката Джеймса Тимони, которого совершенно не смущало разгульное поведение супруги. Их союз просуществовал сорок пять лет, вплоть до смерти Джеймса. Он не переставал обожать свою легкомысленную жену, несмотря на то, что иногда ему приходилось силой вытаскивать Мэй из чужой постели.
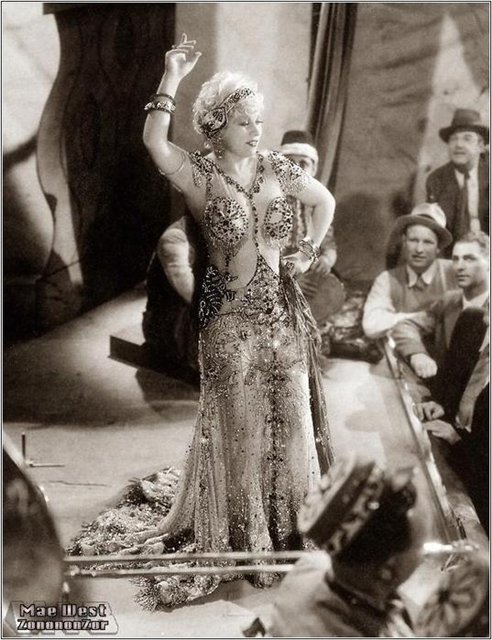
Мэй Уэст много читала, особенно о русской царице Екатерине Великой. Она стремилась во всем на нее походить. Постепенно "бродвейскую императрицу" перестали устраивать роли, которые ей предлагали. И она решила сама написать пьесу. От первого произведения Уэст о несчастной любви моряка, названного неприличным для тех лет словом "Секс", общественность была в шоке. Тогда Мэй перенесла постановку с Бродвея в порт Коннектикута. И здесь "Секс" шел при полных аншлагах. Самая криминальная сцена этой незамысловатой пьесы заключалась в том, что Мэй Уэст в обтянутом трико под прозрачной туникой садилась на колени своему молодому любовнику. Публика валила валом.
Пьеса выдержала 368 представлений и продержалась бы дольше, если бы не внезапно нагрянувший наряд полиции с ордером на арест автора и главных исполнителей за оскорбление общественной морали и развращение молодежи. Обеспокоенные мамаши и добродетельные супруги потребовали расправы с растлительницей душ. Хотя в ходе расследования оказалось, что почти все полицейские города уже присутствовали на спектакле и нашли его чрезвычайно занимательным. Мэй была приговорена к 10 дням тюремного заключения, но так очаровала своих тюремщиков, что была выпушена за три дня до отбытия срока за образцовое поведение. Теперь ей уже не надо было делать никаких усилий, чтобы расширить свою популярность. Рекламу Мэй это сделало блестящую. Из тюрьмы она вышла самой знаменитой женщиной Америки. И она отправилась покорять Голливуд.
Следующее ее произведение было не что иное, как гомосексуальная драма в трех актах, имевшая изрядный коммерческий успех. Для себя она роли не написала, но на сцене постоянно находились 40 гомосексуалистов и травести. "К чему своим ханжеским отношением загонять гомосексуалистов в гетто! - заявила она, комментируя свою пьесу, - к ним надо относиться с пониманием. Я и полиции говорила, когда они делали эти облавы на несчастных травести: когда вы поднимаете руку на травести, знайте, что вы собираетесь ударить женщину! Гомосексуалист - это чаще всего женщина в теле мужчины!" Она в течение всей жизни чествовала свою солидарность с гомосексуалистами как с людьми, терпевшими притеснения, не принятыми (в те времена особенно) обществом, и всегда выражала к ним свою симпатию: “Травести? Да у нас с ними взаимная любовь. Они меня прямо обожают. Я для них просто находка. Посмотрите, как замечательно они имитируют мою походку, акцент, манеру одеваться! Это и понятно! Ведь я - это то, чем бы они хотели стать!"
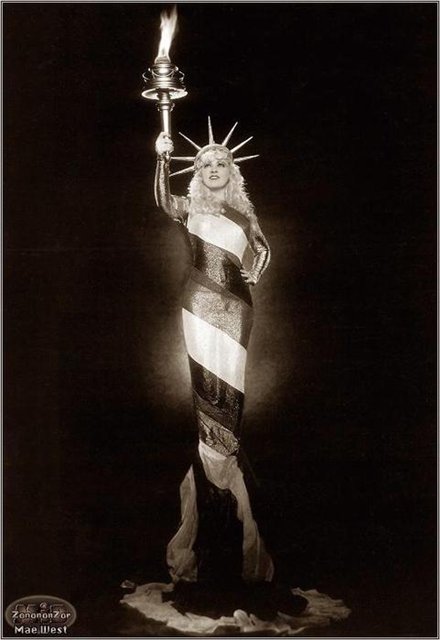
В конце концов стали ходить слухи: Мэй Уэст - травести! Пришлось ее импресарио представить на всеобщее обозрение свидетельство о браке актрисы (правда, очень коротком, но вылившимся в длительную дружбу). Не стоит искать глубокое содержание, особенно в первых драматургических опытах Мэй Уэст. Публика шла на чисто развлекательный, скандальный, "с клубничкой" сюжет. Но все же было бы несправедливо отказать автору в некотором остроумии диалогов, которые она, несомненно, позже отточила в своих сценариях. Но главной приманкой пьес была она сама, выступавшая в центральных ролях и уже в этот первый театральный период безошибочно лепившая свой собственный персонаж, ставший символом Секса.
Названия пьес достаточно красноречивы: "Алмазная Лили", "Мужчина для удовольствия", "Закоренелая грешница". Причем последние две вышли вначале в виде романов, и интересно отметить, что в недавно написанных историях литературы серьезные критики сетуют на отсутствие переизданий романов, обладающих, как выяснилось, несомненными литературными достоинствами. Но тогда особенности литературного стиля никого не интересовали. Зато постоянные нападки беспрерывно растущего числа ассоциаций зашиты нравственности стремительно поднимали Мэй Уэст на вершину успеха.
Слава этой женщины лихорадила всю Америку. В 1932 году
киностудия "Парамаунт" приглашает ее в Голливуд на чрезвычайно
выгодных условиях. Она водворяется в роскошных апартаментах отеля "Равенсвуд",
которые не покидает до конца своей кинематографической карьеры.
Голливуд известен тем, что сам создает свой "продукт", полностью
вытачивая образ кинозвезды, определяя ее специфику, жанр, которые потом
и использует по своему усмотрению. С Мэй Уэст дело обстоит иначе. Когда
она приехала в Голливуд, ей было уже за сорок. Она представляла из себя
законченный, не требующий никаких дополнительных штрихов образ, имеющий
значительную коммерческую ценность на национальном рынке шоубизнеса. Голливуду
только оставалось представить ее на экспорт. Это была, что называется,
"роскошная блондинка", уверенная в своей привлекательности и
играющая ею, как играет шпагой опытный фехтовальщик.
Невысокая полноватая, с явно выраженными формами женщина,
отнюдь не красавица, так умело смогла подать свои достоинства и извлечь
выгоду из своих недостатков, что стала предметом эротических фантазмов
мужской половины населения страны, да и за ее пределами.
"Губы сердечком, прищуренный зовущий взгляд, плавное и сладострастное
покачивание бедер; одна рука так призывно ласкает свое бедро, а другая
поддерживает мех, скользящий с груди; а этот низкий, хрипловатый, рокочущий
голос с таким сладостным вульгарным акцентом произносящий: "Надеюсь,
ты зайдешь ко мне, Бэби?" - именно это видение бродило по ночам в
дортуарах мужского лицея имени Генриха IV" (самого элитарного в Париже),
- как пишет в своих мемуарах французский литератор Жан Луи Бори.
В голливудских фильмах Мэй Уэст заиграла всеми гранями
своего таланта. Она с успехом переносит на экран свои театральные пьесы
и создает новые самостоятельные сценарии: "Ночь за ночью", "Леди
Лу", "Я не ангел", "Красотка девяностых годов",
"Я хочу быть леди".
Все эти фильмы фактически являются вариациями одной и той же темы: похождения
дамы полусвета, преуспевающей благодаря своей находчивости, уму и женским
чарам. Едкая ирония, а иногда и злая сатира на светское общество и добродетель
все больше и больше разжигают страсти, бушующие вокруг актрисы. "Цензура
шпионила за мной денно и нощно", - вспоминает она. Зато за нее горой
стояли многочисленные почитатели, организовавшие "Общество Мэй Уэст".
Она стала самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда. Она играла в фильмах
столь известного режиссера, как Генри Хатауэй, и сын самого Рузвельта
почтил за честь нанести ей визит.

Значительное место в облике Мэй Уэст играли ее туалеты.
Целые газетные полосы того периода были посвящены описаниям роскошных
неглиже актрисы. На атласных простынях своей необъятной постели под балдахином,
известной всей стране по бесчисленным снимкам, возлежит она, в черных
кружевных одеждах (вот откуда идет магия черного белья, столь любимого
Мэрилин Монро!). И утром начинает она свой туалет, надевая чулки, ботинки,
затем шляпы, коих у нее была целая коллекция, а потом уже все остальное
(интересно только, каким образом?).
Силуэт Мэй Уэст - это облегающие и подчеркивающие формы, расширенные от
колен платья, расшитые бисером и камнями; это меха, драгоценности и самых
невообразимых форм и размеров шляпы. Грудь, талия, бедра, преподнесенные
должным образом, выступают авангардом, затем в бой идет магия голоса,
взгляда, движения, и последний сокрушающий удар - россыпи реплик, то ироничных,
то откровенно вульгарных, то уклончивых и двусмысленных. Но при этом -
никаких вольностей типа стриптиза. Уже в 1970 году, снимаясь в своем последнем
фильме вместе с Рэкел Уэлч и увидев фотографию молодой актрисы нагишом
в каком-то журнале, она презрительно изрекла: "Хорошо, вот она показала
свои кости, что же теперь у нее остается, чтобы поддержать иллюзию?"
Но туалеты, зовущее покачивание бедрами, сопровождающие
ее пение и танцы, были только средствами интерпретации ее мифа, сутью
которого была феминистская агрессивная теория особого свойства. Она была
самой воинствующей феминисткой нашего времени, но не в традиционном смысле
этого слова (откажи, мол, ему в своем ложе и этим возьми верх над ним),
а как раз чисто женскими приемами. На вечном поле боя женщины и мужчины
она повергла его к своим ногам, переменив роли.
Ее героиня олицетворила активное сексуальное начало, требовательное и
побеждающее, сделав из мужчины предмет желания и наслаждения. Она, женщина,
осмелилась взять на себя роль мужчины, то есть, как сказал известный психолог
доктор Луи Биш, она, женщина, осмелилась воплотить на сцене и на экране
два основных человеческих инстинкта: сексуальность и утверждение своего
"эго". И этим давала публике высочайшее удовлетворение, ибо
через нее люди обретали то, что ханжески должны были скрывать всю жизнь.
"Если бы вы вместо того, чтобы охранять людей от эротизма, обернули свою энергию против самой большой непристойности, которой являются войны, вы принесли бы человечеству гораздо больше пользы!" - обращается она к блюстителям морали. И из этих битв с условностями общества она выходила победительницей. Недаром самый известный модный журнал того времени "Ярмарка тщеславия" помещает на обложке ее портрет в виде статуи свободы с факелом явно фаллической формы.
Если героини Мэй Уэст так яростно утверждали свое женское "я", отвоевывая у мужчин право на выбор и на столь независимое и свободное проявление эротизма, не подумайте, что она была противницей сильной половины рода человеческого. Уж что-что, но она любила мужчин, и вся ее жизнь была обусловлена ими. В кино она выбирала исключительно красивых партнеров: Пол Кэвеног, Рэндольф Скотт. Она открыла Кэри Гранта, пригласив его на главные роли в своих фильмах. Высокие, спортивные, мускулистые - такими были предметы желания ее героинь, такими она любила окружать себя в своих шоу. Пресытившись съемками в кино, Мэй возвращается в театр. Она осуществляет свою давнюю мечту: ставит спектакль о Екатерине II и играет в нем главную роль. Премьера была грандиозная! Мэй в ответ на упрек в поверхностности интерпретации истории ответила:
"А что вы хотите? Это была великая женщина. Она
многое сделала. Императрица правила тридцатью миллионами и имела три тысячи
любовников. Но это за всю жизнь! У меня же было только два часа времени!
Я уверена, что Екатерина была моим первым воплощением".
А почему нет? Ведь даже уже будучи в преклонном возрасте, Мэй Уэст, как
и русская императрица, продолжала соблазнять молодых атлетов и заниматься
с ними любовью каждый день, вплоть до самой смерти в 1980 году. Так, после
своей кинематографической, а затем театральной карьеры в 50-е годы она
выступила в Лас-Вегасе с песенным шоу, окружив себя ежедневно сменяющимися
культуристами, среди которых она выбирала "Мистера своего сердца",
и, по отзывам свидетелей, зрелище это было незаурядным, а профессионализм
ее оценок мужской стати соперничал с юмором ее комментариев относительно
конкурса.
Мужчина как символ составлял основу ее творческой деятельности.
Но мужчины как конкретные личности никогда не были значимы в ее жизни.
Она сама выковала свой миф, свою легенду, создала свой персонаж, в котором
каждая деталь одежды, каждый нюанс интонации, каждый поступок, каждый
этап актерской и литературно-драматической карьеры был обдуман, высчитан,
отработан.
В ее жизни, заполненной, прямо скажем, непрерывным, титаническим трудом,
если и было место для мужчин, то чувствам места не было. И не лукавя,
она признается в своем интервью журналу "Плэйбой": "Я никогда
не позволила, чтобы чувства могли хоть каким-то образом повлиять на мою
жизнь или задеть суть моей личности. Отдаваться чувству - слишком большая
роскошь для людей дела, и я не раз убеждалась на примере других, к каким
катастрофическим последствиям это может привести. Я всегда должна была
твердо стоять у командного пункта моей карьеры". Согласитесь, далеко
не женская точка зрения.
Все в Мэй Уэст было против течения; все в ней было дерзость,
этакий удар по общепринятому, защищала ли она сексуальные меньшинства,
нарушала ли расовые предрассудки, пригласив в один из своих фильмов негритянский
оркестр Дюка Эллингтона (в то время, когда чернокожие в кино были просто
немыслимы). Шоком был и ее последний светский выход, когда уже в возрасте
85-ти лет она заявилась на высокопоставленный прием при всех регалиях
своей легенды - длинные волосы белокурого парика под немыслимой шляпой,
вся в атласе, кружевах и мехах, восседая на некоем подобии трона, который
несли красивые, мускулистые мужчины, все еще пользующиеся ее благосклонностью.
Вся жизнь Мэй Уэст была сплошным вызовом, который и вдохновил Дали, так
ценившего эту черту человеческого характера, на создание обессмертившего
ее портрета в музее города Фигерас.
Пола Негри
Эта женщина осталась в истории под изящным псевдонимом
Пола Негри, хотя, в отличие от других звезд, ей не нужно было сочинять
себе биографию - она у нее и так была, что называется, не соскучишься.
Просто ни один нормальный продюсер не решился бы напечатать на афише ее
настоящее имя -- Барбара Аполлина Халупец.
Она родилась 3 января 1894 году в городке Янова, что в восточной Польше,
в зажиточной семье. Но эта часть государства в то время находилась в составе
Российской империи, отец Полы связался с борцами за независимость, был
арестован и исчез в сибирских снегах.

Поле было восемь лет, когда она вместе с матерью оказалась
в трущобах Варшавы. Мать ничего не могла придумать, и Пола сама позаботилась
о себе: она хотела быть "наверху", с ее происхождением этого
можно было достичь только с помощью искусства, а главным искусством царской
России являлся балет. Бойкая девчонка отправилась в Петербург, где была
сразу принята в Императорский балет.
Ей прочили большое будущее, но туберкулез поставил крест на карьере танцовщицы.
Пришлось возвращаться в Варшаву. Там Пола поступила в Императорскую академию
драматического искусства и в семнадцать лет уже была звездой варшавской
сцены.

В Варшаве Поле все равно было тесно, и уже в 1914 году
она снялась в своем первом, русском, фильме "Раба страстей, раба
порока" - не очень подходящая роль для женщины, которая всю жизнь
придерживалась принципа: "Любовь отвратительна, если ты не можешь
держать себя в руках".
Первая мировая война и революция не помешали Поле продолжать кинокарьеру,
и в 1918 году она оказалась в Украине, где снялась у киевского режиссера
Виктора Турянского в фильме "Суррогаты любви".
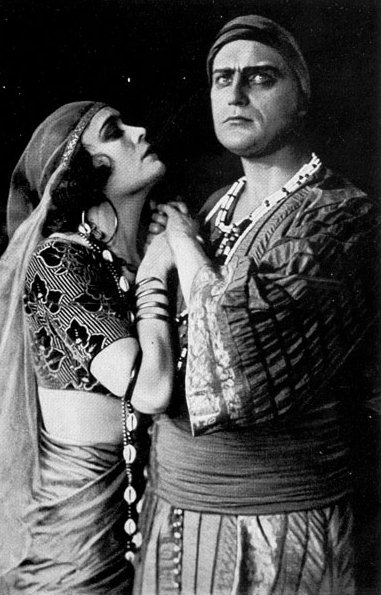
Но разгоравшаяся гражданская война комфорта не сулила, Турянский и Пола отправились в Берлин, где Пола, в том же 1918-м, стала очередной "Кармен". Эта экранизация была не особо удачной, но все поняли, в каких ролях надо снимать Полу. Она стала главной "фатальной" женщиной немецкого кино и реализовала детскую мечту о высшем свете - в 1919 году вышла замуж за графа Евгения Дамбского. Впрочем, брак длился всего два года - Полу позвали в Голливуд, где она в течение нескольких лет беспрерывно снималась и с таким уже успехом сеяла смятение в мужском царстве.

Была обручена с Чарли Чаплином, но бросила великого
комика ради романа с Рудольфо Валентино - самым обожаемым актером за всю
историю мирового кино (истерии вокруг него могут позавидовать даже современные
кумиры вроде Брэда Питта и Джонни Деппа).
Когда в 1926 году внезапная болезнь скосила Валентино, его последними
словами (хотя к тому времени они с Негри расстались, и он был женат на
другой женщине) были: "Если Пола не придет, скажите ей, все, что
я о ней думаю". Негри пришла на похороны, бросила на гроб Валентино
целое покрывало из цветов с выложенным на нем "Пола" -- знала,
что это фото попадет во все газеты - и имитировала обморок.
Правда, скорбь не помешала ей тут же выйти замуж за очередного
аристократа-эмигранта - грузинского князя Сергея Мдивани - и куролесить
на "стороне" с Чарли Чаплином. Но карьера Полы уже хромала:
в кино пришел звук, а у нее был отчетливый акцент.
В начале 30-х годов Негри покинула мужа и Америку и вернулась в Германию,
где моментально стала любимой актрисой Гитлера и на некоторое время его
любовницей, причем Адольфа совершенно не беспокоила "расовая неполноценность"
Полы -- в вопросах любви и искусства фюрер проявлял похвальную терпимость.
В 1941 году, когда в Европе уже основательно пахло жареным, Пола вернулась в Америку, где и прожила в достатке аж до 1987 года. И в 93 года Негри оставалась собой -- в больнице, за пару дней до смерти, она еще заигрывала с молодым доктором.
Марика Рёкк
И я, и (уверен!) мои сверстники прекрасно помним
замечательный «трофейный» фильм «Девушка моей мечты». Кто из нас не был
в ту пору влюблён в очаровательную исполнительницу главной роли Марику
Рокк (мы называли её так тогда).До сих пор я помню, как краснел в тёмном
просмотровом зале кинотеатра, когда обнажённая певичка принимала «ванну»,
сидя в обычной бочке в малюсеньком домике горных инженеров, не знавших,
как справиться с таким свалившимся на их голову счастьем – солисткой местного
театра оперетты. О. молодость, молодость!..
И.В.Сталин во все вникал сам и по легендам и рассказам очевидцев просматривал
все отечественные (их выходило не более десяти в год) и зарубежные картины
перед их выпуском в прокат. Так, после очередного просмотра трофейного
кино, в кинотеатрах появилась лента «Девушка моей мечты» режиссера Георга
Якоби с блистательной Марикой Рекк (в оригинале «Женщина моих грез»).
К числу наиболее ярких работ еще можно отнести и музыкальные ленты "Маска
в голубом" /1953 г./, "Королева чардаша" /1950 г./
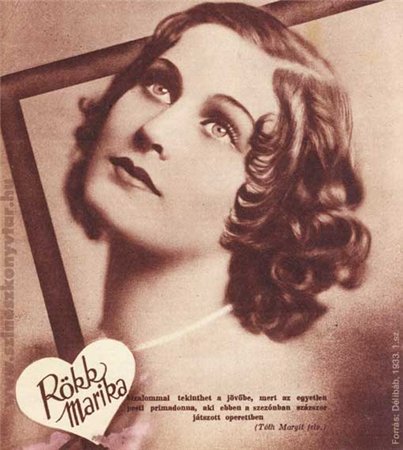
Марика - сокращенное имя. Полное имя актрисы - Мария
Каролина. Ее родители были венгры. Она родилась 3 ноября 1913 года в Каире,
а детские годы провела в Будапеште. Когда Марике исполнилось одиннадцать
лет, она заявила родителям, что готова прокормить их и старшего брата
своими танцами, которыми, потихоньку и с одобрения матери, давно занималась.
Отец девочки, всегда противившийся этому увлечению дочери, посмотрев,
как дочь танцует, вынужден был согласиться и даже пообещал, что отныне
будет исполнять роль ее импресарио. И вскоре Марика уже солировала с венгерским
чардашем – сначала в Париже, чуть позже в Нью-Йорке.
«В одиннадцать лет я танцевала в варьете «Мулен Руж» в Париже, в двенадцать
пробовала свои силы на Бродвее, стала любимицей публики бульварного кольца
в Будапеште. В Вене за роль в «Звезде манежа» меня превознесли до небес
как новое светило под куполом цирка», – писала Марика Рекк в своей автобиографической
книге «Сердце с перцем», изданной в 1974 году.
 |
 |
Выгодные предложения талантливой танцовщице сыпались
со всех сторон. И когда Марике одновременно с отличным туром по Америке
предложили контракт с киностудией, импресарио-отец понял, что наступил
ее звездный час, и подписал контракт с «Уфа», несмотря на отчаяние дочки,
мечтавшей вернуться в Нью-Йорк. «Если ты всю жизнь мечтаешь быть третьей
слева в каком-нибудь ревю, то поезжай в турне. Но если твоя цель – прославиться
на весь мир, твое будущее – кино», – объявил Эдуард.
Марике казалось, что она ненавидит кино. Девушка пообещала самой себе,
что стараться совсем не будет, и ее скоро оттуда выгонят. В 1933 году
Марика получила первую большую роль в англо-венгерской комедии-оперетте
«Поезд привидений» Л. Лазара.
Спустя два года Рекк подписала контракт с «Уфа» и укатила в Берлин. Несмотря
на то, что Марика немилосердно коверкала перед камерой немецкие слова,
ее внешняя безыскусность как нельзя лучше подходила под германский стандарт
красоты.
 |
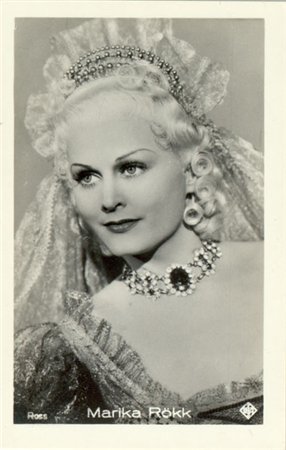 |
Рядом с ней на студии работали далеко не всегда немки
по прооисхождению.Одна из любимейших немцами актрис – Сара Лиандер, блиставшая
в мелодрамах, была шведкой, так же как и Кристина Людендорф. Лилиана Харви
– англичанка, Ольга Чехова – русская. Все они в кино изображали немок,
но в жизни даже говорили по-немецки с сильным акцентом. Марика Рекк не
была исключением.
Австрийка венгерского происхождения умела многое. Она танцевала на пуантах,
била чечетку, скакала на лошади и с легкостью проделывала головокружительные
акробатические трюки. Буквально каждого зрителя она должна была убедить,
что танцует и поет только для него. Настоящего взлета в своей кинематографической
карьере Рекк добилась в 1935-38 годах, когда начала воплощаться в жизнь
концепция Геббельса, считавшего, что население должно в кинотеатрах развлекаться
и отдыхать, забывая о жизненных неприятностях. Киношные развлечения –
это, как правило, путешествие немца в какую-либо страну. Положительные
герои из Швеции, Аргентины, Испании, Венгрии, стран Северной Африки, реже
– из Англии; отрицательные французы и т.д. Весь немецкий кинематограф
пел и плясал. Пела Сара Лиандер, плясала Марика Рекк.
 |
 |
Начиная с 1935-го, Марика Рекк снялась в великом множестве забавных кинооперетт, киноревю и музыкальных комедий Якоби, покорив публику темпераментными акробатическими танцами, шпагатами, чечеткой и превосходным сопрано. Критики отмечали ее хорошие актерские данные, внешнюю привлекательность, а также «грациозность и пластичность». В мемуарах Марика вспоминала фильмы, сделанные совместно с мужем: «Гаспароне» (1937 ), «Ночь в мае» (1938), «Алло, Жанин» (1939), «Кора Терри» (1940) и первый полнометражный цветной фильм «Женщины – все же лучшие дипломаты» (1941)
Свою работу в «Алло, Жанин» Марика любила больше всего
за то, что там ей вволю позволили бить обожаемую чечетку. Как хороша она
была с элегантной тросточкой! Увидев когда-то в одной из картин чечеточные
каскады американки Элеоноры Пауэлл, Марика решила, что тоже сможет так.
Она самозабвенно била чечетку и днем, и даже ночью, во сне.
После выхода этого фильма ее пригласили на прием к фюреру. Не представляя,
как она в вечернем платье будет традиционно приветствовать вождя, Рекк
неожиданно для себя сделала книксен, а Гитлер, видимо, тоже неожиданно,
поцеловал ей руку. Позже ей припомнят и этот поцелуй, и комплименты, которыми
фюрер осыпал актрису в тот вечер.
Фрау Рекк вспоминала, что Гитлер интересовался, сама ли она проделывает эти головокружительные трюки в кино, или, может быть, у нее есть дублерша? Узнав, что никаких дублерш у Марики отродясь не было, продолжил: «Скажите же мне в таком случае, милая чудесница, чего вы не умеете делать?» И получил в ответ: «Говорить правильно по-немецки, мой фюрер!»
Уже после окончания войны из пригородов Берлина, где находились киностудии, наши спецы вывезли богатейший архив немецких, австрийских, американских фильмов. Госфильмофонду, расположенному в подмосковном поселке Белые столбы, хватило работы на долгие годы. Многие картины, благодаря Сталину, попали на наши экраны. Все с удовольствием смотрели картины с участием знаменитых певцов Джильи и Каруэо, музыкальные ревю с той же Марикой Рекк, приключенческие картины «Индийская гробница» и «Каучук».
Чудесную «Девушку моей мечты» крутили после войны практически
во всех кинотеатрах, смотрели по несколько раз. Сам Штирлиц смотрел его,
кажется раз двадцать семь – но, правда, каждый раз по служебной необходимости,
ожидая связника.
Марика Рекк со своей песенкой «In der Nacht bleibt der Mensch nicht gern
allein…» («Ночью человек неохотно остается один…») стала буквально символом
германского тыла Второй мировой. Находчивая и забавная, само обаяние и
темперамент, героиня Рекк Юлия Кестнер, звезда варьете, мечтает об отдыхе,
но суровый директор не отпускает ее. «Девушка моей мечты» стала для Марики
самой звездной ролью. Михаил Ромм в «Обыкновенном фашизме» назовет Рекк
«главной звездой гитлеровского кино» и «кошкой секса». После этого фильм
«Девушка моей мечты» надолго исчезнет в пыли запасников. А незаконченные
картины с ее участием, после взятия советской армией Вены, завершат уже
советские кинематографисты. Их пустят в прокат, что принесет немалый доход
государственной казне.
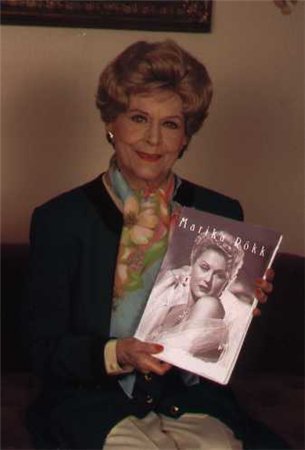 |
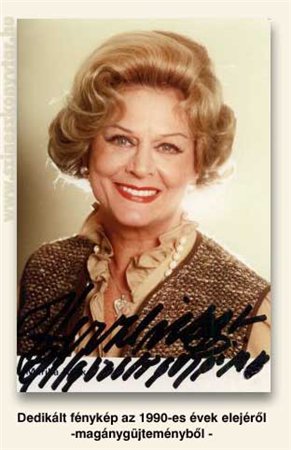 |
А далее... далее вот такие вот факты. Из книги Серго
Гегечкори «Мой отец – Лаврентий Берия»:
«Работала на Советский Союз и другая известная актриса, венгерка по национальности,
Марика Рокк. Если Ольга Чехова была человеком, близким к семье Гитлера,
то Марика Рокк была своим человеком в доме Геббельса, рейхсминистра пропаганды.
Магда Геббельс была в быту довольно суровой женщиной, но знаменитой актрисе
симпатизировала. С такой же симпатией относился к подруге жены и сам Геббельс.
Впрочем, Марика не была особым исключением, – рейхсминистр вообще увлекался
женщинами. Гитлер долгое время не принимал его, скажем, из-за любовной
интрижки с одной чешской кинозвездой.
Но как бы так ни было, Марика Рокк имела доступ, без
преувеличения, к ценнейшей разведывательной информации, которая и шла
по линии советской стратегической разведки в Москву. Когда наши части
вошли в Германию, она перебралась в Австрию, где ей помогли создать кинофирму.
Позднее, насколько знаю, Марика Рокк уехала в Венгрию».
В 50-е годы ее начали вновь активно снимать. В 1962 году актриса ушла
из кино и посвятила себя театру. Она выступала на сценах Гамбурга, Берлина,
Мюнхена, в Бельгии и Нидерландах, где оперетты и мюзиклы с ее участием
всегда имели гарантированный и продолжительный аншлаг.
Последний раз после долгого перерыва Марика Рекк решилась выйти на сцену
в 1992 году в Будапеште по случаю 110-летия со дня рождения Имре Кальмана,
исполнив с триумфом роль графини Марицы, которую ей довелось исполнять
более 700 раз... Скончалась Марика Рекк в мае 2004 года в Австрии - от
сердечного приступа.

Ее имя, как и имя Ольги Чеховой, не рекомендовалось упоминать в советском киноведении: как же, она сделала себе карьеру в гитлеровской Германии! Но даже в наше время о Рекк упоминают только как об «известной венгерской опереточной актрисе».
Ева – первее Адама?..
Все вы помните начало этой истории - создание первых людей. И о том, что жили они в раю счастливо, но недолго.

«И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел [их] к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым; но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребр его, и закрыл то место плотию. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа [своего]. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут [два] одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились» (2:18–25).

Alexandre Cabanel - Изгнание из рая
Ева пришла к Богу и говорит: - Господь, у меня проблема! - Какая проблема, Ева? - Господь, я знаю, что сотворена тобою и дан мне этот прекрасный сад, все эти чудесные животные и эта уморительная змея, но я всё равно несчастна. - Почему, Ева? - спросил голос свыше. - Господи, я так одинока и мне до смерти надоели яблоки. - Хорошо, Ева, в таком случае у меня есть решение. Я сотворю тебе мужчину. - Что такое мужчина, Господь? - Это будет такое испорченное создание с кучей вредных привычек. Он будет лживым и тщеславным, но будет сильнее, быстрее тебя и ему будет нравиться охотиться и убивать. Он будет выглядеть глупо в возбуждённом состоянии, но так как ты жалуешься, я сотворю его таким образом, что он сможет удовлетворять твои физические потребности. Он будет туповат и будет увлекаться такими детскими забавами, как драки и игры с мячом. Он не будет слишком умён, так что ему будут нужны твои советы, чтобы правильно думать. - Звучит замечательно, - ответила Ева, иронично подняв бровь. - В чём подвох, Господь? - Ну... ты получишь его при одном условии. - И каком же, Господь? - Как уже говорилось, он будет гордым, высокомерным и самовлюблённым... Так что тебе придётся позволить ему верить, что он был создан первым. Просто помни, это наш маленький секрет... Ну, ты понимаешь, между нами, женщинами.
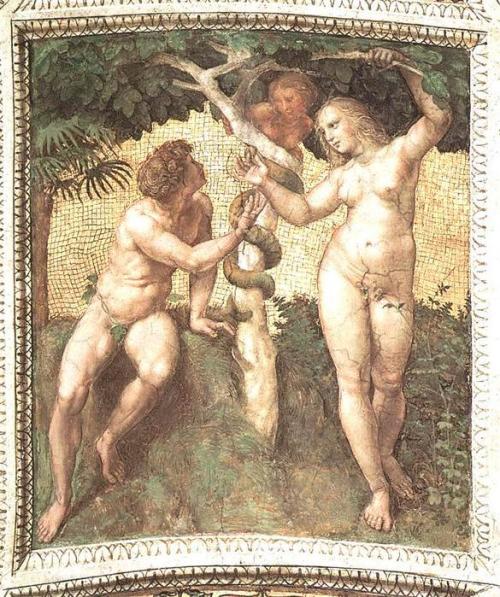
Марфа Собакина
 |
|
Что же сегодня, в начале XXI столетия мы знаем о Марфе Собакиной? К сожалению, очень немного. Именно поэтому, когда в 2003 году по черепу, извлеченному из захоронения царицы Марфы, был реконструирован ее скульптурный портрет, написать что-то интересное об этой девушке из XVI века оказалось крайне сложно. История ее жизни в качестве царской невесты и жены государя умещается в короткий отрезок времени - всего в несколько месяцев 1571 года, когда сорокаоднолетний царь Иван Васильевич, овдовевший два года назад, решил вступить в третий брак.
Сведений о роде Собакиных и их самой знаменитой представительнице, которые можно было найти в летописях и других письменных источниках XV-XVI веков, сохранилось, как уже сказано, мало. Этим и объясняются разночтения в публикациях, упоминающих о третьей жене царя Ивана Васильевича.
Если второй брак Грозного (с черкесской княжной Марией Темрюковной) был обусловлен политическими соображениями, то для третьего выбирали просто русскую красавицу дворянского рода. Для этого уже в 1570 году по всему государству провели перепись дворянских "девок" - кандидаток в невесты. Смотрины происходили в Александровой Слободе, куда были свезены 2000 самых красивых и здоровых девушек. В записках немцев И. Таубе и Э. Крузе, бывших тогда в России, сохранились сведения об этой церемонии. Когда девушек привозили на смотрины, царь "входил в комнату <...> кланялся им, говорил с ними немного, осматривал и прощался с ними".
Тщательный отбор оставил сначала 24, а затем только 12 кандидаток. Их, по воспоминаниям И. Таубе и Э. Крузе, осматривали уже обнаженными. Был при этом и врач, англичанин Елисей Бомелий, выпускник Кембриджа, приехавший на службу в Россию. "Доктор должен был осмотреть их мочу в стакане", так как у невесты царя не должно быть ни болезней, ни телесных изъянов.
Победительницей конкурса красоты, как сказали бы мы сегодня, стала дочь худородного дворянина из города Коломны - Василия Степановича Собакина Большого (или старшего). Правда, наиболее осведомленные об этом событии нашей истории упомянутые И. Таубе и Э. Крузе напутали с происхождением царской невесты, назвав ее купеческой дочерью Григория (?!) Собакина. В Соборном приговоре - а без участия высших церковных иерархов не обходилось ни одно событие в семье государя - есть такая запись: "И о девицах много испытания бывшу, потом же надолзе времени избра себе невесту, дщерь Василия Собакина".
Мы не знаем, когда появилась на свет девочка Марфа, будущая русская царица. Поскольку в России наследование имущества в роду шло по мужской линии, то сведений о мальчиках всегда оставалось гораздо больше, чем о девочках. Не знаем мы и сколько лет ей было в 1571 году, когда происходили смотрины царской невесты.
Но вот 26 июня 1571 года царь Иван IV объявил о своей помолвке с Марфой Собакиной.
Кстати, в тот же день состоялась помолвка и старшего сына царя, царевича Ивана, с Е. Б. Сабуровой-Вислоухой. Каких только странных прозвищ не было у людей на Руси, а ведь постепенно, с XVI столетия, эти прозвища часто становились фамилиями. Вот и гадай, что именно в семье знатных псковских вотчинников Сабуровых стало поводом для клички, а потом - и родовой фамилии.
С момента помолвки начались события, достаточно обычные в жизни московской правящей элиты: борьба за наиболее "теплые" и выгодные места при особе русского царя. И, вероятно, поплатилась жизнью за это юная девушка, оказавшаяся песчинкой в водовороте придворных интриг.
В истории с третьей женитьбой Ивана Грозного очень важно то обстоятельство, что невеста была дальней родственницей и, видимо, протеже самого Малюты Скуратова - человека низкого происхождения, но могущественного фаворита царя. А породнившись с царской семьей, он смог бы еще более упрочить свое положение при московском дворе. Малюта присутствовал на третьей свадьбе царя как "дру, жка" жениха. В этом же качестве выступал тогда и зять Малюты Скуратова, молодой опричник Борис Годунов, женатый на одной из дочерей Малюты. (Так начиналась удивительная карьера будущего русского государя Бориса Федоровича!)
Уже после помолвки Марфа Собакина вдруг заболела и стала "сохнуть", как назвали в те времена летописцы состояние невесты царя. Ходили разные слухи и, прежде всего, о том, кому это могло быть выгодно. По одной из версий, Марфу Васильевну отравил кто-то из семьи то ли Романовых, то ли Черкасских - родни первой и второй жен Ивана Грозного. По другой - какое-то "зелье" Марфе передала ее мать, заботясь о "чадородии" будущей царицы. Это снадобье (или другое, если первое подменили) и стало, как считали, причиной болезни царской невесты. Кстати, именно об этом писал в своих записках "О Московии" Даниил Принц из Бухова, приезжавший в Москву в 1572 и 1578 годы: "Этим питьем она (Марфа. - Прим. авт.), может быть, хотела приобрести себе плодородие; за это и мать и придворного он (царь Иван. - Прим. авт.) казнил".
И тем не менее, несмотря на плохое самочувствие Марфы Собакиной, 28 октября Иван Васильевич сыграл в Александровской Слободе пышную свадьбу. Почему не в Москве? Дело в том, что 24 мая столица сгорела дотла, подожженная крымским ханом Девлет-Гиреем, и еще не восстановилась после бедствия. Царь Иван "положа на Бога упование, любо исцелеет" все же заключил этот третий брак. Свадьба была веселой. Известно, например, что из Великого Новгорода прибыли целая ватага скоморохов и подводы с ручными медведями - для царской свадебной потехи.
В свадебной церемонии, в разном качестве - кто "дружкой" царя, кто с "осыпалом", кто "за санями шел", кто "колпак держал", кто в "мыльне" (бане) присутствовал - приняли участие десять ближайших родственников Марфы Васильевны: отец и дяди, двоюродные братья с женами и без.
Через неделю, 4 ноября, сыграл свадьбу и царевич Иван Иванович. Праздники следовали один за другим. То был первый брак царевича из его трех - по настоянию отца он был расторгнут в 1575 году.
А между тем царица Марфа Васильевна не только не поправлялась, но чувствовала себя все хуже и хуже и 13 ноября скончалась. Она фактически так и не стала женой русского царя - об этом существует специальная запись в церковных документах того времени. Ее наличие помогло Ивану Грозному, когда он обратился за разрешением на четвертый брак (всего их было, напомним, шесть). А на Руси уже и третий считался серьезным нарушением церковных канонов. Но когда третья жена царя Ивана умерла, он обосновывал свое прошение на новый брак тем, что темные силы дьявольские "воздвиже ближних многих людей враждовати на царицу нашу, еще в девицах сушу ... и тако ей отраву злую учиниша". Далее царь ссылался именно на то, что из-за болезни Марфы Собакиной он так и не вступил с ней в супружеские отношения - "девства не разрешил".
Пробыв в царицах лишь две недели (а вернее, проболев все это время), Марфа Васильевна Собакина вошла в историю России. И даже в этот короткий срок ее отец Василий Собакин Большой успел стать боярином, хотя "по худости рода" не имел на это никакого права, а его два брата, Меньшие Собакины, получили высокие чины окольничих. Однако наслаждаться этим карьерным взлетом им долго не пришлось. Варлаам Собакин Меньшой после смерти Марфы Васильевны был пострижен в монастырь. Его племянники (двоюродные братья царицы), которые, по мнению Ивана Грозного, "хотели было меня и с детьми чародейством извести", поплатились жизнью.
Трудно сказать, были ли подозрения царя беспочвенны: во всяком случае, ни малейших сведений о подобном заговоре в источниках XVI столетия нет. Тем не менее болезненной подозрительности и жестокости Грозного не было предела, и уже после 1574 года в послужных списках русского двора мы не встретим ни одного представителя рода Собакиных.
Царицу Марфу Васильевну похоронили в Москве, в кремлевском Вознесенском соборе - усыпальнице для женщин из царской семьи. Когда в 1929 году разбирали постройки Вознесенской обители и Чудова монастыря, сотрудники Оружейной палаты, спасая некрополь русских великих княгинь и цариц, перенесли их захоронения в подземную палату рядом с Архангельским собором Кремля. Там они хранятся и по сей день.
С 1970-х годов в научно-популярной и популярной литературе можно встретить сведения о биологическом феномене, который якобы наблюдали открывшие захоронение Марфы Собакиной. Сняв крышку с ее каменного саркофага, музейные работники будто бы увидели совершенно не тронутое тлением тело царицы - она лежала бледная, прекрасная и как живая (Р. Г. Скрынников. Иван Грозный. - М., 1975). А потом на глазах рассыпалась в прах.
Откуда автор книги почерпнул такие сведения? В документации того времени нет ничего, что могло бы подтвердить эту удивительную историю. В природных условиях средней полосы России случаи мумификации крайне редки, а уж связанный с Собакиной биологический феномен просто невозможен. Скорее всего, красимым вымыслом обросло другое явление, встречающееся в средневековых захоронениях, если саркофаг изготовлен из белого камня - известняка. Когда, например, вскрыли погребения сыновей Грозного, царевича Ивана и царя Федора, то увидели, что все ткани их одежды и саванов сохранили форму тел. А дело в том, что в процессе тления мышечной массы ткани заизвестковались и затвердели. Но стоило гробы вскрыть, как под воздействием свежего влажного воздуха саваны, быстро утратив жесткость, осели. Ничего другого не могло и быть.
Сохранившийся скелет царицы Марфы Собакиной по своему состоянию ничем не отличается от других из некрополя бывшего Вознесенского собора в Кремле. Пожалуй, только лучше, чем в некоторых захоронениях, сохранился до наших дней череп Марфы. Сегодня мы можем увидеть ее лицо. В 2003 году эксперт-криминалист и ведущий в России специалист по реконструкции облика человека по его останкам С. А. Никитин (из Бюро судебно-медицинской экспертизы при Комитете здравоохранения Москвы) восстановил портрет царицы Марфы Васильевны в виде скульптурного бюста, выполненного в бронзе.
Она действительно красива и молода. Как жаль, что судьба ее сложилась столь трагически. Мы пока не знаем причину ее ранней гибели. Но слишком велика вероятность, что умерла она не своей смертью. Борьба за власть и придворные должности, за возможность возвыситься, пребывая возле царского трона, шла постоянно. Дальнейшие исследования останков царицы Марфы Собакиной, возможно, позволят ответить на эту загадку русской истории. И тогда, как знать, может быть, и подтвердятся подозрения ее мужа - грозного русского царя Ивана IV.
Источник: "Наука и жизнь"
