В начале мая в Израиле состоятся три акустических концерта Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы". Одна из самых популярных рок-исполнительниц России выступит в Хайфе, Беэр-Шеве и Тель-Авиве. Незадолго до своего приезда Диана ответила на вопросы корреспондентки NEWSru.co.il.

Диана, все детство вы провезли в разъездах: родившись в Беларуси,
вы объездили с родителями всю Россию, побывали в самых дальних ее уголках.
Отразились ли эти детские впечатления на вашем взрослом творчестве?
Не совсем так. Я не проехала с родителями всю Россию, я была на Севере. Мы жили в нескольких поселочках на Чукотке, где я успела сходить в детский сад и закончить школу. Что касается России, то я познакомилась и узнала свою страну именно благодаря выбору своей дороги, по которой иду, и буду идти дальше.
Как была написана первая песня – та, которую вы считаете настоящей?
Не помню. У меня все песни настоящие, я их не отделяю одну от другой в этом смысле.
Популярными вы стали очень быстро, и в то же время, вам всегда удавалось быть немножечко "в стороне" от тусовки. Почему вы выбрали такой, можно сказать, скромный, несколько отчужденный образ жизни в музыкальном мире?
Мне неинтересно было общаться с людьми, которые занимаются вроде бы тем же, чем занимаюсь и я. Дело в том, что люди, стоящие на сцене и работающие в одном жанре, абсолютно необязательно должны быть друг другу симпатичны, и им совсем необязательно интересно общаться друг с другом. Так что, мне было с ними неинтересно, вероятно, и им было со мной неинтересно. И, по большому счету, все эти тусовки мне не нужны, потому что если у тебя нет времени на то, чтобы быть одному, ты не будешь писать. А писать в своре или в стае я не могу – я одиночка.
 |
 |
Почему было принято решение от рок-исполнения перейти к электрическому звучанию?
Что касается рок-исполнения – это именно то, чем мы сейчас занимаемся. Что касается рока, то вы, вероятно, имеете в виду расширение нашего состава и внедрение электрического звучания. Да, была акустика – и мы, не отходя от нее, привили еще одну ветвь дереву под названием "Ночные Снайперы". Две абсолютно равноценные ветви.
Качественно новым и интересным этапом в вашем творчестве стало сотрудничество с японским музыкантом Кадзуфуми Миядзавой. Расскажите об этом подробнее.
Очень интересное было сотрудничество. И японская музыка, и культура в целом, и менталитет настолько отличны от нашего, российского, что мы, казалось, сочетаем несочетаемое. Однако "Симаута" у нас понравилась людям, да и в Японию мы ездили неоднократно в рамках этого проекта. А тарелка, расписанная Миядзавой-сан и подаренная мне, занимает почетное место у меня в кабинете.
Как вы думаете, почему композиция "Кошка" стала такой популярной в Японии?
Вот уж искренне не знаю. Это надо спрашивать у японцев.
В последнее время многие артисты пробуют выступать самыми неожиданными и вполне оправданными дуэтами. Вы, например, исполнили несколько композиций с группой "Би-2". Для чего это делается?
Интересно было. Музыкальные эксперименты делаются только из интереса.
Насколько просто вам было работать с другими музыкантами, такими же лидерами, такими же профессионалами, как и вы?
Мне кажется, чем более человек профессионален, тем проще с ним работать. Я в этом убеждена абсолютно. И что касается моего в этом участия, то никому из тех, с кем я работала, не было тяжело работать со мной. Ни Диме Диброву, ни группе Би-2, ни Тамаре Гвердцители, ни Кадзуфуми Миядзаве-сан.
Приходится ли при работе над совместными проектами поступаться иногда собственными принципами?
Нет.
Как изменилось творчество "Ночных снайперов", их содержание, как музыкальное, так и словесное, со времени ухода из группы Светланы Сургановой? Непросто было привыкнуть к роли единственной солистки группы?
Я всегда была единственной для себя.
Вы являетесь автором большинства песен группы "Ночные снайперы". Кроме этого, в вашем литературном архиве существуют и так называемые "антипесни" – расскажите о них и о Диане Арбениной – поэте.
Читайте мои стихи – там все сказано.
Расскажите о своей книге "Дезертир сна" и о ее аудио-продолжении "Дезертир сна. Я говорю".
"Дезертир сна" – сборник стихов. На момент выхода самый полный. Немного прозы там тоже есть. "Я говорю" – аудио для тех, кто стоит в пробке.
В книгу "Дезертир сна" вошли и ваши картины. Как вы относитесь к высказыванию "талантливый человек талантлив во всем"?
Это неправда. Очень просто паразитировать на этом. Талантливый человек не может быть талантлив во всем. Либо ты… хорошо печешь хлеб, либо ты строишь дома. Либо ты поешь песни, либо ты доишь коров. Я не видела ни одного поэта, который бы так же хорошо доил коров, как писал стихи. Или наоборот.
Вы верите в сны? О чем они говорят вам? Расскажите о написанной вами книге "Колыбельная по-снайперски"?
Я верю в сны, безусловно. И книга тому подтверждение. Идея ее родилась достаточно спонтанно, получилась самая, пожалуй, позитивная моя книга. В ней 366 снов, следствий из них и иллюстраций. Работать над ней было безумно интересно и весело, а вот когда я нарисовала первые десять иллюстрация и поняла, что впереди еще 356… Но ничего, сдюжила.
Вы писали музыку, звуковые дорожки к нескольким фильмам. В чем заключается работа над саундтреком? И чем она отличается от работы, скажем, над новым альбомом?
Я ни разу не писала именно саундтреков и дорожек для фильмов. Мне бы хотелось, но что касается опыта на сегодняшний день – это лишь песни. Будут предложения – с удовольствием напишу музыку. Мне это интересно.
Как был сформирован нынешний состав "Ночных снайперов"? Расскажите о роли в коллективе каждого его участника?
Старейшие участники – это Митя и Ваня. Митя Горелов играет на барабанах, Иван Иволга – на соло-гитаре. Последним пришел в коллектив Дима Максимов, наш басист, перед ним был Андрей Титков – клавишник, которого привел в коллектив Федор Васильев, экс-бас-гитарист.
Как часто меняется Диана Арбенина? Насколько артисту необходимы перемены?
Каждый день. Абсолютно. Артист должен быть голодным, в том числе, сексуально, влюбленным, дерзким и нежным. Тогда все будет хорошо. Постоянно меняться. Более того, что касается утрясенной, сбалансированной жизни – она категорически воспрещается рок-музыкантам, они становятся толстыми, обрюзглыми и женатыми. А жена и рок – это вещи несовместимые.
Прежние визиты в Израиль вдохновляли вас на создание новых произведений?
Меня все вдохновляет.
Есть ли у вас любимое место в Израиле?
В Израиле мне нравятся места, показанные человеком, которому я верю. Он так вкусно о них говорил.
Беседовала Анна Розина
Источник: http://www.newsru.co.il/rest/23apr2009/arbenina_302.html
Самая сексуальная женщина
Читатели британского журнала FHM назвали самой сексуальной женщиной
2009 года Шерил Коул, певицу из поп-группы Girls Aloud.
Отметим, что FHM традиционно составляет годовые рейтинги "самых сексуальных
женщин" не в конце года, а в апреле. Полные результаты опроса читателей
будут опубликованы в июньском номере журнала. Сообщается, что в последнем
голосовании, прошедшем на сайте издания, приняли участие около 10 миллионов
читателей. Всего в рейтинге сто позиций.
Американская актриса Меган Фокс, победительница 2008 года, опустилась
на вторую строчку рейтинга.
Неожиданным сюрпризом стало появление на пятой строчке рейтинга американской
певицы Бритни Спирс, поскольку ранее ожидалось, что она вообще не попадет
в сотню привлекательных женщин из-за проблем в личной жизни, имевших место
в прошлом.
Первая пятерка самых сексуальных женщин мира 2009 года по версии FHM выглядит
так (в скобках указана позиция 2008 года):

• 1) Шерил Коул (7)

• 2) Меган Фокс (1)

• 3) Джессика Альба (2)

• 4) Бритни Спирс (31)

• 5) Кили Хэйзелл (3)
Источник: http://cursorinfo.co.il/news/culture/2009/04/23/cole/
Галина Преображенская

С Галиной Сергеевной мы встретились накануне юбилейного
марафона “Романсиады”. Этому замечательному конкурсу исполняется 10 лет,
и по традиции он пройдет по разным регионам страны и бывших республик,
объединяя молодых исполнителей под знаком русского романса.
1О лет для такого конкурса - срок. Тем более что возник он благодаря страстному
желанию и энтузиазму одного человека - Галины ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ.
Галина Сергеевна, ваш случай - уникальный. Феноменально: такой, прямо
скажем, не самый современный жанр, так увлекает девушек и юношей! Что
вы с ними делаете!
- Да это не я делаю. Это романс. Действительно, есть что-то такое в этом жанре, что не оставляет равнодушным никого. Кстати, наша “Романсиада” пополнилась еще двумя конкурсами. Для детей мы проводим конкурс “Надежда Романсиады” и для любителей - “Романсиада без границ”, в которой участвуют и профессионалы более старшего возраста, которые хотят что-то “подшлифовать” в своем творчестве. Скажу по секрету, сейчас уже думаю о проведении “офицерской Романсиады”. При влюбленном отношении к романсу, смею утверждать, что он претендует на одну из современных национальных идей, способных объединить людей. Он доступен, понятен и в то же время высок. Но... как порой озлобленно некоторые его воспринимают. Недавно поклонницы принесли мне статью в “Аргументах и фактах” “Розовую розу лаская...”.
Это такой жирный плевок в сторону жанра. Я просто была потрясена и не могла осознать — зачем? По мнению автора, это отрыжка пошлости и мещанского вкуса. Приводились дикие примеры какого-то действительно графоманского творчества. А Чайковский, Рахманинов, Блок, Шостакович? Те, кто не чурался в своем творчестве этого жанра? Кстати, вот хочу выразить особую благодарность вашей газете, которая все десять лет объективно рассказывает о конкурсе. Но никто из других печатных изданий не удосужился узнать, что же это за конкурс, почему молодежь так рвется в нем участвовать, почему почти все его победители стали интересными артистами и выступают в лучших театрах и на концертных площадках нашей страны и за рубежом?
- Галина Сергеевна, мне бы хотелось поговорить на тему “Преображенская как творческая единица”. Вы прекрасный организатор, любите молодежь, не жалеете сил, чтобы поддержать начинающих, помочь устроиться в театр и так далее. Но вы же прекрасная пианистка, музыковед, великолепная ведущая. Наконец, вы уже десять лет носите звание заслуженной артистки России...
- Не все, конечно, замкнуто на моих конкурсах. Есть и еще много интересного в жизни. Одним из недавних грандиозных событий для меня стало приглашение из Кремля провести концерт российского искусства в рамках саммита в Санкт-Петербурге. Это было очень ответственно, волнительно. Потрачено много сил и здоровья, но этот день я не забуду никогда.
- К сожалению, для широкого зрителя это мероприятие было скрыто, даже телерепортажа не было. Поэтому вы как свидетель можете приоткрыть завесу тайны — что же там происходило...
- В зале Петродворца собрались восемь первых лиц крупнейших
держав. Просто увидеть их всех вместе — уже шок. Путин, Буш, Блэр, Ширак,
Ангела Меркель и так далее.
Наше искусство представляли оркестр под управлением Темирканова, Хворостовский,
Гулегина, Бабкина, ансамбль “Березка”, Кубанский хор. Мне пришлось не
просто вести концерт, а еще и давать небольшие комментарии на двух языках
перед каждым номером. Я себя ощущала не просто ведущей, а буквально “лицом
России”. Причем я попала в трудную ситуацию. Сначала не было речи о том,
что я буду говорить по-английски, но перед началом выяснилось, что нет
переводчиков. Представляете мое состояние? Но когда я сказала первые фразы,
очень живо отреагировал Тони Блэр: “О...”. Мне было приятно.
Но самое интересное было видеть реакции глав государств. У меня сложилось впечатление о них, как о людях, очень эмоционально воспринимающих искусство. Реагировали прекрасно. Когда я сказала, что сейчас выступит лучшее сопрано мира Мария Гулегина, японский премьер просто засветился радостью. А после ее выступления, презрев все протокольные дела, бросился к ней, целовал руки. После концерта Путин снял пиджак, сел за руль джипа и, отъезжая в Константиновcкии дворец, как-то по-домашнему помахал артистам на прощание.
- Ну, в общем, поработали на высшем уровне! Теперь давайте на землю.
- Вот вы спрашиваете о моей творческой жизни? А я, по правде говоря, и не могу так с ходу сформулировать, чем же я занимаюсь на самом деле. Какой-то синтетический, пока еще не опознанный и не классифицированный жанр...
- Который вы сами и создали!
- Да нет, были в истории примеры. Не буду равнять себя с гениальным Василием Андреевым, который был одновременно и балалаечником, и организатором, и дирижером, и педагогом, и концерты сам вел. Человек, который хочет воплотить какую-то идею, вынужден быть и организатором в том числе. Многим это не удается.
- Но вы не из их числа. А что заставило вас не только заговорить со сцены, но и придумывать необычные музыкальные проекты. Помню ваш замечательный телевизионный абонемент “Пригласительный билет” для детей в Зале Чайковского или, по-моему, первый московский музыкальный салон, который проходил в Шахматном клубе...
- О, чего только не было в моей жизни. Например, 15-минутная телепередача о музыке. А началось все еще на втором курсе Гнесинки. Ректор обо мне сказал: прирожденный концертмейстер. Азы профессии я познавала в лучших камерных классах - у легендарной Нины Николаевны Делициевой и светила вокала Геннадия Геннадиевича Адена, в оперных классах профессоров Муромцева, Сахарова. Мне очень нравилась эта профессия. Мама моя камерная певица, солистка Московской филармонии, лауреат конкурса им. Глинки - Маргарита Преображенская. Как только я овладела школой игры на фортепиано, она поставила мне ноты, как сейчас помню, “Вернись в Сорренто”, и мы начали репетировать. Это самая интересная профессия на свете, но почему-то считается, что самая униженная. Меня же никогда не смущало, что концертмейстер находится в тени солиста. Настоящий концертмейстер живет успехом артиста.
А я работала с такими мастерами, как Валентина Левко,
Борис Штоколов, Белла Руденко, Анатолий Соловьяненко! Умение раствориться
в артисте, все прочувствовать, быть удобным, нужным — это тоже талант
и высокая степень мастерства. Кстати, мне с детства хотелось быть не певицей,
а ...музыковедом Светланой Виноградовой! Это был мой идеал. Поэтому, как
только стала выходить на сцену, сразу “заговорила”. Да еще в ЦМШ, когда
мне было только 12 лет, снимали телепрограмму, и именно меня посадили
в “кадр” ведущей. Все хвалили, и, видимо, это запало мне в душу.
В Гнесинке с первого курса стала заниматься исследовательской музыковедческой
работой, всегда была участником студенческих конференций, конкурсов. А
вот когда пришла в филармонию и стала ездить на гастроли в глубинку, столкнулась
просто с практической необходимостью вести концерты. Тогда была масса
концертов на производстве, например, в цехах, библиотеках, клубах, общежитиях.
Надо было находить общий язык с простыми людьми, далекими от классической
музыки, их надо было подготовить, “разогреть”.
Очень благодарна Леониду Михайловичу Харитонову, замечательному басу, солисту филармонии, с которым впервые поехала на гастроли. Он попросил, чтобы я предваряла его выступление рассказом о нем. Он был не просто певец, а еще и замечательный актер. От природы. После нашего первого концерта он мне говорит: “Я наблюдал за залом, когда вы говорили. Человек в первом ряду три раза посмотрел на часы. Видно, ему было не интересно”. Это был главный урок: я должна говорить так, чтобы зрителям было интересно, чтобы они боялись что-то упустить из моего рассказа. Значит, важна не только сама информация, но и то, как ее подаешь. А это уже актерство. Одну подсказку мне дал замечательный киноактер и режиссер Евгений Семенович Матвеев. Свое выступление он всегда начинал так: доставал записку из кармана и начинал как бы на нее отвечать. И каждый раз это было так естественно, натурально! Он мне тогда сказал: “Запомни, одна из главных актерских задач на сцене - удивление. Ты должна искренне радоваться, ведь ты получила только что эту записку из зала! Открыла и впервые видишь этот текст”. Я конкурсантов всегда учу: “Пойте романс так, как будто вы впервые произносите эти слова”.
- Галина Сергеевна, столько талантливых ребят прошло через ваши руки за десять лет! Многие ли из них связывают свою жизнь с романсом!
- Для меня важнее другое. “Романсиада” - это стартовая
площадка для талантливых людей, и романс дает такую школу, которая помогает
им в любом жанре проявить себя. Судите сами. В Большом театре — наши,
да и во всех оперных театрах Москвы, в оперетте. Лауреат “Романсиады”
Марина Поплавская даже в Ковент Гарден попала. А вот тех, кто связывает
свою жизнь только с романсом — можно по пальцам пересчитать. Это великолепные
эстрадные артисты — ретро-дуэт “Бархатный сезон”, Юлия Зиганшина, Ирина
Крутова, Константин Степанов.
Реальность такова, что на эстраде с романсом трудно удержаться. Поэтому
часто певцы даже с камерными голосами идут в оперу — она востребована,
особенно за рубежом. Наш учебно-концертный центр “Дом романса” на улице
Берзарина, в котором есть прекрасный камерный зал, вполне может быть стартовой
творческой площадкой для молодых исполнителей романса. С этим я связываю
большие надежды. Будут и концерты, и просветительские абонементы для детей,
тематические вечера, циклы, посвященные лауреатам “Романсиады”...
- И так далее, и так далее... Успехов вам, Галина Сергеевна, и вашему романсовому братству!
Автор: Ирина Шведова
Источник: газета “МОСКОВСКАЯ ПРАВДА”, №236, 26 октября 2006 г.
История нашего многострадального народа исполнена трагическими событиями,
когда евреев уничтожали лишь только за то, что они евреи. Поэтому мы благодарны
тем людям, кто не соглашался с этим и укрывал евреев, зачастую рискуя
собственной жизнью. В Израиле их называют праведниками мира, и в самом
святом для евреев (и не только) месте, в Иерусалиме есть даже Аллея праведников
мира, где покоится прах некоторых из них. Мы чтим их память примерно так
же, как христиане чтут память своих святых. Хотя поклонения могилам не
в обычае нашего народа, ибо Вторая заповедь («Не сотвори себе кумира»)
нами соблюдается неукоснительно. Итак, сегодня рассказ о замечательной
женщине, праведнице мира графине фон Мальцан.
Графиня Мария фон Мальцан умерла 12 ноября 1997 года в возрасте 88 лет. В конце 1998-го активисты партии „зеленых“ предложили установить памятную доску на доме номер 11 по улице Детмольдерштрассе в Берлине, где она жила во время войны. Однако прошел еще целый год, прежде чем муниципалитет дал положительный ответ. Потребовалось вмешательство прессы, сотни писем поддержки от людей, знавших эту героическую женщину. Памятный знак (на снимке) был установлен на пешеходной дорожке, ведущей к зданию: его владелец не разрешил повесить доску на стене, опасаясь за престиж дома, ведь графиня отличалась независимым характером и не раз вступала в конфликт с властями.

Скромная плита из нержавеющей стали напоминает: „Здесь с 1938 по 1945 годы жила графиня Мария фон Мальцан, 25.03.1909 – 12.11.1997. В период с 1942 по 1945 годы она прятала в своей квартире преследуемых евреев и помогала им бежать из Германии, работая вместе с представителями шведской церкви и группами антифашистского Сопротивления“.
Последние двадцать лет Мария фон Мальцан прожила в районе
Кройцберг на юго-востоке Западного Берлина. Район считался непрестижным,
здесь селились бедные иностранцы – турки, поляки, цветные… Дома были переполнены.
Нередко до десятка семей жило на одном этаже с единственным общим туалетом
на лестнице. Жизнь в беспокойном квартале, как ни странно, нравилась графине.
Ей было по душе, что люди разных национальностей существуют вместе и находят
общий язык. Полиция особенно не церемонилась с местным населением, и Марии
не раз приходилось спускаться из своей квартиры на улицу, чтобы вступиться
за соседей, которым доставалось от служителей порядка.
Всю свою жизнь Мальцан помогала слабым, больным и гонимым. Остановить
ее не могли никакие угрозы и запреты. И если творилась несправедливость,
она не задумываясь шла против власти.
Твердый характер графини фон Мальцан проявился уже в детстве…
Своевольный ребенок
Мария Хелена Франсуаза Изабелла фон Мальцан родилась 25 марта 1909 года в богатой семье силезских дворян, выходцев из Швеции. Семье принадлежало большое поместье Милич, расположенное недалеко от польской границы. В старинном замке хранились ценные коллекции картин, часов, фарфора, музыкальных инструментов, собранные несколькими поколениями его владельцев. Отец Марии, граф фон Мальцан, был уважаемым в Силезии человеком. После окончания Первой мировой войны его выбрали в комиссию по уточнению новой границы Веймарской республики. Этот богач никогда не забывал бедных и нуждающихся. В имении он построил на свои средства сиротский приют и дом для престарелых. В замке Милич находили бесплатный пансион молодые художники и музыканты из Берлина и других городов Германии.
Мария была последним, восьмым ребенком в семье. Мать боготворила своего единственного сына, ровно относилась к шести старшим дочерям, а младшую почему-то недолюбливала. Зато отец в девочке души не чаял. От него она получила первые уроки правды и добра, которые запомнила на всю жизнь. Еще в детстве проявились качества, всегда отличавшие Марию фон Мальцан: упорство и самостоятельность, обостренное чувство справедливости, любовь к животным и отчаянная, иногда безрассудная смелость. Казалось, она не замечала опасности. Много лет спустя, вспоминая прожитые годы, Мария благодарила судьбу за то, что никогда не знала страха. Во времена нацизма смерть подстерегала ее буквально за каждым углом, порой секунда испуга могла стоить жизни.
Марии было двенадцать лет, когда умер отец и ее счастливое детство кончилось. Единственным наследником семейного имущества был объявлен старший брат, а опеку до его совершеннолетия приняла на себя мать. Сестрам было назначено ежемесячное пособие. Домашнее обучение было прервано, девочку отправили в обычную школу. Не сразу удалось привыкнуть к новым порядкам. Ее исключали из нескольких школ за неподчинение правилам, за „чрезмерную“, по мнению педагогов, любовь к животным. Наконец, Марии повезло: она попала в берлинский интернат для благородных девиц, где встретила воспитателей и учителей, которые ее понимали. Ей, единственной из всех учениц, даже разрешили держать при себе собаку.
Старшие сестры, закончив подобные пансионы и лицеи, сравнительно
быстро вышли замуж за людей своего круга, и у Марии появились зятья -
графы, бароны, представители старинных дворянских родов. На один брак
мать долго не давала согласия: полковник фон Райхенау был из недостаточно
знатной семьи. Но все же свадьба состоялась. Впоследствии Райхенау дослужился
до звания генерала-фельдмаршала и стал одним из ведущих гитлеровских полководцев.
После ссоры со всемогущим Германом Герингом он при странных обстоятельствах
умер в 1942 году.
Все ожидали, что и Марию ждет судьба ее старших сестер, однако любознательная
девушка хотела учиться дальше. Мать и брат были решительно против, но
интернатские учителя сумели их уговорить, и ей было разрешено поступить
в университет. Она мечтала стать ветеринаром, что в те годы было весьма
необычно для девушки ее круга. Но эту мечту пришлось отложить: она не
имела своих средств к существованию и целиком зависела от брата. Мария
поступила на биологический факультет университета Бреслау, через год перевелась
в Мюнхен. Ее интересовали зоология, ботаника и антропология, а темой для
научной работы она выбрала ихтиологию.
Студентка
Студенческие годы подарили Марии долгожданную свободу, встречи с интересными людьми. Еще в Бреслау она познакомилась с членами молодежного социал-демократического общества, прониклась их идеями и готова была активно участвовать в общественной работе. Вначале к ней отнеслись настороженно: графини среди социал-демократов встречались не часто. Но холодок недоверия быстро прошел – ее искренность не вызывала сомнений. Собрания общества нередко подвергались нападениям нацистских боевиков, так что остроту партийной борьбы накануне прихода Гитлера к власти графиня фон Мальцан познавала не только из газет.
На деятельную молодую студентку обратили внимание и городские национал-социалисты: ей предложили стать агитатором, ездить по стране и убеждать людей в преимуществах их партии. Нацисты не скупились на обещания, чтобы уговорить Марию, - она была неплохим оратором, а ее громкое имя привлекало бы людей. Труднее всего было устоять перед перспективой пользоваться персональным автомобилем с оплатой всех расходов. Иметь свою машину было ее давнишней мечтой. Незадолго перед этим она получила водительские права, а чтобы лучше узнать автодело и стать водителем „не хуже мужчин“, два месяца проработала в автомобильной мастерской. Но от заманчивого предложения Мария фон Мальцан все же отказалась. Кто такие нацисты, она уже тогда хорошо понимала. Прочитав оба тома „Моей борьбы“, вышедшие соответственно в 1925-м и 1926-м, она твердо решила, что с Гитлером ей не по пути.
Семья фон Мальцан придерживалась других взглядов: все остальные дети вступили в гитлеровскую партию. Брат и младшая сестра стали политическими противниками. В 1940 году Мария получила из дома письмо, где сообщалось, что брат погиб при штурме линии Мажино во Франции. „Он пал за тебя“ - такие слова были в том письме. Мария ответила, что это неправда: брат пал за Гитлера.
Мюнхен
В баварской столице Мария оказалась в самом начале 30-х годов. Активность нацистов в Мюнхене была выше, чем в других городах Германии: здесь жил сам будущий фюрер. Один раз она даже видела, как он в сопровождении группы соратников выходил из знаменитой пивной „Остериа-Бавария“. Девушке надолго запомнилось грандиозное и одновременно устрашающее шествие нацистов по Леопольдштрассе, в котором участвовали тысячи людей – от юношей из гитлерюгенда до военизированных отрядов штурмовиков в черной форме. Это был 1932 год, до прихода Гитлера к власти оставалось несколько месяцев.
После 30 января 1933 года, когда Гитлер был объявлен канцлером Германии, культурная жизнь в городе заметно потускнела. Из репертуаров исчезли многие спектакли и фильмы, среди авторов которых были евреи или чье содержание не отвечало идеологическим требованиям новой власти. Даже песни, исполнявшиеся на сценах ресторанов и кафе, проходили суровую цензуру. Например, известному певцу мюнхенского кабаре Вальтеру Гильбрингу, будущему мужу Марии фон Мальцан, запретили исполнять куплеты популярного тогда сочинителя Курта Тухольского. Если же произведение было слишком хорошо известно, как некоторые песни Генриха Гейне, то его печатали в школьных книгах, не указывая имени автора.
После поджога рейхстага в феврале 1933-го усилились нападки
на противников новой власти – социалистов и коммунистов. Вытеснение евреев
из общественной жизни стало еще более активным. У входа в магазины появились
пикеты с плакатами: „Немцы, не покупайте у евреев“. Из университета настойчиво
изгонялись неарийские студенты и преподаватели. Не членов нацистской партии
больше не брали на работу.
Чтобы заработать немного денег для продолжения учебы, Мария устроилась
в мюнхенскую редакцию католического еженедельника „Вельтгук“, выходившего
в австрийском городе Инсбруке. Здесь она познакомилась со шведским пастором
Фридрихом Мукерманом, который сыграл важную роль в антигитлеровском Сопротивлении.
Одну из своих задач Мукерман видел в том, чтобы рассказать миру о преступлениях
фашистского режима в Германии. По его заданию Мария тайно вывозила из
Мюнхена в Инсбрук сводки о происходящем в стране. На мюнхенском вокзале
пассажиров часто обыскивали, и от нее требовалась немалая находчивость
и выдержка, чтобы не попасть в руки гестапо.
Увлеченно занимаясь общественными делами, девушка не забывала и о науке. Осенью 1933 года она успешно защитила докторскую диссертацию по естествознанию. К этому времени Гитлер уже девять месяцев правил страной. Найти работу в университете или институте биологии не было никакой надежды. Мало того, что она не состояла в нацистской партии; политическая благонадежность Марии вообще не внушала властям доверия: несколько раз ее вызывали в гестапо на допросы из-за дружбы с социалистами и евреями. Поэтому она не раздумывая согласилась на предложение редактора „Вельтгука“ поехать вместе с ним в длительную командировку в Африку. Фридрих Мукерман одобрил это решение, но просил не уезжать из страны навсегда: Мария фон Мальцан была нужна тем, кто решил бороться с гитлеровским режимом. Самому пастору пришлось срочно уехать на родину - он чудом остался жив после покушения на него гитлеровских боевиков.
Берлин
Путешествие в Африку закончилось раньше, чем планировалось. Через полгода пришло известие о смерти матери, и Мария вернулась на родину. В Миличе обученные братом слуги встретили ее приветствием: „Хайль Гитлер!“. Долго оставаться дома не было никакой возможности, и в начале 1935 года она снова оказалась в Мюнхене. Обстановка в городе стала еще более удручающей. Общение с друзьями было чревато репрессиями: письма вскрывались и прочитывались на почте, телефонные разговоры прослушивались. Одно неосторожное слово могло привести человека в концлагерь. Оглядываться на строгую цензуру должны были авторы статей, редакторы журналов, газет, эстрадные исполнители. Вальтер Гильбринг, ставший с недавнего времени мужем Марии, решил попытать счастья в Берлине, сочтя, что Мюнхен стал „слишком коричневым“. В конце 1935-го молодые супруги перебрались в немецкую столицу.
Брак оказался коротким: сразу после Берлинской олимпиады 1936 года Вальтер вернулся в Мюнхен, оставив Марию в Берлине и прислав ей бумаги на развод по почте. Марии пришлось начинать новую жизнь. Она быстро стала своей в высших столичных кругах, у нее появились друзья среди актеров и спортсменов. На одном из приемов, устроенном официальной кинозвездой Третьего Рейха Ольгой Чеховой, Мария познакомилась со знаменитым немецким боксером Максом Шмелингом. Чтобы заработать на жизнь, она писала «душещипательные» истории из жизни животных, пользовавшиеся большой популярностью у сентиментальных берлинских радиослушателей и читательниц дамских журналов. Но не оставила она и свою давнюю мечту лечить животных и в 1940-м поступила на ветеринарное отделение Берлинского университета. Эта профессия помогла ей и многим людям, которых она спасала, пережить страшные годы войны.
Мария фон Мальцан охотно занималась спортом: плавала, ездила верхом и стреляла из пистолета лучше многих мужчин. И при этом она была элегантной, очаровательной и очень привлекательной женщиной, чьим обществом дорожили высшие партийные функционеры, армейские генералы и офицеры СС. Убеждения самой графини не изменились: она презирала Гитлера, ненавидела нацистов и всеми силами боролась против их режима. Мюнхенские связи с антигитлеровским подпольем она сохранила и в Берлине.
Ганс Гиршель
В 1939 году Мария фон Мальцан встретила мужчину, любовь к которому пронесла через всю жизнь. Издатель авангардного литературного альманаха Ганс Гиршель жил вместе с матерью, отказавшейся эмигрировать в Англию, хотя жизнь евреев в Берлине с каждым месяцем становилась все более опасной. Каждый день появлялись новые антиеврейские постановления, и малейшее их нарушение грозило немедленной отправкой в концлагерь. Ганс был очень привязан к своей матери и был готов разделить ее судьбу.

Мария фон Мальцан и Ганс Гиршель
В начале 1942 года фрау Гиршель получила предписание покинуть свою большую
квартиру на Кайзераллее и переселиться с сыном в специальный дом, где
жили одни евреи. Мария в это время была беременна, и Люция Гиршель, наконец,
разрешила своему сыну переехать к матери его будущего ребенка на Детмольдерштрассе.
Чтобы сбить нацистов со следа, решили инсценировать самоубийство Ганса.
Он написал «прощальное письмо», в котором сообщил, что не в силах больше
жить под постоянной угрозой разлуки с матерью. Через два дня Люция пошла
с этим письмом в полицию и заявила о пропаже своего сына. Расчет на то,
что власти не будут особенно утруждать себя поисками пропавшего еврея,
оправдался полностью: Ганс Гиршель был признан умершим и его местопребывание
перестало кого бы то ни было интересовать.
Перед переездом Ганса Мария перевезла к себе на Детмольдерштрассе
внушительных размеров диван, в котором было достаточно места, чтобы спрятать
человека. Изнутри он запирался на крючок, а в его дне Мария просверлила
несколько отверстий для доступа воздуха. Уходя из дома, она ставила в
диван стакан с водой и специальным лекарством, подавляющим кашель, – так
что Ганс мог долго находиться там, не выдавая себя.
Эти предосторожности оказались не лишними: гестаповцы не раз появлялись
в квартире графини фон Мальцан с внезапными обысками. Однажды эсэсовец
потребовал открыть диван. Мария ответила, что сделать этого она не в силах,
но офицер может прострелить диван, однако предварительно пусть даст ей
расписку, что гестапо возместит ущерб, если никого не найдет. Гитлеровец
не стал рисковать и ушел ни с чем.
Ребенок у Марии родился недоношенным, его поместили в госпиталь в специальную
камеру-инкубатор. Во время одной из частых бомбежек Берлина электричество
в госпитале было отключено, и младенец погиб. Мария считала, что их маленький
сын, облегчив Гансу разрыв с его матерью, тем самым спас ему жизнь.
Люция Гиршель недолго прожила одна в своей новой квартире
в «еврейском» доме. Один из добровольных помощников гестапо донес, что
она появилась на улице в костюме с накидкой, прикрывающей обязательную
для евреев желтую звезду Давида. Этого нарушения было достаточно, чтобы
отправить ее в концлагерь. Больше о ней никто ничего не слышал. Стараясь
облегчить боль от потери ребенка, Мария приютила у себя в доме двух русских
девочек, оказавшихся в трудовом лагере Берлина. Они с Гансом быстро привязались
к детям, а те стали относиться к ним как к новым родителям. Когда после
победы советские солдаты увезли девочек с собой в Россию, Мария и Ганс
долго не могли с этим смириться.
Ганс Гиршель оставался в квартире Марии, Марушки, как он ее называл, до
конца войны. Все его родственники, остававшиеся в Германии, погибли в
концлагерях.
Спасая обреченных
Гиршель был не единственным человеком, кому помогала
Мария фон Мальцан в годы войны. В ее квартире на Детмольдерштрассе в разное
время нашли убежище около шестидесяти человек, не обязательно евреев.
Работая ветеринаром на берлинской скотобойне, она могла принести домой
кусок мяса, что спасало беженцев от голодной смерти. Другие продукты Мария
доставала на черном рынке.
Ганс не знал, чем занимается его Марушка вне дома. Чтобы не рисковать,
она не посвящала его в свои дела, связанные с подпольем. Ради спасения
людей ей не раз приходилось выполнять смертельно опасные задания.
Шведской церкви в Берлине иногда удавалось нелегально „выкупать“ евреев, попавших в руки гестапо. Для оплаты в ход шли не только деньги, но и дефицитные сигареты, вино, продукты. Чтобы вывезти людей из Германии в безопасную Швецию, подпольщики использовали даже мебельную перевозку. Гитлеровцы разрешили членам шведского посольства в Берлине отправлять свои вещи в Стокгольм по железной дороге. Проводники поезда были подкуплены, и в ящиках для мебели могли прятаться люди. Самым сложным было привести группу беженцев к условленному месту, где стокгольмский поезд делал короткую остановку. Это задание и выполняла Мария фон Мальцан. Она вела людей по лесным тропинкам, избегая населенных пунктов.
Как-то ночью, когда Мария возвращалась домой после успешной отправки очередной партии беженцев, ее чуть было не задержал эсэсовский патруль с собаками. Она сумела сбить собак со следа, после чего всю ночь пряталась в ветвях дерева на берегу пруда. Эта ночь показалась ей самой длинной в жизни. На рассвете началась бомбежка. Мария незаметно присоединилась к группе людей, тушивших в деревне пожар. Когда пожар был потушен, она получила справку, оправдывавшую ее отсутствие в городе, и благополучно вернулась в Берлин.
Но не все операции заканчивались так удачно. Однажды она вела к назначенному месту двоих „выкупленных“ у гестапо человек. Как и было условлено, они шли на некотором расстоянии от нее, чтобы не была заметна их связь. Неожиданно Марию окликнул эсэсовский патруль и приказал остановиться. Ни секунды не колеблясь, она бросилась в сторону, отвлекая преследователей от своих подопечных. Когда она перелезала через стену, ее ранили, но ей удалось скрыться. Домой она не ушла, пока не убедилась, что те, за кого была ответственна, дошли до цели. Ганс так и не узнал, кто ранил его Марушку. Много лет спустя Мария фон Мальцан вспоминала, что страха в тот момент она не испытывала. В голове была одна мысль: если сейчас убьют, она умрет за хорошее дело, если останется живой – сможет еще помогать людям.
Спортивная подготовка молодой графини не раз помогала ей в буквальном смысле слова выходить сухой из воды. Ей приходилось сопровождать людей на Боденское озеро, расположенное на юге, там, где Германия граничит с Австрией и нейтральной Швейцарией. Одетые в черные купальные костюмы, Мария вместе с беженцем дожидались темноты и, получив со швейцарского берега условный световой сигнал, переплывали озеро, стараясь не попасть под прожекторы патрульных катеров. Плыть нужно было более двух часов. Передав своего подопечного ожидавшим его людям и немного передохнув, она отправлялась в обратный путь. В следующую ночь она переправляла на швейцарский берег личные вещи беженца. Однажды ее заметили на пограничном катере. К счастью, она уже возвращалась назад и плыла одна. Ей пришлось напрячь все свои силы, призвать на помощь всю ловкость и сообразительность, чтобы уйти от преследователей и благополучно доплыть до спасительного берега.
„Мне ни минуты не было скучно…“
После войны Мария работала ветеринарным врачом в Берлине.
Кроме того, ей много времени приходилось уделять общественной деятельности:
начиная с августа 1945-го союзники вплотную взялись за освобождение Германии
от коричневой заразы, и графиню фон Мальцан привлекали в комиссии по выявлению
бывших активных нацистов.
Казалось, что нормальная жизнь постепенно налаживается. У Марии была квартира,
интересная и нужная людям работа, рядом с ней находился любимый мужчина,
на которого можно было наконец опереться. Но, видимо, она переоценила
силы – и его, и свои собственные. Жизнь готовила им новые испытания.
Годы нечеловеческого напряжения не прошли для них бесследно. Проведший около трех лет в убежище, Ганс не скоро смог приспособиться к новой жизни. Его тонкая, ранимая психика литератора-интеллектуала была подавлена. Во время войны Мария была настоящим диктатором во всем, что касалось их безопасности. И теперь, когда самое страшное ушло в прошлое, ему уже было не обойтись без ее заботы. Но и у самой Марии силы тоже были на исходе. В 1947-м Ганс Гиршель и Мария фон Мальцан поженились. И так же, как и первый ее союз с Вальтером Гильбрингом, этот брак оказался недолгим – в 1949 году он распался. Но их душевная близость и привязанность друг к другу не исчезли. Через двадцать три года они вновь встретились и поняли, что должны быть вместе.

Мария фон Мальцан, середина 80-х годов
Весной 1972-го, за три года до смерти Ганса, они поженились во второй
раз. Это трехлетие было самым счастливым в жизни Марии фон Мальцан. Наконец-то
она обрела понимание, душевную поддержку и заботу, которых ей так не хватало
раньше, когда она одна оказалась перед неведомой и страшной бедой. Дело
в том, что в годы войны ей приходилось снимать стресс с помощью успокоительных
средств. Постепенно это вошло в привычку, и она сама не заметила, как
стала наркоманкой. Пользуясь своим правом врача, она выписывала себе лекарства,
содержащие сильные наркотики. Но так не могло продолжаться вечно, нарушение
служебного долга было раскрыто, и ее лишили лицензии. Она потеряла работу
и попала в психиатрическую лечебницу.
Потом это время вспоминалось как страшный сон. Но и в больнице, где большинство врачей уже не считали ее нормальным человеком, Мария сумела сохранить чувство собственного достоинства. Однажды профессор, очень активно старавшийся доказать, что больная не поддается лечению, остановил ее во время прогулки и спросил, почему она с ним не поздоровалась, – не узнала? И Мария ответила, что узнала, но в том обществе, в котором она воспитывалась, мужчина здоровается с женщиной первым.
Есть печальное наблюдение: бывших наркоманов не бывает. Марии удалось стать одним из немногих исключений. С огромным трудом она выкарабкалась из пропасти и вернулась к нормальной жизни и любимой работе. Она вновь получила возможность лечить животных, чем с удовольствием занималась до последних дней своей жизни.
В августе 1997-го Мария фон Мальцан была официально приглашена
в Израиль для вручения ей медали “Праведник мира” за спасение евреев в
годы Холокоста. Но “мятежная графиня” отказалась от почетного звания.
Израильские войска еще находились в Ливане, и она, всю жизнь боровшаяся
за права людей независимо от их религии и цвета кожи, не могла отнестись
к этому равнодушно.
Для названия книги своих воспоминаний графиня Мария фон Мальцан выбрала
первую строчку знаменитого стихотворения Генриха Гейне „Доктрина“:
| Бей в барабан и не бойся беды И маркитантку целуй вольней. Вот тебе смысл глубочайших книг, Вот тебе суть науки всей. (Перевод Ю. Тынянова) |
Кстати, в этой книге Мария вспоминает поговорку своей силезской родины:
„Лучше жизнь короткая, но хорошая“ -- и добавляет: „Возможно, ко мне это
и не относится, но я определенно могу сказать, что в моей жизни мне ни
минуты не было скучно“.
Автор: © Евгений Беркович
Источник: Сетевой портал «Заметки по еврейской истории»
http://www.berkovich-zametki.com/
Марина Кондратьева
Большой театр отметил юбилей народной артистки СССР, педагога-репетитора Марины Кондратьевой. Это о ней великий хореограф Касьян Голейзовский сказал: "Если бы Терпсихора существовала в действительности, воплощением ее была бы Марина Кондратьева..." С юбиляршей встретилась обозреватель "Известий". вопрос: Марина Викторовна, вы отдали Большому театру
56 лет жизни. Какие из них были самыми плодотворными? в: Вы могли себе позволить танцевать бесплатно.
Обеспеченная семья, папа - академик-ядерщик... |
 |
в: А как получилось, что на балет вас благословила сама
Ваганова?
о: Смешно получилось. Повел меня к ней друг папы академик Семенов. Занятия
в училище уже начались, и Ваганова могла похлопотать, чтобы меня взяли
в середине года. Он представился: "Я Семенов. А это моя родственница
Марина". Через два года, когда Ваганова снова приехала в Москву,
я зашла ее поблагодарить. "А, Марина Семенова? - сказала она. - Помню".
С настоящей Мариной Семеновой я встретилась уже в театре и всю свою жизнь
в Большом от нее не отходила. Сначала она репетировала со мной, а потом
учила меня репетировать с другими. Сейчас мы, к сожалению, редко видимся.
Ей тяжело. Все-таки возраст немалый - сто лет, такая жизнь за плечами...
Жаль, что Марина Тимофеевна не оставила воспоминаний. Она ведь прошла
огонь и воду, многое могла бы рассказать.
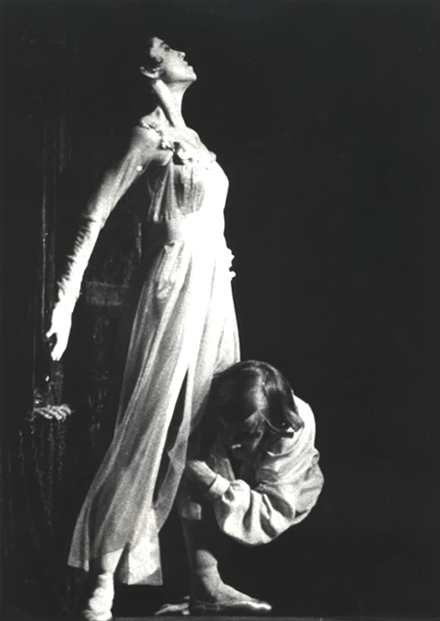 |
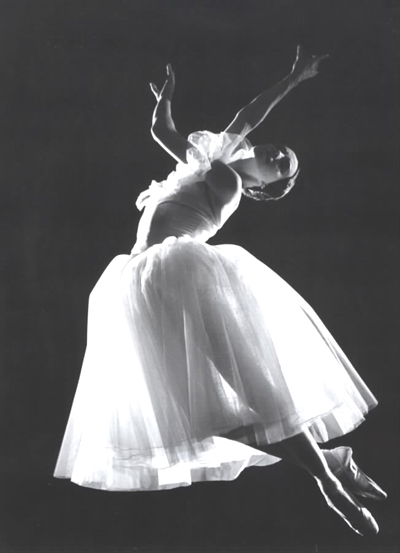 |
в: Вы сами не собираетесь писать мемуары?
о: Я пыталась начать, но не получилось. О хорошем сейчас не любят читать.
А невзгодами, которые выпали на мою долю, не хотелось бы делиться. Что
бы я ни вспоминала, на ум приходят какие-то смешные, приятные эпизоды...
в: Как такая лучезарная, легкая балерина могла танцевать таких страстных
героинь, как Хозяйка Медной горы и Анна Каренина? Приходилось себя ломать?
о: Просто сцена позволяла выплеснуться. В жизни мне всегда было проще
уйти от конфликта. А в этих спектаклях все мои скрытые страсти вырывались
наружу. "Анна Каренина" - мой последний и самый любимый спектакль.
Майя Плисецкая ставила его для себя, и я благодарна ей за то, что она
дала мне карт-бланш. Сказала: "Как ты чувствуешь, так и сделай".
в: Вашим Вронским были Марис Лиепа и Александр Годунов.
Оба - личности харизматические, привыкшие к лидерству. Не боялись оказаться
на втором плане?
о: Наоборот, я всегда радовалось, что у меня такие сильные партнеры. Марис
к тому же прекрасно держал. Руки у него были просто сказочные.
в: Как вам дался переход от танцев к педагогике?
о: Легко. Говорят, что со сцены уходить трудно. Чуть ли не жизнь кончается.
А я не могла дождаться момента, когда приду в театр в качестве педагога.
В июне 1980 года я станцевала последний спектакль, но об этом знали только
я и Григорович. Он взял меня репетитором. Потом появилась Наташа Архипова,
моя первая ученица в Большом театре.

в: Сейчас у вас целый Кондратьевский полк. Вы можете
сказать: "Мои ученицы за мной как за каменной стеной"?
о: Нет. У меня такое ощущение, что именно с моих учениц больше всего спрашивают.
Сейчас, когда девочки вышли в солистки, в балерины, стало легче. А когда
я тянула их из кордебалета, было тяжело.
в: А что за силы вам мешают?
о: Не силы - система, выстроенная на личных симпатиях и антипатиях. Я
порой расстраиваюсь, а потом говорю себе: "Ну что ты хочешь, это
же театр..."
в: Артисты часто говорят о дыхании зала. Вы его ощущали?
о: Всегда. Иногда выходила и понимала: зритель сегодня тяжелый - не поднять,
не завести... Мы очень не любили премьеры, куда ходили члены политбюро
и правительства. Спектакль для них был частью протокола. Правда, не для
всех. Сталину, например, очень нравилось "Пламя Парижа". Он
всегда приходил на третий акт, когда танцевала Лепешинская.

в: Для страны подобный протокол, наверное, был во благо.
Все-таки наши лидеры знакомились с новинками искусства, образовывались.
Сейчас ведь такого нет?
о: Да, сейчас не ходят. Помню, года два или три назад одновременно случились
две премьеры - балет в Большом и мюзикл в Театре оперетты. Улицу оцепили
- сказали, что приедет президент с администрацией. Мы напряглись, ждали,
а они отправились к соседям в Оперетту. Раньше приехали бы к нам...
в: В доперестроечное время частью правительственного досуга были кремлевские
концерты. Вы их помните?
о: Воспоминания ужасные. Особенно новогодние. Нас привозили в Кремль 31
декабря, часов в десять вечера. Там была маленькая комнатка, из нее выход
на лестничную площадку, а далее лестница, по которой мы попадали в зал.
Даже разогреться было негде. Выступали под звон бокалов и стук вилок о
тарелки. Но самым тяжелым было ожидание выхода. Иногда уже двенадцать
било, а мы в костюмчиках сидим и ждем, когда нас позовут танцевать. Зато
помню, как поразил меня банкет в честь 8 Марта в Кремлевском дворце. Он
проходил под патронатом Фурцевой. Мы оттанцевали, и нас пригласили за
стол отобедать вместе с руководством. Такое на моем "кремлевском"
веку случилось впервые.
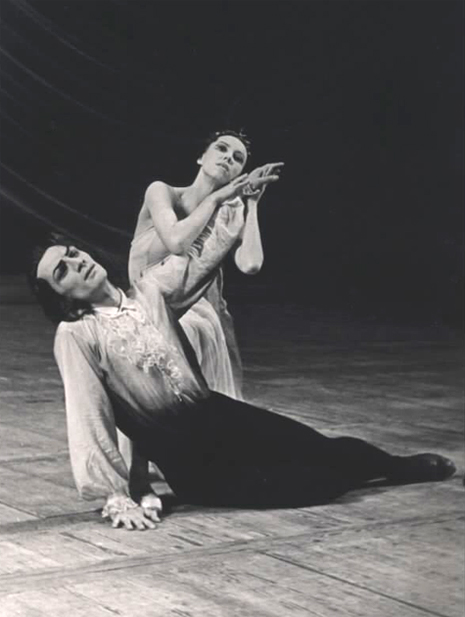 |
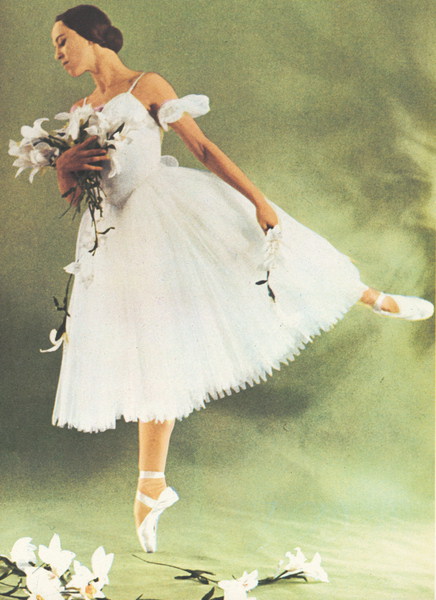 |
в: О Фурцевой рассказывают много хорошего...
о: Она была чудесным человеком. Вникала во все перипетии нашей жизни.
Никогда не забуду один случай. Галина Сергеевна Уланова поссорилась с
Лавровским. Рындин, ее муж (главный художник БТ. - "Известия"),
прилюдно Лавровскому заявил: "В старые времена я вызвал бы вас на
дуэль". Фурцева пришла их мирить. "Я не уйду, - говорит, - пока
не помиритесь..." Ее любовь к артистам чувствовалась даже в мелочах.
Например, у всех солистов были кремлевские пропуска - подъезжали прямо
к подъезду Кремлевского дворца. А сейчас не то что въехать, зайти на территорию
- целая проблема.
в: Вы можете назвать себя счастливым человеком?
о: Наверное, да. У меня любимая работа, я востребована. Есть муж, с которым
мы прожили 43 года, сын, чудесный внук... Думаю, главное условие счастья
- принимать жизнь как она есть. Вот, например, приехала я на Новый год
с дачи, а квартира ограблена. Все вынесли - деньги, драгоценности, ордена...
Ну что теперь - плакать? Видно, так судьба распорядилась. Если Бог дает,
Он и берет. Хорошо, что только это. Значит, от чего-то более серьезного
судьба меня оградила...
Автор: Светлана Наборщикова
Источник: http://www.izvestia.ru/culture/article3125653/
Дата публикации: 19:22 19.02.09

Почти через месяц Айсель Теймурзаде в дуете с Арашом будет представлять нашу страну на популярном европейском музыкальном конкурсе «Евровидение 2009» в Москве. В эксклюзивном интервью Xronika.az Айсель рассказала о своих переживаниях и подготовке к конкурсу:
-Айсель, вам предстоит нелегкая задача, ведь представлять нашу страну на таком конкурсе, как "Евровидение 2009" очень ответсвенный шаг. О чем думает сегодня Айсель Теймурзаде, чем живет?
- Я считаю «Евровидение» для себя неким экзаменом, и, конечно, хочу занять достойное место. За последние несколько месяцев во мне произошли большие изменения, я стала увереннее в себе. Я полностью осознаю, что должна на должном уровне представить свою культуру, свой народ. Для 19-летней студентки это очень трудно, но я уверена, что мне по силам победить на этом конкурсе.
- Среди деятелей культуры и искусства нашей страны были и те, которые негативно отнеслись к вам и к вашей песне. Как это отразилось на вашем настроении?
- Это еще больше прибавило мне и Арашу уверенности. Каждый имеет свое личное мнение, естественно, я не могу быть хорошей для всех. Понимаете, я чувствую в себе прилив новых сил, любовь, чувствую, что заново родилась. Я очень рада, что «Always» становиться хитом в Европе. А что касается критики и негатива - это мне только на пользу.

- А как вообще идет подготовка к конкурсу?
- В целом все отлично. Сейчас готовлюсь к сценической постановке. Не спрашивайте, по этому поводу я ничего не скажу, пусть это будет сюрпризом. Мой партнер Араш во всем помогает мне. Мы работаем с известными специалистами, которые работали с Мадонной, Кайли Миноуг. Одним словом, все на очень высоком уровне.
- Айсель есть какой то собственный рецепт удачи?
- Я верю в победу, и все.
- Надеюсь взять у тебя интервью в качестве победительницы «Евровидения
2009»
- Обещаю, что не откажусь.
Автор: Вугар Гасанов
Источник: http://xronika.az/azerbaijan-news/3435-ajsel-tejmurzade-mne-po-silam-pobedit-na.html
Послесловие. Айсель Теймурзаде на конкурсе "Евровидение-2009" вместе со своим партнёром заняла 3-е место. Для справки: представительница России оказалась на 11-м месте, а дуэт из Израиля - только на 16-м.
Мария Котлярова
1918 - В украинском еврейском местечке Екатеринополе, где родилась и до отъезда к старшему брату в Москву жила еврейская актриса Мария Котлярова, говорили на идиш, в быту придерживались еврейской традиции. Язык идиш, еврейские песни, танцы, традиция были для Мани (так ее звали дома и в театре) органичны. Поэтому, когда она 16-летней девчонкой пришла в студию ГОСЕТа, ей не пришлось учить язык, как многим другим студийцам. Талантливую студентку вскоре начали привлекать к участию в массовках спектаклей. На старших курсах ей уже доверяли небольшие роли. Окончив студию, Котлярова играла в ГОСЕТе роли бабушки в спектакле «Гершеле Острополер», Генриетты Швалб в «Блуждающих звездах», Фрейдл в «Капризной невесте», Ханеле в «Цвей кунилэмлэх», американки Ричи в «Стоит жить», монашки в «Восстании в гетто», одну из шести служек в «Фрейлэхсе»…
Сама Маня Котлярова вспоминала о своей творческой жизни: «Наступили шестидесятые, время «оттепели». Многое менялось в стране, менялось и отношение к еврейской культуре. Начал выходить журнал Арона Вергелиса «Советиш геймланд». В 1961-м мы, шестеро уцелевших артистов ГОСЕТа, организовали, хотя и не без труда, при Москонцерте Московский еврейский драматический ансамбль – единственный в ту пору театральный коллектив, игравший на идиш, и постарались возродить спектакли ГОСЕТа. Нам удалось это, хотя тексты пьес и постановочные листы не сохранились. Многое пришлось мне восстанавливать по памяти. Мы играли «Тевье-молочника», «Фрейлэхс», «Двести тысяч», «Испанцев», «Колдунью» и другие спектакли. Своего помещения у нас не было, базировались в «Цыганском театре», выступали на его сцене, на различных площадках, гастролировали по стране и пользовались неизменным успехом у зрителя.
В 1977 году меня пригласил на должность режиссера-преподавателя в Камерный Еврейский музыкальный театр (КЕМТ) его создатель и художественный руководитель Юрий Шерлинг. Вскоре преподавать идиш привлекли и замечательного человека, талантливого актера ГОСЕТа Сашу Герцберга. КЕМТ набирал труппу. Абитуриентов-евреев оказалось немного, помнится, зачислили человек пять-шесть, но и они не знали идиш. Работая над ролями на идиш с артистами КЕМТа, я старалась передать им все, что когда-то сама получила в ГОСЕТе, не уставала напоминать им завет Учителя: «Не играйте в еврея. Играйте характер, вам поможет мамэ-лошн». Совместной работой Шерлинга, преподавателей и артистов мы сделали КЕМТ знаменитым. Но в 1985 году из-за внутренних распрей, столь характерных для театральных коллективов, Шерлингу пришлось расстаться с КЕМТом. Это стало началом конца. Какое-то время театр, руководимый Михаилом Глузом, еще жил старым багажом.
Распался и наш ансамбль, в котором, я, работая в КЕМТе, продолжала играть. Но я осталась верна своей миссии возрождать и пропагандировать еврейскую культуру. Помогала артистам в постановке еврейского сюжета, танца, песни. Несколько лет преподавала идиш, еврейскую литературу в Туро-колледже, организованном израильским профессором Гершоном Вайнером. Часто ездила в Киевский еврейский театр, где обучала балетмейстера еврейским танцам, пропела для нее весь «Фрейлэхс». Подготовила программы на идиш для Романа Карцева и Виктора Ильченко перед их гастролями в США, а Валентине Толкуновой - перед ее гастролями в Израиль. На концертах певицы Марины Бухиной в Олимпийской деревне и певицы Анны Шевелевой в городах России, Украины, Прибалтики, исполняла еврейские песни, читала «Камни Треблинки» А. Вергелиса, поэмы Ш. Дриза, Ш. Галкина. В начале самостоятельной работы Ильи Авербуха на льду поставила ему танец «Хава нагила».

В 2002-м создала при Международной студенческой организации «Гилель» театральную группу, выступавшую в клубах и еврейских средних школах. Я поставила еврейский танец в спектакле «Улица Шолом-Алейхема, 40» в Драматическом театре им. Станиславского, в Тбилисском русском театре им. Грибоедова. Вместе с певцом Ефимом Александровым мы проделали сложную работу по подготовке его сольного концерта «Песни еврейского местечка». Пять лет преподавала идиш в Еврейской академии им. Маймонида. Я и по сей день принимаю активное участие в Михоэлсовских фестивалях, организуемых Михаилом Глузом и Ириной Горюновой. Всех проделанных работ не перечесть...».
Мне довелось много раз встречаться с Маней Котляровой – и на Таганской площади в Москве, и в Биробиджане, и в Иерусалиме, где в то время училась ее внучка. Манечка всегда была весела, жизнерадостна, много шутила, театральные байки так и сыпались из ее уст, а когда однажды после интервью для «Еврейского камертона» я захотел ее сфотографировать, она сказала: «Знаешь что, давай фото сделаем завтра, я должна привести в порядок и лицо, и прическу». А вот что на своей страничке в «Живом журнале» написала о ней 27 сентября 2008 года московская журналистка Анна Баскакова: «Сегодня похоронили замечательного человека - актрису Марию Котлярову. Последнюю, кажется, актрису ГОСЕТа. Мария Котлярова прожила долгую и довольно тяжелую жизнь. Когда убили Михоэлса и разогнали театр, она зарабатывала на жизнь изготовлением искусственных цветов. Потом вернулась в театр. Выпустила книгу воспоминаний - "Плечо Михоэлса". И всегда оставалась легкой и веселой, как девочка...
Мария Ефимовна сломала ногу на следующий день после празднования своего 90-летия, когда пыталась уложить в ванну девяносто красных роз. Несколько месяцев пролежала в гипсе, я все хотела приехать к ней в гости - и все не могла, находились более важные дела. Я так и не отвезла ей фотографии с ее 90-летия. Так и не сняла ее хороший портрет, которыйсобиралась сделать много лет. И вдруг ее не стало. Перед своим 90-летием Мария Ефимовна всё переживала: вдруг люди не придут на вечер? Зал был полон, Мария Ефимовна пела и танцевала. А теперь прошло всего несколько месяцев - и почти столько же людей стояли над ее могилой...».
В подготовке материала принял участие Хаим Шварц (Нетания, Израиль)
Ася Мамедова
Вскоре после празднования в Израиле Дня независимости страны выходцы из бывшего СССР отмечают особый для них день, готовясь к которому некоторые достают из тумбочек и шкафов самое дорогое, что хранят бережно вот уже почти 65 лет – медали, ордена и другие награды, как память о незабываемом, что никогда не изгладится из их памяти. Эти люди – ветераны Второй мировой войны. Не внеси они свой вклад в Великую Победу над нацизмом, карта мира выглядела бы по-иному: в частности, не было бы на ней, возможно, и нашей страны, еврейского государства Израиль…
Еду я однажды на своей машине по улице Шпринцак, что в нашем северном городке Кирьят-Шмона, и вижу переходящую улицу невысокую пожилую женщину. Обычная бабушка, каких немало. И она не привлекла бы моего внимания, если бы не прикреплённые к её одежде ордена и медали. «Вот, - мелькнуло в моей голове, – одна из живущих в Израиле двух тысяч женщин-ветеранов Второй мировой!..» Всё в её облике как бы говорило: «Я была ТАМ!» Глаза светились по особому, а весь облик отражал гордость и причастность к событию, годовщина которого отмечается в День Победы, 9-го мая.
Мы, сабры (уроженцы Израиля), помним и свято чтим день Шоа (Катастрофы европейского еврейства), но редко вспоминаем тех евреев, кто прошёл сквозь горнило боёв Второй мировой и своим ратным трудом добыл Великую Победу. Ася Мамедова (я с ней познакомилась) – одна из немногих женщин-фронтовиков, живущих в нашем городе вот уже более 15-ти лет.
И вот мы у неё в гостях, в её скромной квартирке на улице Шпринцак. К нашей встрече Ася достала из шкафа фотографии, фронтовые ордена и медали. «Не все мои награды здесь, - извинилась она. – Большую часть документов и свой любимый орден я, уезжая, оставила у внука». Ася призналась, что более всего дорожит медалью «За отвагу», которой обычно награждали мужчин. Тем не менее, её праздничная одежда украшена несколькими рядами орденов и медалей, которые ей вручили уже здесь, в Израиле в знак памяти о том, что произошло тогда…

В июне 1941-го, в самом начале войны, Асе Мамедовой было лишь 16 лет. Только что кончился учебный год, и она, спасаясь от фашистов, вместе с семьёй бежала из родного Киева на восток. «Мы успели заскочить в поезд в самый последний момент – немцы уже вошли в Киев. Дедушку и всех других родственников, кто остался в городе, расстреляли в Бабьем Яре…» Со своим отцом и сёстрами Ася оказалась на Южном Урале, в Челябинске. «Жизнь была тяжёлая – голод, холод, нищета. Одно папино пальто холодной русской зимой мы надевали по очереди. Работать в колхозе мы не умели, и мне предложили должность телефонистки. Я тут же с радостью согласилась. А через год объявили первый призыв в армию девушек. Мне было 17 лет, но я сразу же решила отправиться на фронт, в действующую армию. Дома о моём решении никто не подозревал до самого последнего момента. Я была непоколебима, и родным ничего больше не оставалось, как вручить мне на дорогу торбу с сухарями, которой мне хватило на первый месяц…»
Красная армия не была готова к женскому призыву. Ася вместе с ещё 34-мя женщинами получила мужское обмундирование – брюки, гимнастёрку, обувь не по её маленькой ноге. Когда курс молодого бойца был окончен, её направили связисткой в 679-й батальон артиллерийского полка. Вместе с ней там служили ещё 18 девушек. «Мужчин не всегда хватало, и нам приходилось вместо них подтаскивать к пушкам тяжёлые снаряды». Батальон воевал в самом пекле боёв – в Сталинграде. Вместе с наступающими частями маленькая связистка Ася шла на запад. А когда в 1944-м году была освобождена Одесса, Ася осталась там до конца войны.
Я прошу её рассказать о самом запомнившемся случае на войне, - том, за который она получила свою награду. Она охотно вспоминает: «Было это в Сталинграде. Зима. Страшный мороз. А у меня задание: залезть на столб и починить линию. На ногах железные «когти», всё тело окоченело, руки и ноги мне не подчиняются, липнут к ледяному металлу. Вдруг начался обстрел. Вокруг – ни души, все попрятались и не отворяют двери, думают, что пришли немцы. Я услышала лай собаки и пошла в ту сторону, чтобы попросить о помощи. Наконец, вышел какой-то старик и, вняв моим слезам, достал лестницу, чтобы я могла влезть на столб. Связь была восстановлена».
Ася рассказывает о том, как однажды заболела малярией и никак не могла поправиться, пока не переместилась в другую климатическую зону – только там она начала выздоравливать. Три долгих фронтовых года у Аси не было никакой связи с родными. Её семьёй стал батальон, солдаты – всё было общее: победы и неудачи, радости и горести. Вместе рыли окопы, вместе продвигались вперёд, вместе отбивались от вороньих стай, которые кружили над зарывшимися в землю людьми, как в фильме Хичкока. Во время войны Ася встретила на фронте свою судьбу – офицера-азербайджанца Ибрагима Мамедова, ставшего её мужем. Он попал на фронт после окончания в Баку военного училища. Кстати, в их батальоне все командиры батарей были выпускниками бакинского военного училища.
Многие «положили глаз» на молоденькую связистку, но она была строгих правил. «Ибрагим был старше меня на 6 лет, он подолгу расспрашивал меня, рассказывал о себе. Мы стали друзьями, но поженились только после войны». Во время пребывания в Одессе окопная жизнь Аси, как это ни странно, продолжилась. Это хорошо показано в недавно показанном по телевидению фильме «Ликвидация». Банды анархистов орудовали вовсю, но фронт стремительно двигался на запад, и покончить с этими бандитами удалось уже после победы. Узнав об окончании войны, все прыгали и целовались, как дети. Девушки демобилизовались и смогли покинуть Одессу. Отношения с Ибрагимом Мамедовым к этому времени стали на серьёзную основу. Ася разыскала в Киеве отца, сестёр и брата (тоже фронтовика). «Ибрагим приехал и сразу пошёл к моему отцу, который уже был болен. Сказал, что любит меня, просит моей руки и обещает заботиться обо мне как о самом родном и близком человеке». Отец дал согласие на наш брак. Впоследствии Ибрагим Мамедов стал министром образования и членом парламента Азербайджана. У них с Асей две дочери – Елена и Светлана.
До отъезда в Израиль Ася работала в Баку учительницей русского языка и литературы. «Я прожила интересную, наполненную событиями жизнь, не жалею ни о чём. Я вообще не привыкла ни на что жаловаться. И здесь, в Израиле, я обрела свою вторую родину. Жаль только, что к нам, бывшим фронтовикам, отношение не всегда такое, как хотелось бы. Но и это можно понять: та война закончилась 64 года назад, а Израиль воюет на протяжении всего своего существования. Здесь воины все граждане, и это – норма. Печально, но факт. Ибо только так можно выжить».
Автор: Орна Райн
Источник: газета «Meida8» № 1759 от 8 мая 2009 года
Александра Бруштейн
Александра Яковлевна родилась 12 августа1884 года в Вильнюсе. Ее отец Яков Выгодский был врачом и общественным деятелем, министром по еврейским делам Литовской республики и депутатом польского сейма. Он автор книг - «Юнге йорн» («Молодые годы»), «Ин штурм» («В бурю», 1926), «Ин геэнем» («В аду», 1927), «Ин Самбатьен» («В реке Самбатион», 1931). В 1941 году во время немецкой оккупации Вильнюса был заключен в тюрьму, где умер.

Александра Бруштейн окончила Бестужевские высшие женские курсы в Петербурге. С 1907 до 1917 года работала в нелегальной организации политического Красного Креста. После Октябрьской революции организовала в Петрограде 173 школы грамоты.
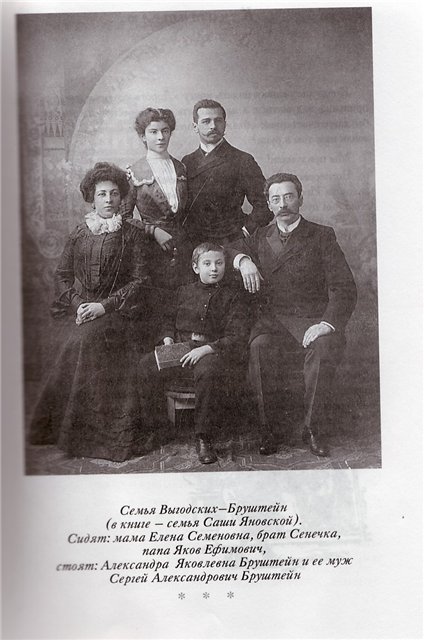
Еще будучи гимназисткой, она была репетитором и преподавала на бесплатных вечерних курсах для рабочих. В течение 10 лет с 1907-го по 1917-й год она состояла членом Петербургской подпольной организации «Политического красного креста помощи политическим заключенным и ссыльным революционерам». Во время гражданской войны Александра Яковлевна была лектором фронтового театра, а после Октябрьской революции вела культурно-просветительскую работу среди населения. Ее литературная деятельность началась с началом века – стихи, очерки, переводы. В 1922 году в Петрограде была впервые поставлена ее пьеса «Май».
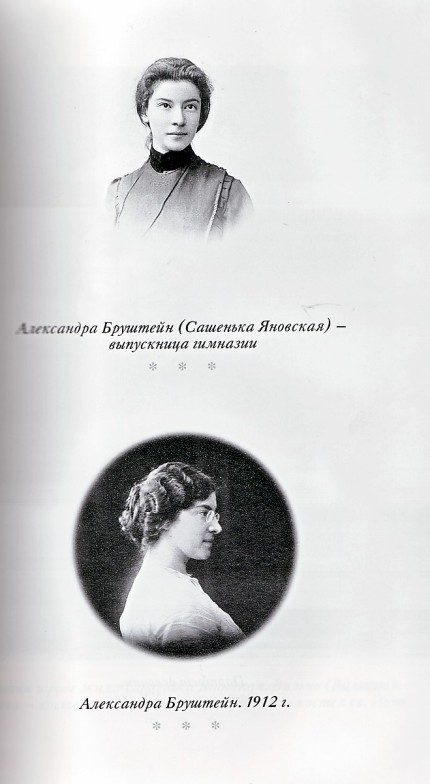
Ею написано свыше 60 пьес, которые шли в столичных и периферийных театрах, в том числе инсценировки классических произведений: «Дон Кихот», «Хижина дяди Тома», «Тристан и Изольда», «Жестокий мир» (по Ч. Диккенсу), пьесы о дореволюционной русской гимназии («Голубое и розовое»), о событиях начала 20 века. Принимала активное участие в организации и работе детских театраль¬ных коллективов в Ленинграде и Москве в 1920-х и 30-х годах и в создании драма¬ти¬ческого репертуара для детей. Бруштейн - автор воспоминаний о театральной жизни России конца 19-го и начала 20-го века. Самое известное произведение Бруштейн - автобиографическая трилогия «Дорога уходит в даль...» (1956), «В рассветный час» (1958), «Весна» (1961). Многие страницы трилогии посвящены национальным взаимоотношениям в царской России.
Александра Яковлевна скончалась, будучи тяжело больной, 20 сентября 1968 года. Похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище.
Фрагменты очерка Любови Кабо
об Александре Бруштейн.
Я оказалась в одном из староарбатских переулков – в Серебряном, – в солидном, не слишком старом московском доме, с крутой лестницей, со множеством цветов на каждой площадке, что, как мы понимаем, несколько необычно, и с глубоким деревянным креслом на одной из них. Поднимаясь по этой лестнице впервые, я еще не знала, что и кресло, и цветы – это уже была Александра Яковлевна. Так же, как и медная дощечка на двери – «Профессор Сергей Александрович Бруштейн», – это тоже была она, ее живая память об умершем муже.
В передней истерически и бессильно лаяли две курносые, безобразные собачонки, пронзительно кричал попугай, – гвалту было немало! И попугай, и зряшные эти собачонки – это уже не была Александра Яковлевна. Принадлежало это все ее дочери, Надежде Сергеевне Надеждиной, руководительнице ансамбля «Березка». Александра Яковлевна, как правило, дожидалась гостей у себя, отдыхая от своего слухового аппарата и чуть сгорбившись в большом кресле. Перед нею, когда она ожидала гостей, уже стояли разложенные по тарелкам гастрономические изыски, домработница Шура приносила чай; Александра Яковлевна бросалась угощать немедленно и с такой настойчивостью, словно ей предстояло – и она знала это, – спасти оголодавшего человека от немедленной смерти.
Господи, как она была некрасива – крупный, чуть приплюснутый нос, слабые стариковские губы, эта дряблая кожа, эти выцветшие от времени глаза... Она прекрасная была, была красавица! Даже в слепеньких, выцветших глазах словно поселялось по нескольку чертей сразу – будь то разговор наедине или большая компания разнородных людей, наслаждавшихся неожиданно выпавшей им удачей, – встречей с нею,.. а уж она-то жила, она кокетничала, чудо наше!.. Иногда она любила при случае ошеломить крепким словцом. Получалось у нее это удивительно элегантно, как и все, что она говорила и делала; и столько ума – во всем, что она говорила и делала, – столько неподдельной заинтересованности и молодой страсти, – она была гением человеческого общения, именно так, иначе о ней не скажешь.
Очень трудно о ней вспоминать. Слишком крупный человек – и разный, не всегда такой, каким казался с первого взгляда, великолепный в страстях своих, и в великодушии, господствующем над страстями. Слишком сложное общение для связных и цельных воспоминаний, слишком – осмелюсь сказать и это, – тесная и сердечная дружба – со своим началом, с этим безоглядным движением друг к другу... Летом 1981 г. мне посчастливилось всерьез посидеть над архивом А.Я. Бруштейн и изучить его, – какие удивительные хранятся письма! «... Спасибо за то, что Ваша книга дает одну из высших радостей жизни, – пишет она И.И. Юзовскому – и тоже не в лучшую минуту его жизни, – радость показать дрянным людям кукиш. Кукиш за то, что они – сволочи, что они хотели помешать талантливому человеку творить и просто жить, – а талантливый человек отнесся к ним без истерики, даже не почесался от их укусов и – пожалуйста! – пришлепнул их великолепной книгой. Ах, хорошо!.. Вы молодец, Иосиф Ильич, из молодцов молодец!..»
А как должен быть удивлен и обласкан человек, ничем и никак с Александрой Яковлевной не связанный, получив, например, такое письмо: «Если бы мне дана была власть устанавливать “день мороженщика или маникюрши” или оригинальное празднование “Ночь ассенизатора”, я бы установила “День благодарности хорошим людям”. Это значит: один раз в году хорошие, – настоящие хорошие люди, – получают от всех, кто их уважает и любит, выражение этих добрых чувств. Хоть мне не дана такая власть, я все-таки разрешаю (сама себе!) пожелать доброго Нового года всем тем, кого я горячо почитаю, хотя не все они меня, может быть, и знают».
«Марк Лазаревич! Я – вот такая Ваша почитательница...» Такое письмо получил в канун нового, 1967 года, Герой Советского Союза Марк Галлай, в прошлом летчик, а потом – тонкий и честный писатель; в другом году получил С.С. Смирнов, получали и другие, – это Александра Яковлевна взяла себе за правило устраивать – для себя! – тот самый «День благодарности хорошим людям».
...«Вы знаете, что я не зазнавалась и не воображала, – пишет она друзьям, – но то, что за эти годы я сделала для детской драматургии много, это факт...» И – еще: «Больше половины моего времени уходит на работу с начинающими, – это роскошь для меня, клячи, потому что мне нужно зарабатывать, но от этой роскоши отказаться я не могу, потому что в ней для меня – большая радость...»
Все это писалось ею в 1950 году, а ведь еще не было тогда ее книги о русском театре «Страницы прошлого», не было книг, которые так волнуют юного и взрослого читателя – «Дорога уходит в даль...», «В рассветный час», «Весна», – все это было еще впереди. Еще не было книги воспоминаний «Вечерние огни». Прозаик А.Я. Бруштейн еще только начиналась.
«Не сердись на меня! – пишет она мне в 1959 году. – Я не просто в запарке (кончаю, кончаю книгу!), а в мучительных последних схватках, причем в иные – редкие! – дни мне кажется, что получилось что-то приличное, в другие – очень частые! – что я рожаю не человека, а обезьяну». В следующем, 1960 году: «Начала новую книжечку. Пишу легко, а этого всегда боюсь. Значит, написанное – мусор...» В 1961 году: «Пытаюсь продаваться в журналы... Детгиз при расчете за “Весну” передал мне лишних 7,5 тысяч рублей. Теперь надо возвращать. Поздравляю вас, какая вы хорошенькая...» «Возвращать» – это на языке Александры Яковлевны всегда значило одно: еще и еще работать. И недаром она пишет С.Д. Дрейдену еще в 1940 году, сетуя на то, как несовершенно ее существование: ...«жизнь у меня не стыдная, – трудовая. Когда я была маленькая, то мой отец (хирург) не знал в году ни одного дня отдыха...
Часто бывало так, что он приезжал домой после полуторадневного отсутствия, когда он делал операцию и не отходил от оперированного, пока не проходили острые часы, – тогда он бывал так утомлен, что моя мать нарезала ему еду, – у него дрожали руки от усталости и волнения, и сам он этого сделать не мог. Каждый год в начале лета папа говорил: “Ну, в этом году в день твоего рождения я сделаю себе праздник, – просижу весь день дома, – встану поздно, – мы с тобой пойдем гулять...” И не было ни одного года, когда он мог это выполнить!.. В детстве меня это огорчало. Потом я научилась этим гордиться. Потом стала этому завидовать... Так вот – я очень люблю работать... И если бы судьба спросила меня, чего я хочу от нее всего больше, я бы сказала: “Я хочу, чтобы я не только любила и хотела работать по 10 часов в сутки, но чтобы я имела физическую возможность это делать”. Так вот это – согласитесь, скромное желание – она, сволочь-судьба, не только не исполняет, но даже не спрашивает меня о нем...»
Так что речь идет не о старушке-пенсионерке. Речь идет о писателе – и о писателе талантливом. «... Остановил чтение, чтоб написать эти строки и поздравить Вас с великой удачей,.. – пишет ей Корней Иванович Чуковский о книге “Дорога уходит в даль...” – В умелой, уверенной и темпераментной лепке характеров чувствуется сильная рука драматурга. О кудлатой Саше я не говорю. Это, так сказать, концентрат Вашего обаятельного и человеческого, игривого и изящного, несокрушимого животворного юмора, связанного для всех, знающих Вас, с Вашей личность... Саша в каждом своем проявлении талантлива, горяча, самобытна, и нельзя не верить, что из этой “кудлатки” вырастет, в конце концов, наша неотразимая Александра Бруштейн».
«Настоящие вещи в литературе – это колдовство, – пишет ей Константин Георгиевич Паустовский. – В книге “Дорога уходит в даль...” проза превращается в живую поэзию, – иными словами, достигает совершенства. Есть редкие книги, существующие не как литературное явление, а как явление самой жизни, как факт биографии читателя. Вот так и с этой Вашей книгой. Она вошла в жизнь (в данном случае в мою) как одно из безусловных событий моей жизни. Извините, если я говорю неясно...»
Отчетливо сознаю, что злоупотребляю цитатами, но – что делать! Взять хотя бы письмо к захандрившей в эвакуации приятельнице: «... Каждый день вспоминаю совет моей бабушки, когда я в первый раз собиралась рожать (а было мне неполных восемнадцать, и я этого еще не умела): “Там, что делать, – тужиться или нет, дышать или лечь на бок, – это тебе скажет доктор. А от меня помни одно: как можно дольше не кричать!.. Первый крик, первый стон, – и ты пропала: больше нельзя удержаться! Выбьешься из сил, сама измучаешься и других измучаешь!”...»
Вот так она и жила: как можно дольше не кричала.
Пожалуй, в Александре Яковлевне главное: удивительное мужество, высокая культура человеческих отношений – предельное внимание окружающим, предельное пренебрежение собою. То самое, что звучало еще в дневнике двенадцатилетней девочки, в прелестном дневнике изготавливающегося к жизни подростка: стремление ехать в самые глухие места, помогать там по мере сил, учить, лечить, «посвятить всю свою жизнь на служение ближнему своему. О Боже милосердный, дай исполниться этим золотым мечтам!» Еще до революции Александра Яковлевна – член подпольного комитета помощи политзаключенным, а в Союзе Писателей, членом которого она состоит со дня основания, узнают об этом только в день ее юбилея – и то случайно.
... «Днем и ночью, в течение десяти лет, рискуя своей жизнью и свободой, – так говорил докладчик на юбилейном вечере 1954 года драматург Исидор Шток, – она, к тому времени мать двоих детей, участвовала в подпольной организации. И ни слова об этом нигде!.. И в Гражданскую войну, когда “голова кружилась от голода” (это уже – слова самой Александры Яковлевны), она – “боец культурной бригады” (добавим: фронтовой бригады), и время это запоминается ею, как “замечательное время – и, вероятно, лучшее в жизни”»... И в Отечественную войну, на этот раз в эвакуации, в Новосибирске, сетует лишь на то, что она в тылу, – «во время войны нет большего несчастья», – и просит работы – как можно больше: «Есть в Новосибирске такая старушка, – и академик, и герой, ассенизатор, швец и плотник, и журналист, и зверобой, и старый тюзовский работник...» А когда она вернулась из эвакуации в Москву, вслед ей почти сразу же пошло письмо: «После вашего отъезда все как-то распустились, развязали языки, стали еще больше обливать грязью друг друга. Теперь особенно ясно, каким Вы были сдерживающим началом, как облагораживали организацию».
Ее любили. Или боялись. Боялись все меньше, – по мере того как она старела. Любили все больше, – потому что все, что она являла собою всю жизнь, старость лишь подчеркивала, обрамляла драгоценной оправой. Рядом с нею, между прочим, было не страшно старости. И в то же самое время – это утверждение прозвучит чудовищно, но это – правда, как бесконечно была она одинока! Всеми любимая, постоянно окруженная людьми! Судьба нещадно била ее – по самому трепетному в ней, самому беззащитному. ...«Потому что я осталась одна. Потому что я – “доживаю”. И сознание это особенным образом освещает мою жизнь.
В детстве мне подарили книгу “Веселые приключения барона Мюнхгаузена”. На обложке – сам барон, в гусарском мундире и треуголке пирожком, кокетливо посаженной на пудреный – с косичкой – парик, сидел на лошади, и лошадь, нагнув голову, пила воду из ручья. Но – у лошади была только половина туловища: заднюю отрубило опустившимся некстати шлагбаумом. И вода, которую пила лошадь, широко выливалась из оставшейся половины туловища.
Это – моя жизнь сегодня. Смерть Сергея отрубила от меня всю прожитую жизнь, ту, что позади, за плечами, – со всеми воспоминаниями, со всеми событиями. И то, что происходит со мною теперь, – все, что я вижу, чувствую, думаю, делаю, пишу, – вливается в сохранившийся обрубок жизни – и тут же выливается. В никуда. В ни во что».
Помню ее рассказы о первой встрече с Сергеем Александровичем, о его сватовстве – об этом она вспоминала охотно. Он считался женихом завидным, ему сватали самых достойных невест, он же только посмеивался: «Что вы! Мне ехать в земство, сидеть в глуши, я же с нею, с этой, умру от скуки...» А однажды в пригороде дождь загнал его на веранду какой-то дачи. «Встретил девочку – удивительную, – рассказывал он позднее. – С этой – не заскучаешь...» И через какое-то время старомодно и церемонно просил руки этой девочки, не у нее самой даже – у ее отца, своего коллеги, виленского врача Якова Выгодского. В архиве лежат изящные билеты на двух языках: французском и русском: «... просят вас на бракосочетание Александры Яковлевны Выгодской...»
А потом стал медленно погибать ее сын – Михаил Сергеевич, – помощь которому она считала единственной оставшейся ей в жизни задачей. Когда-то Александра Яковлевна переписала в свой дневник письмо, полученное от него в одну из трудных минут, в эвакуационной перемученности: «... Как радостно сознавать, что имеешь такую умную, честную кристально-чистую маму»... «В упоении от Мишкиного письма легла на свою кровать и, как всегда, почувствовала прилив желания роскошно работать, много сделать, чудно писать и т.п.» Когда сын погибал, Александра Яковлевна словно в душевное подполье ушла, молчала, не жаловалась, не делилась этим своим ужасом перед неизбежным. После его кончины друзья радовались, что она была все та же. Все, что было в ней волевого, ушло в работу. Она считала своим долгом помогать семье погибшего сына – его вдове, его сыну. Не ее утешали и поддерживали, – это она – поддерживала и утешала. Когда-то, по неизмеримо меньшему поводу, она писала: «Я не плачу, – этому люди моего поколения не обучены...» Она и не плакала. Просто – то самое, что было содержанием всей ее жизни – чувство долга, – теперь заполнило ее всю, не доставляя прежней радости и невольно ожидая – ответа.
Александра Яковлевна не случайно вспоминала, что муж,
умирая, жалел прежде всего ее: «Тебе будет очень трудно...» Вот кто знал
эту глубоко запрятанную в ее душе потребность в ответной любви, в открытой
и щедрой ласке.Я любила ее с годами не меньше, нет, – я, может быть, даже
слишком любила. И не могла все то, что делала Александра Яковлевна, и
то, как она жила, наблюдать спокойно.
Помню, как в Переделкине, в писательском Доме творчества, я опять застала
ее за толстой чужой рукописью, на этот раз она взяла ее не на рецензию,
а для бескорыстной дружеской помощи. Позже я узнала: автора она просила
при этом «Только не говори Любе». Боялась меня? Нет, конечно. Не хотела
огорчать? Все равно: помогать другим – это она еще могла, во всяком случае,
считала своим долгом, – всякое же страстное, заинтересованное вмешательство
в ее жизнь было ей уже не под силу!
Но раньше был ее 80-летний юбилей. За несколько дней до него мы с А.Я. Рейжевским отбирали материал для юбилейной выставки. На прощанье Александра Яковлевна надписала каждому из нас только что вышедший однотомник «Дорога уходит в даль...»
«Любочка! – писала она мне, – ... я люблю тебя, Люба!.. И если можно в таком состоянии что-либо писать, кроме “В смерти моей прошу никого не винить”, – то я пишу тебе: “Я люблю тебя, Люба!” Твоя А. Бруштейн. 5.X.64 г. Москва». Вот так. Вроде ордена. Памятное – навсегда.
На юбилейном вечере большой зал Дома литераторов не вмещал желающих присутствовать; мы с Фридочкой Вигдоровой сидели на одном стуле. Фрида потом напишет Александре Яковлевне: «Никогда не видела зала, который был так полон любовью. Зал, готовый взорваться от любви. А мне от любви к Вам все время хотелось плакать...» Тогда на вечере Александра Яковлевна будет растерянной, взволнованной, не знающей, кому и подставлять свою коробочку, и беспомощно поводящей ею в воздухе. То ли плачущей, то ли смеющейся – издали, из зрительного зала, не разберешь. А зал веселился, хохотал, аплодировал. То приветствовали юбиляршу Николай Черкасов и Борис Чирков, специально ради этого приехавшие из разных мест, – сейчас они были Дон Кихотом и Санчо Пансой, – то в обычной своей шутливой форме обращался к Александре Яковлевне Леонид Утесов, то взывал к ее точным нравственным меркам Сергей Образцов. То раздавался записанный на пленку голос Корнея Чуковского: «Вы старая-престарая старуха...», то, словно полемизируя с Чуковским, звучали стихи Самуила Маршака – стихи десятилетней давности, написанные еще к прошлому юбилею:
| Пусть юбилярша, А.Я. Бруштейн, Намного старше, Чем Шток и Штейн, Пускай Погодин В сынки ей годен, А Корнейчук Почти что внук... Однако все же, – Как у Жорж Занд, – Что год – моложе Ее талант... |
Таких веселых юбилеев в Доме литераторов, кажется, и не было. И будут приветствовать юбиляршу и артисты цыганского театра «Ромэн», и артисты цирка (она и о цирке умудрилась что-то писать!), и выкрикивать слова театрализованного приветствия артисты Московского Центрального детского театра и Ленинградского ТЮЗа... Александра Яковлевна, верная себе, будет потом благодарить директора Дома литераторов Б.М. Филиппова и каждого сотрудника поименно, только им приписывая успех вечера, – «если он не превратился в Ходынку, к чему имел все основания, ибо в зал, вмещающий 700 человек, явилось свыше полутора тысяч, если, несмотря на такое чудовищное переполнение, вечер все-таки прошел блестяще по организованности и порядку, и все чувствовали себя уютно и хорошо... и юбилей мой, к большому моему счастью, не был похож на юбилей, и еще меньше – на гражданскую панихиду, он был веселый и молодой... Это говорит о таком высоком качестве работы нашего клуба... Теперь отдыхайте, – так закончит она свое благодарственное письмо, – пока мне не исполнится 90 лет, я вас больше беспокоить не буду, честное слово!..»
А через несколько лет мы стояли на Новодевичьем кладбище, среди высоких сугробов – друзья, пришедшие на открытие памятника над ее могилой, – мы плакали, слушая магнитофонную запись той ее юбилейной, ее заключительной речи. Плакали – потому что ни одна самая лучшая фотография, ни один портрет не передает того, что пробуждает в памяти голос – голос, который забывается скорее и раньше всего, но и к человеческой памяти обращается всего вернее.
«... Когда сегодня здесь говорили, я все думала – о ком это они говорят? В чем дело? Кто это? Какая замечательная старушка! Умная, талантливая, чудесный характер... И чего-чего только в этой старушке нет. Я слушала с интересом... Товарищи! Я, конечно, трудяга, я много работала, мне дано было много лет... Но сделанного мною могло быть больше и могло быть сделано лучше. Это факт, это я знаю совершенно точно... Смешно, когда человек в 80 лет говорит, что в будущем он исправится. А мне не смешно. Я думаю, что будущее есть у каждого человека, пока он живет и пока он хочет что-то сделать... Я сейчас всем друзьям и товарищам, которые находятся в зале и которых здесь нет, даю торжественное обещание: пока я жива, пока я дышу, пока у меня варит голова, пока не остыло сердце, – одним словом, пока во мне старится “квартира”, а не “жилец”, – до самого последнего дня, последнего вздоха...»
А вот из повести А.Я. Бруштейн «Дорога уходит в даль...» – воспоминания о собственном ее детстве:
« – Папа, – говорю я тихонько, – какой дом, Юзефа говорит,
у тебя будет... в три аршина?
– Да ну, – отмахивается папа. – Юзефины сказки!..
– Как же мы все там поместимся?
– Нет... – неохотно роняет папа. – Я там буду один.
– А мы?
– Вы будете приходить ко мне в гости. Вот ты придешь к этому домику и
скажешь тихонько – можно даже не вслух, а мысленно: папа, это я, твоя
дочка Пуговица... Я живу честно, никого не обижаю, работаю, хорошие люди
меня уважают... И все. Подумаешь так – и пойдешь себе...»
Ох, как «кутят» в этот день труженик-отец, даже не заметивший в вечной своей работе, что в центре города есть такой замечательный сквер. Они никуда не торопятся, отец и дочь, сидят в сквере, поедают бублики и мороженое «крем-брюля». Говорят о разных разностях. ...«Папа обнимает меня, я крепко прижимаюсь к нему. Вероятно, это одна из тех минут, когда мы особенно ясно чувствуем, как сильно любим друг друга...»
Но именно здесь, в этом месте, писательница А.Я. Бруштейн внезапно прервет свое повествование.
«Папа мой, папа!.. Через пятьдесят лет после этого вечера, когда мы с тобой “кутили”, тебя, 85-летнего старика, расстреляли фашисты, занявшие город. Ты не получил даже того трехаршинного домика, который тебе сулила Юзефа, и я не знаю, где тебя схоронили. Мне некуда прийти сказать тебе, что я живу честно, никого не обижаю, что я тружусь и хорошие люди меня уважают... Я говорю тебе это здесь».
Вот и все. Помолчим немного. Подумаем о том, как это просто, в сущности: живу честно. Тружусь. Хорошие люди меня уважают... Вот так они уходят от нас, наши старики, бесстрашно, бестрепетно делая последние свои шаги в неизвестность. Унося с собой, как секреты редчайшего мастерства, опыт истового труженичества, безукоризненной порядочности, высокой культуры. Как удержать все это, как сохранить?..
Источник: http://community.livejournal.com/chtoby_pomnili/296310.html#cutid1
Нини Ахиноам
Ахиноам Нини, известная также под псевдонимом Ноа, согласно решению отборочной комиссии представляет Израиль в мае этого года на конкурсе "Евровидение" в Москве, который смотрят в прямом эфире порядка 100 млн человек. Нини обладает неоднозначной репутацией на родине - активист движения за мир, она записывает песни совместно с арабскими музыкантами и отказывается выступать на оккупированном Западном берегу реки Иордан. На этот раз она предложила исполнить песню на конкурсе вместе с арабской певицей Мирой Авад. Комиссии понравилась эта идея, сообщает журналист The International Herald Tribune Этан Броннер, однако на этот раз она подверглась критике слева.

По мнению израильских левых партий и многих арабских граждан страны, подобное выступление "приукрасит" ситуацию. Была распространена петиция с требованием отозвать дуэт, поскольку он даёт ложное представление о мирном сосуществовании евреев и арабов, что "позволит израильской армии сбросить... дополнительные тонны взрывчатки и фосфорных бомб". Сами Нини и Авад, считающие себя борцами за мир, были немного удивлены, отмечает Броннер. По их словам, к сожалению, антивоенное движение все чаще склоняется к апологетике организации "Хамас". Наряду с политическим креном израильского общества вправо, который показали последние выборы, это говорит о тревожной радикализации.
Сами музыканты, осуждаемые теперь и слева, и справа, чувствуют себя "сиротами" по отношению к стране, которую они представляют на "Евровидении". Мира Авад, арабская христианка, дочь болгарки и арабского врача, заявила изданию, что не хотела бы видеть независимую Палестину экстремистским религиозным государством". Она, поясняет автор статьи, одна из полумиллиона израильских граждан арабского происхождения; порядка четырех миллионов арабов в Секторе Газа и на Западном берегу не имеют никакого гражданства.
Как заявили изданию обе певицы, они не намерены отступать от намеченного. Треть песни исполняется на иврите, треть - на арабском и треть - на английском языке. По мнению Авад и Нини, музыка - это та "лепта", которую они могут внести. Своей дружбой и сотрудничеством они надеются показать пример того, как должно выглядеть мирное сосуществование. Уже известно, что израильско-арабский дуэт успешно прошёл отборочный этап и вышел в финал состязания. При этом Нини приехала на побывку домой (соскучилась по детям, как она объяснила журналистам), а Авад предпочла остаться в Москве.
Источник: Inopressa
Беверли Силс

Силс — одна из крупнейших певиц XX века, «первая леди американской оперы». Обозреватель журнала «Нью Йоркер» с необычайным воодушевлением писал: «Если бы я рекомендовал туристам достопримечательности Нью Йорка, я бы поставил Беверли Силс в партии Манон на самом первом месте, значительно выше статуи Свободы и Эмпайр стейт билдинг». Голос Силс отличала необыкновенная легкость, а вместе с тем покоряющее слушателей обаяние, сценический талант и очаровательная внешность. Описывая ее внешность, критик нашел такие слова: «У нее карие глаза, славянский овал лица, вздернутый нос, полные губы, прекрасный цвет кожи и очаровательная улыбка. Но главное в ее внешности — тонкая талия, что является большим преимуществом для оперной актрисы. Все это, вместе с огненно рыжими волосами, делает Силс очаровательной. Короче говоря, по оперным стандартам она красавица». В «славянском овале» нет ничего удивительного: мать будущей певицы — русская.

Беверли Силс (настоящее имя Белла Силвермен) родилась 25 мая 1929 года в Нью Йорке, в семье эмигрантов. Отец приехал в США из Румынии, а мать — из России. Под влиянием матери и формировались музыкальные вкусы Беверли. «У моей матери, — вспоминает Силс, — была коллекция грампластинок с записями Амелиты Галли Курчи, знаменитого сопрано 1920 х годов. Двадцать две арии. Каждое утро мать заводила граммофон, ставила пластинку и потом уже шла готовить завтрак. И к семи годам я знала наизусть все 22 арии, я выросла на этих ариях так же, как теперь дети вырастают на телевизионных рекламах». Не ограничиваясь домашним музицированием, Белла регулярно участвовала в детских радиопрограммах. В 1936 году мать привезла девочку в студию Эстелл Либлинг, концертмейстера Галли Курчи. С тех пор в течение тридцати пяти лет Либлинг и Силс не расставались.
 |
 |
Поначалу солидный педагог Либлинг не особенно хотела заниматься подготовкой колоратурного сопрано в столь раннем возрасте. Однако, услышав, как девочка спела… рекламу о мыльном порошке, она согласилась приступить к занятиям. Дело шло в головокружительном темпе. К тринадцати годам ученица подготовила 50 оперных партий! «Эстелл Либлинг меня просто ими нашпиговала», — вспоминает артистка. Можно только удивляться, как у нее сохранился голос. Она вообще готова была петь где угодно и сколько угодно. Беверли выступала в радиопрограмме «Поиски талантов», в дамском клубе в фешенебельной гостинице «Уолдорф Астория», в ночном клубе в Нью Йорке, в мюзиклах и опереттах различных трупп. После окончания школы Силс был предложен ангажемент в передвижном театре. Сначала она пела в опереттах, а в 1947 году дебютировала в Филадельфии в опере с партией Фраскиты в «Кармен» Бизе.
Вместе с передвижными труппами она перебиралась из города в город, исполняя одну партию за другой, успевая каким то чудом пополнять свой репертуар. Позднее она скажет: «Мне хотелось бы спеть все партии, написанные для сопрано». Ее норма около 60 спектаклей в год — просто фантастика! После десяти лет гастролей по различным городам США певица в 1955 году решила попробовать свои силы в «Нью Йорк сити опера». Но и здесь она не сразу заняла ведущее положение. Долгое время ее знали лишь по опере американского композитора Дугласа Мора «Баллада о Бэби Доу».
Наконец в 1963 году ей доверили партию донны Анны в моцартовском «Дон Жуане» — и не ошиблись. Но окончательной победы пришлось ждать еще три года, до партии Клеопатры в «Юлии Цезаре» Генделя. Тогда всем стало ясно, какой масштабный талант пришел на сцену музыкального театра. «Беверли Силс, — пишет критик, — исполняла сложные фиоритуры Генделя с такой техничностью, с таким безупречным мастерством, с такой теплотой, которые редко встречаются у певиц ее типа. Помимо этого, ее пение отличалось такой гибкостью и выразительностью, что аудитория моментально улавливала любую перемену в настроении героини. Спектакль имел ошеломляющий успех… Главная заслуга принадлежала Силс: заливаясь соловьем, она соблазняла римского диктатора и держала в напряжении весь зрительный зал».

В том же году она имела огромный успех в опере Ж. Массне «Манон». Публика и критика были в восторге, называя ее лучшей Манон со времен Джеральдины Фаррар. В 1969 году прошло дебютное выступление Силс за границей. Знаменитый миланский театр «Ла Скала» специально для американской певицы возобновил постановку оперы Россини «Осада Коринфа». В этом спектакле Беверли пела партию Памиры. Далее Силс выступала на сценах театров Неаполя, Лондона, Западного Берлина, Буэнос Айреса. Триумфы в лучших театрах мира не остановили кропотливой работы певицы, цель которой — «все сопрановые партии». Их действительно чрезвычайно много — свыше восьмидесяти. Силс, в частности, с успехом пела Лючию в опере Доницетти «Лючия ди Ламмермур», Эльвиру в «Пуританах» Беллини, Розину в «Севильском цирюльнике» Россини, Шемаханскую царицу в «Золотом петушке» Римского Корсакова, Виолетту в «Травиате» Верди, Дафну в опере Р. Штрауса.
Артистка, обладающая поразительной интуицией, вместе с тем и вдумчивый аналитик. «Вначале я изучаю либретто, работаю над ним со всех сторон, — говорит певица. — Если, например, мне попадается итальянское слово с несколько иным, чем в словаре, значением, я начинаю докапываться до его подлинного смысла, а в либретто часто встречаешься с такими вещами… Я не хочу просто щеголять своей вокальной техникой. В первую очередь меня интересует сам образ… Я прибегаю к украшениям лишь после того, как получаю полное представление о роли. Я никогда не использую орнаментики, которая не соответствует персонажу. Все мои украшения в „Лючии“, например, способствуют драматизации образа». И при всем том Силс считает себя эмоциональной, а не интеллектуальной певицей: «Я старалась руководствоваться желанием публики. Я изо всех сил стремилась угождать ей. Каждый спектакль был для меня каким то критическим анализом. Если я обрела себя в искусстве, то только потому, что научилась управлять своими чувствами». В юбилейный для себя 1979 год Силс приняла решение уйти с оперной сцены. Уже в следующем году она возглавила театр «Нью Йорк сити опера».
Текст Дмитрия Самина.
Источник: http://community.livejournal.com/chtoby_pomnili/293835.html
Дополнительная информация. Настоящее имя оперной дивы Беверли Силс — Белла Мириам Зильберман, она родилась ровно 80 лет назад и выросла в русско-еврейской семье в Бруклине. С детства говорила на русском, идиш, румынском и английском языках и была окружена любовью родителей, не жалевших ничего для образования дочери. В 1932 году очаровательная и не по годам смелая и разговорчивая девчушка завоевала первый приз в соревновании Miss Beautiful Baby. Ей было только три года. Вскоре она уже бойко выступала у радиомикрофона, поражая своими суждениями, смелостью, а также прекрасным голосом. В доме очень любили музыку, звучало радио и было множество пластинок с записями опер и мюзиклов. Все это сразу же становилось частью ее "репертуара", все она пела по памяти. Прошло не так много времени, и она стала звездой Сити-оперы и любимицей всей Америки.
Ее приглашали и в театры Европы, и на телевидение. Вот только на сцене Метрополитэн-оперы она появилась позже (всемогущий менеджер Рудольф Бинг старался держать ее подальше от своей сцены, считая, что в Сити-опере работают второсортные певцы и что негоже царственной Метрополитэн приглашать их к себе). По этой причине дебют Беверли Силс в Метрополитэн-опере состоялся только в 1975 году. Но какой дебют! В опере Россини "Осада Коринфа" ее выступление вызвало овацию, которая длилась 18 минут. В течение пяти лет Беверли Силс выступила на этой сцене более ста раз. Она перепела все белькантовые партии, включая Лючию ди Ламмермур и Норму, выступала на подмостках «Ла Скала» и «Ковент Гардена», Венской Штаатс-Опер и Метрополитэн, но что-то неуловимо провинциальное помешало ей встать вровень с Джоан Сазерленд и Монсеррат Кабалье. В 1980 году она закончила свою певческую карьеру, но четыре года спустя вернулась в родную Сити-оперу в качестве директора.
Десять лет она пробыла в этой должности, ловко ведя труппу сквозь многочисленные финансовые трудности. В 1994 году она возглавила Линкольн-центр, и на этом посту сумела привлечь в его кассу около 75 млн долларов от спонсоров - как корпоративных, так и частных. Одним из них был тогда еще не мэр Нью-Йорка, но основатель информационной империи и один из богатейших людей города Майкл Блумберг. Г-жа Силс вспоминает, как привела его в оперу и в течение спектакля должна была толкать его в бок, чтобы он не заснул. Она оставила работу в правлении Линкольн-центра в середине 2002 года, но отдыхала недолго, вернувшись уже в качестве главы Совета Метрополитэн-оперы. Работа была неоплачиваемая, добровольная, но Метрополитэн переживала сложное время, и ей нужны были имя и энтузиазм Беверли. Усилиями Силс и ее помощников удалось найти новых спонсоров и сохранить уникальную программу, воспитавшую миллионы любителей музыки. Скончалась Беверли Силс 2 июля 2007 года от рака легких.
Луиза Гельц

К сожалению, я ничего не нашёл об этой девушке в интернете.
Она очень скромна, и даже в своём блоге пишет о себе лишь три слова:
художник, дизайнер, флорист.
О мастерском владении фотоаппаратом она даже не упоминает.
Но снимки, которые она разместила там же, говорят сами за себя:
взгляните, и, возможно, то, что Луиза пишет под своими фотоработами,
приподнимет завесу тайны: кто же эта прекрасная незнакомка?..
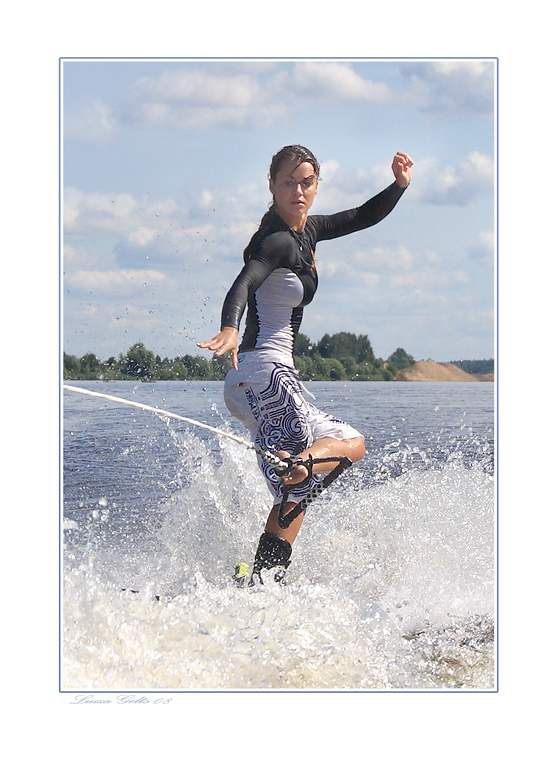
Почти Афродита

Дотянуться до небес

В цвете неба

Этюд с грушами

Лиловый вечер

Желание

Красный и спелый

Василиса краса, дивные глаза
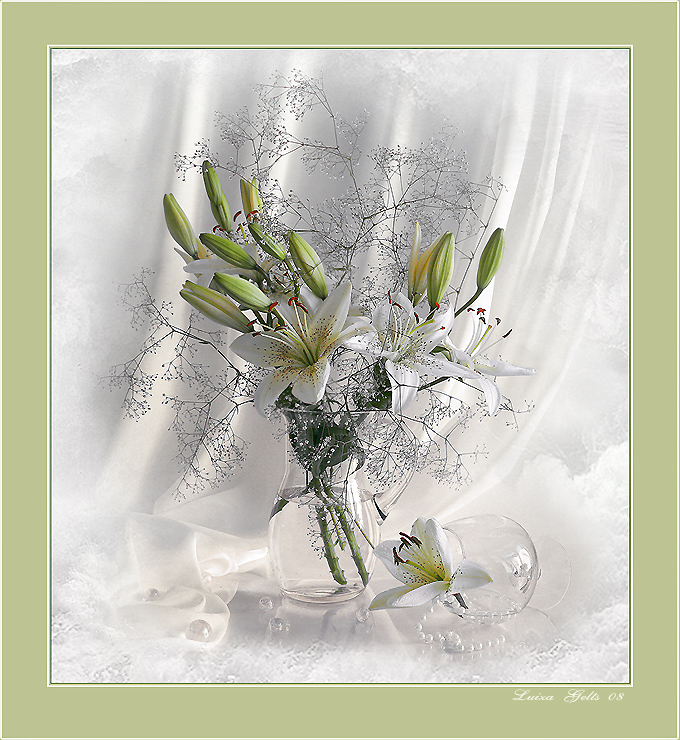
Отверженная

Краски осени
Маргарита Володина

Родилась 26 января 1938 года в Ленинграде. Мама - полька. Отца своего видела один раз в жизни. В 1941 году, поехав с домработницей Шурой в деревню, оказались на оккупированной территории. Маленькая Маргарита долго находилась среди чужих людей - родственников Шуры, ничего не зная о маме. В школе училась хорошо и по окончании поступила в ЛГИК без третьего тура. И почти сразу сдала экзамены выездной комиссии из Школы-студии при МХАТ. Остановила выбор на последнем. Училась отлично, получала стипендию имени Хмелева, которой лишилась из-за съемок в кино. В 1959 году окончила Школу-студию им.В.Немировича-Данченко при МХАТ, курс В.К.Монюкова. В 1959-1961 гг. — актриса Московского театра "Современник",затем Центрального Театра Советской Армии; С 1961 года — актриса Театра-студии киноактера. В 1963 ездила в Канны с фильмом "Оптимистическая трагедия", который получил получил спецприз. Хотя не обошлось без казусов. Когда она вышла из зала счастливая (фильм принимали хорошо), председатель Госкино Баскаков, увидев ее, грубо бросил: «За женскую роль нам премия не нужна». Но, несмотря на закулисную возню, Канны прибавили звездности Володиной. Картина про красивого комиссара, убиенного врагами революции, кочевала с фестиваля на фестиваль как высокохудожественный образец советской идеологии – в США, Австралии, Новой Зеландии.
13 лет прожила в браке с режиссером Самсоном Самсоновым,
который в этот период снимал ее в своих фильмах. В браке родилась дочь
Маша.
У Володиной было еще два брака. Со вторым мужем прожила пять лет, а потом
выяснилось, что он занимался финансовыми аферами и прикрывался ее громким
именем. В конце концов он угодил в тюрьму. Последний брак - врач Михаил
Крутиков, намного младше ее. Отношения длились год, умер на квартире Маргариты
после очередного инфаркта. Оставшись одна (дочь в 1989г. эмигрировала
во Францию), Володина тоже решает уехать. Мать отказалась покидать Москву
,и вскоре после отъезда дочери умерла. Сейчас Маргарита Володина живет
в Париже в маленькой квартирке, помогает по хозяйству внучке и дочке.
Часто общается с семьей актера Льва Круглого.
Автор книги "Исповедь актрисы"
Народная артистка РСФСР (1973).
Источник: http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/sov/848/bio/
Вот ещё один материал о звезде советского кино Маргарите Володиной:
В издательстве `Новое литературное обозрение` выходит книга Маргариты Володиной `Исповедь актрисы`. Это воспоминания `звезды` советского кино 60-х годов, прославившейся ролями в фильмах `Огненные версты`, `Оптимистическая трагедия`, `Три сестры`, `Каждый вечер в одиннадцать`, `Арена`. Сейчас Маргарита Владимировна живет в Париже. Предлагаем читателям `Труда` фрагмент, посвященный участию актрисы в знаменитом фильме `Оптимистическая трагедия` режиссера Самсона Самсонова (в то время мужа Володиной) и связанным с ним последующим событиям. ...Самсонов пришел домой с известием, что будет снимать фильм по пьесе Всеволода Вишневского `Оптимистическая трагедия`. Тогда была жива супруга Вишневского. Мы появились в ее доме. Она пытливо рассматривала меня и не находила того, что позволило бы мне играть комиссара. Она говорила, что да, Маргарита очень мила, но при чем тут комиссар? `Самсонов, - произносила она, - вы слишком ослеплены вашей женой...`
И все же кинопробы состоялись. Вишневская потрясена. Говорила, что подобной магии не ожидала. На художественном совете она защищала меня и благодаря этому я была утверждена на роль. Предстояли съемки в Севастополе, на настоящем старинном крейсере. Вячеслав Тихонов играл Алексея. Он убедителен, хорош собою, иногда нервничает, срывается, но очень быстро отходит. С большим доверием он слушал режиссера и между ними было взаимопонимание. Прекрасно работал Борис Андреев, его вожак - ярок и понятен. В паузах Андреев сидел где-нибудь в сторонке и пристально наблюдал за всеми. Всеволод Санаев - Сиплый. Мне представляется, что это его самая точная работа. Сиплого Санаев делал удивительно легко. По вечерам на большой палубе показывали матросам фильмы. Часто они не были довольны и жаловались мне. Почему мне? `Ну а почему нет, - говорили они, - ты наш комиссар. Пойди к боссу и скажи, что крутят каждый вечер одно и то же`. И я шла к их начальнику и просила привезти новые фильмы. Картины привозились, и мой комиссарский престиж не был попран.
Снимали и на суше, у Днепра. Все расселились по домам станицы. В групповых сценах было занято много молодых актеров, и девушки станицы стали наряднее и игривее. Нужна была еще и большая массовка. Ее организовали военные, и служба у этих бедняг была нелегкой. В страшной жаре, в раскаленных песках, в зное и горячем ветре работать было непросто. Часто солдаты, переодетые в черные бушлаты, измученные повторами маршей, саботировали, и, как ни странно, на подвиг поднимала их я. Они слушались меня, понимая, насколько я сама измучена - в черной кожанке, сапогах, гриме. Солдаты лениво, тяжело вставали и в своих бушлатах, с винтовками снова шли в бой. Для всех нас съемки эти были адом, и только к концу дня, когда темнело, мы, сбросив с себя всю сбрую, плюхались в Днепр, остужая свои пылающие тела. Потом снова надо было продвигаться к морю. У моря, в камнях, снимали смерть комиссара. В этой сцене пришлось поднатужиться Тихонову. Он должен был меня, увесистую, нести на руках, вносить в кадр, стоять со мною какое-то время и потом мягко положить на камень. С этой непростой задачей мой партнер справился, хотя и ворчал потихоньку.
Позже Нонна Мордюкова, выяснив, что у меня с ее Тихоновым не было никакого романа, рассказывала мне, как она смотрела `Оптимистическую`. Говорила, что рядом с ней сидели артистки из Театра киноактера. В момент демонстрации они шипели и злобствовали. Но вот фильм заканчивается, идет панорама. На экране - тело комиссара, на ее лице последняя выкатившаяся и застывшая слеза. Разливается печальный хорал, и... злобствующие актрисы захлюпали, засморкались. Ну что же, значит, сумели мы проникнуть в их души, значит, еще не все их человеческие струны лопнули, и, значит, не так уж плохо снят фильм.
 |
 |
Журналом `Советский экран` проведен конкурс на звание лучшей актрисы года. Оторвавшись от других на сотни голосов, я выхожу на первое место. Но редакция журнала вызывает меня на какой-то диспут, и там какие-то люди ставят под сомнение мою победу. Кто-то из них говорит: `И тем не менее вы, Володина, очевидно, получите первый приз`. Они внушали мне, что голос народа - это еще не истина, что народ-де не разбирается в том, что хорошо, а что плохо. Мы с Самсоновым уже познали удар хлыста критиков. Не раз они били нас с удовольствием и изощренностью. Все наши работы ими обруганы: нас травили. Эти эксцессы не были для меня новостью, но все же такая гадость в редакции `Советского экрана` меня шокировала. Вскоре журнал опубликовал итоги конкурса и беспардонную подборку наших противников. Но фильм продолжал идти по экранам страны и давал (не нам, конечно) большие доходы. Письмами ко мне завалены `Мосфильм`, Комитет кино, и по улицам мне уже невозможно пройти спокойно. Я буду лицемерить, если не признаюсь в удовлетворенном тщеславии, тем более что признание людей было единственной, самой ощутимой и важной для нас похвалой. Вызывают в Комитет кино и сообщают, что представителем из Франции наш фильм выбран для фестиваля в Каннах. Мы - на гребне удачи.
Но как же я поеду во Францию, где рядом будут `звезды` мирового кино, если мой гардероб далеко не блещет? Я так скромно одевалась из-за недостатка средств и абсолютной невозможности приобрести что-то пооригинальнее у спекулянтов, а модные актрисы судачили о моем плохом вкусе. Что же мне делать? Опустив голову, шевелю ногами в сторону пошивочного цеха `Мосфильма`. О, счастье! У большого раскроечного стола стоят две художницы по костюмам. Поняв меня, они берутся за дело. Но ведь эти вычурные наряды я потом носить не смогу, а заплатить за них обязана дорого. Да, я не хотела бедностью своею подрывать авторитет моей страны, но страна мне не помогала. Подумав, я согласилась только на два платья - для премьеры и на маленькое, вечернее. Платья сшиты. Для основного вечера премьеры - туника. Она длинная, из розового шифона, и для нее - накидка-пальто из блестящего, перламутрового шелка. Но туфли? Где же я смогу купить подходящую обувь? Устав от бесполезных поисков, я опустила руки. Нашлись добрые души: актриса Татьяна Конюхова предложила туфли из золотистой парчи. Людмила Шагалова давала советы насчет того, какие драгоценности были в моде. Я же, сообразив, что о драгоценностях не может быть и речи, выбросила это из головы, но приобрела все же довольно доступное янтарное ожерелье. Как Золушка, комплексуя и нервничая, я отправилась на бал.
Самсонов, Монахов, Санаев и Баскаков из Комитета кино
- вот наша делегация.
Франция. Ярко, празднично, звонко и заманчиво вокруг. Мы - в отеле, где
разместились все участники фестиваля. Но зачем же я так нервничала? Ни
вычурных нарядов, ни редких драгоценностей ни на ком не было. В душе я
зауважала этих богачей. Но вот день премьеры. Из большого чемодана, из
газет, чтоб не измялась, извлекаю свою тунику, вешаю на плечики, туда
же накидку, под платье ставлю туфельки, и - небо в алмазах. Интересно,
как примут фильм...
Стемнело, я оделась. Мужчины наши - в черных костюмах, белых рубашках и при `бабочках`. В зале нас поджидает посол с супругой и какие-то неулыбчивые люди в черных очках. Посол и его супруга приветливы. В очень большом зале, с балконами и ярусами, гаснет свет, и фильм начинается. Я сидела скованно, прислушиваясь к забитому до отказа залу. Было тихо, никто не вставал, не уходил до конца. Когда же фильм закончился и постепенно растекся яркий свет, грянули аплодисменты. Мы стояли на балконе, и лица всех аплодирующих были обращены к нам. На выходе надо было спускаться по очень широкой, укрытой красным ковром лестнице. Мы спускались при восторженных взглядах, приветствиях, мерцании блицев. Позже Баскаков скажет, что подобного успеха в Каннах никогда не было.
До нас в Каннах побывала Татьяна Самойлова. Я хорошо
помню, как до ее поездки на фестиваль в Доме кино обругивали и картину
`Летят журавли`, и Таню. Когда же из Канн актриса привезла `Золотую пальмовую
ветвь`, те же люди и на той же сцене пели ей дифирамбы.
В жюри фестиваля работал кинокритик Ростислав Юренев. Я слышала своими
ушами тихое сообщение Юренева о том, что, по всей видимости, главный приз
за роль дадут русской актрисе, то есть мне. Это было высказано Баскакову
в моем присутствии и присутствии Самсонова. Теми же ушами я услышала,
как Баскаков ответил: `А нам не нужен приз для актрисы, надо отметить
весь фильм`.
`Вы, - прогремел он, заикаясь от гнева, - вы здесь не
для загораний на пляже. Работайте!` Это было произнесено так, что бедняга
Юренев заморгал, на его лице появилось отражение вины, и он поплелся в
отель с пляжным полотенцем на плече. Насколько же нашим людям была внушена
манера подчинения и самоуничижения... Дело в том, что однажды я тоже была
членом жюри в Болгарии и знаю, что любое решение можно снивелировать,
договорившись с членами жюри о `более удобном` распределении призов. И
вот моя `Золотая ветвь` махнула мне крылом. Фильм получил специальный
приз `За лучшее воплощение революционной эпопеи`. По сути, Баскаков, будучи
высокопоставленным кинематографическим чиновником, был довольно объективным
и доброжелательным человеком. Не раз он поддерживал и меня, и Самсонова,
но что с ним произошло в Каннах, для меня осталось загадкой...
Источник: Труд-7 No171 за 15.09.2005
ИНТЕРВЬЮ
Многие уверены, что ее давно нет в живых. Так внезапно она исчезла с горизонта отечественного кино, даже не оставив линии падения. А ведь Маргарита Володина – звезда советского кинематографа 60-х – того самого периода, когда кино в жизни людей было, точно по Ленину, важнейшим из искусств. Звезда советского кино – это было все. На самом деле Володина – легендарная женщина-комиссар из картины «Оптимистическая трагедия» – больше десяти лет живет в Париже. С журналистами не общается, да и, по правде сказать, они не ищут с ней встречи – просто не знают о том, что она есть, что живет на Монмартре и что зовут ее просто мадам Маргарита, которая забыла или почти забыла свое звездное прошлое. Мы разыскали Маргариту Володину в Париже и взяли у нее эксклюзивное интервью.

Мы сидим в маленьком угловом кафе туристического района
Парижа.
У Володиной такой домашний, простой вид, и она заботливо предлагает мне
поесть. Никакого напряжения, спокойна, так что без стеснения могу ее рассмотреть:
глаза те же, что и на открытках сорокалетней давности, – небольшие, с
темно-голубой поволокой, точь-в-точь как у Марлен Дитрих, только не так
глубоко посажены.
– Даже не знаю, почему я согласилась с вами встретиться.
Но вы так настойчиво просили по телефону. Так настойчиво...
А разве это кому-то может быть интересно?
Я вижу, что эта женщина уже из другой жизни – никакого
налета артистизма, богемности, звездного прошлого. Как будто только что
она вышла из автобуса или отдала ребенка, которого нянчила. А я с упорством
заворачиваю ее на тот мост, который соединяет настоящее с прошлым.
Маргарита Володина – ленинградка, училась в Школе-студии МХАТ, жила в
общежитии. Студенческие годы вспоминает как самые счастливые в своей жизни.
Ее тоже помнят здесь как первую красавицу, с закрытым, но покладистым
характером. «Красавица, но не стерва», – говорят бывшие сокурсники. Ничего
удивительного, что артистка с точеным, как будто фарфоровым лицом достаточно
рано попала в кино. Во время студенческих каникул она снялась у режиссера
Самсона Самсонова, за что благополучно лишилась стипендии имени Хмелева:
такие суровые законы были в альма-матер Художественного театра.
– С меня сняли стипендию, но ничего.
Институтские годы – самые прекрасные годы в моей жизни. Больше такого
счастливого времени не было.
Денежным штрафом дело не ограничилось: после окончания Володину не взяли
во МХАТ. Виной тому – мужчина, режиссер – все тот же Самсон Самсонов.
Их отношения развивались согласно неписаным законам искусства – режиссер
взял студентку, зажег звезду, да и женился на ней. Милый хэппи-энд был
осложнен лишь моральным фактором: Самсонов имел семью, его жена работала
косметологом. Он же ушел к молоденькой актрисе, не смущаясь разницы в
двенадцать лет, которая ей, двадцатилетней, казалась пропастью.
Она уверяет меня, отпивая маленькими глоточками кофе, что не брала греха на душу и не уводила мужчину из семьи.
– Ну послушайте, если бы у него была хорошая жизнь с той семьей, разве бы он ушел?
Она смотрит удивленно и растерянно одновременно, как будто это только вчера произошло. А я думаю – каким чудовищным был плен времени, в который попало не одно поколение россиян. В 2003 году трудно поверить, что артиста из-за развода могут не взять в театр. Но однокурсники Володиной, которых я нашла в Москве, подтвердили, что «мимо МХАТа она пролетела по аморалке» – гордость российского театра избегал подобных пятен на своем фасаде.
– Мне все говорили, все: какая же ты глупая, выбирай – или театр, или твой Самсонов. Но я тогда была пылкая и его любила. Мне казалось, что он такой талантливый и такой беспомощный по-человечески, что его нужно защищать. И вот я его защищала.
Впрочем, поначалу именно Самсонов стоял на защите ее
артистической карьеры. Каким бы слабым или сильным он ни казался, Самсонов
сделал из Володиной звезду. Ее портфолио открылось картинами, которыми
гордится отечественный кинематограф: «Огненные версты», «Арена», «Каждый
вечер в одиннадцать». И конечно же – «Оптимистическая трагедия».
Снимали на Украине – в песках, на реке и на море.
– В павильоне была снята за все лето только одна центральная
сцена: когда комиссар в комнате рассуждает о том, почему надо идти в бой,
– рассказывает моя визави.
– Я стояла в центре, вокруг меня передвигалась камера, а я произносила
текст. Но съемки на самом деле были очень тяжелые. Представьте: куртка
кожаная, под ней гимнастерка, сапоги, а раз сапоги – значит, чулки, а
раз чулки (колготок тогда не было), значит, все, что к ним прилагается...
Да еще грим! Жарища была – прикоснуться к песку невозможно. Жили на крейсере.
Кормили нас прекрасно, вкусно. Моряки, которые у нас снимались, почему-то
меня называли «товарищ комиссар». Так и обращались: «Товарищ комиссар,
ты пойди к старшине, попроси...» Или жаловались мне. Ну я и шла, говорила:
что же вы, мол, подрываете боевой авторитет...
– Кого из партнеров помните?
– Андреев – вот это был человек! Знаете, у него своеобразный ум и поступки,
и глубина, он был очень смешной, очень трогательный и меня называл Кузнечиком.
Он говорил: «Я порой смотрю на нее и не знаю, может, она такая и есть?»
То есть комиссар. Хотя характер у меня совсем не железный, но я очень
удобно себя ощущала в этой роли. И меня никто не раздражал. Даже Олег
Стриженов, а он очень сложный человек.
– А с Вячеславом Тихоновым как работалось? Говорят, что
он как раз очень сложный партнер?
– Вы знаете, может быть, он и сложный человек, но партнер – тактичный.
Несчастный Тихонов – в финале ему пришлось меня таскать на руках! А я
тогда после родов была очень тяжелой. И вот он меня тащит и приговаривает:
«Сколько же еще дублей будем снимать?» Правда, на экране ничего этого
не видно. Надо отдать должное Самсонову – это был талантливый человек,
но странный.
– А в чем его странность проявлялась?
– Мог оскорбить не по делу. Причем громко. Когда он делал какие-то глупости,
а я пыталась ему что-то посоветовать, он унижал меня. А вообще он был
безвредный, безобидный.
– Он ревновал вас? Все-таки двенадцать лет разницы...
– Ревновал, хотя я не давала никакого повода. Я ему говорила: «Ты не прав,
я ведь даже глаз не подняла. Я видела, что ты рядом, и специально тебе
показывала, что вообще закрыта». – «Да, но ты один раз их подняла, а в
них уже столько было, что этого достаточно». Хотя Тихонов, например, мне
очень нравился. Но, с одной стороны, рядом был муж, который мне ничего
не позволял, с другой стороны, я очень закомплексована. Многим казалось,
что я, наоборот, такая вся – ух! Ничего подобного. Я очень стеснительный
человек.
Почему она уехала? Почему не снималась? Ведь актрисы ее поколения – Кириенко, Гурченко, Ларионова, Мордюкова, Семина – каждая, в меру своей удачливости, продолжали работать. Вопросов так много... Она улыбается.
– Многие считают, как вы, что я исчезла. Вот в 1993 году,
кажется, я выступала на телевидении в программе у Мережко.
И он тоже спрашивал, куда я подевалась. А ведь я жила в Москве, на Старом
Арбате, в актерском доме, и никуда не уезжала. Ну я и ответила ему, что
живу скромно, колбасы своей мамочке, которая лучшей жизни ждала всю жизнь,
не могу купить. На меня потом многие обиделись, решили, что цену себе
набиваю.
– Почему вы оказались здесь, во Франции?
Она так удивлена, как будто я спросила, есть ли на улице воздух.
– Потому что здесь моя дочь. Она раньше меня сюда приехала,
вышла замуж. За француза. Мне уже было нечего терять в Москве. Разве что
любовь публики. Но она же мне ничем помочь не могла.
– А где вы живете в Париже?
– Да здесь, неподалеку. Извините, что не приглашаю. У нас квартирка...
маленькая комнатка, студио. Квартирой ее не назовешь. Совсем крохотная.
– Легко ли вы в Париже адаптировались?
– Знаете, я переезд восприняла как необходимость – надо адаптироваться,
вот и все. Сначала, правда, было не по себе почему-то. А потом появились
заботы, надо было заниматься внучкой, помогать дочери. Потом, в плане
устройства здесь, было очень много невзгод, нехваток, неудач. Если вспомнить,
жили трудно, но... Я приняла эту жизнь такой, какой она мне представилась.
– А как у вас с французским языком?
– Я не могла учить язык серьезно, потому что надо было платить. А на бесплатные
курсы я ходила, но это бесполезно.
– Но вы говорите?
– Плохо. Причем главная сложность в непонимании. Я сказать что-то могу,
но когда французы начинают говорить – ничего не понимаю. Язык очень специфический.
Если бы это был английский, я бы его освоила. Если, конечно, приспичит
куда-то пойти, попросить, сказать – я смогу. Зато моя внучка через три
месяца после переезда сюда прекрасно говорила по-французски. Я ведь ее
вырастила: моя дочь не была замужем, и это ее внебрачный ребенок.
Совпадений и пересечений в ее жизни очень много. Так,
в 1963 году с «Оптимистической трагедией» Володина впервые приехала именно
во Францию, в Канны. Здесь фильм о гражданской войне получил спецприз.
Хотя не обошлось без казусов. Когда она вышла из зала счастливая (фильм
принимали хорошо), председатель Госкино Баскаков, увидев ее, грубо бросил:
«За женскую роль нам премия не нужна».
Но, несмотря на закулисную возню, Канны прибавили звездности Володиной.
Картина про красивого комиссара, убиенного врагами революции, кочевала
с фестиваля на фестиваль как высокохудожественный образец советской идеологии
– в США, Австралии, Новой Зеландии. Эффектная исполнительница главной
роли, державшаяся всегда скромно, но с достоинством, не подозревала, что
эти поездки сыграют не лучшую и даже страшную роль в ее жизни.
Мы уже час сидим в кафе. За столиками рядом три раза поменялись туристы.
А она несколько раз повторяет:
– «Оптимистическая трагедия» принесла мне одни неприятности.
И я теряюсь – не знаю, что на это сказать. Что же произошло, из-за чего популярный и всенародно любимый комиссар потеряла работу? Почему именно та, на которую, когда она шла коридорами «Мосфильма», все мужчины оглядывались. Ее ноги считались эталоном красоты, и на студии их называли не иначе как «ножки Маргариты». Она была манкая, сексуальная, и столь редкое женское достоинство дополнял актерский талант.
– Я не могу вам все объяснить так, чтобы вы поняли. Но «Оптимистическая трагедия» действительно не принесла мне ничего хорошего. Народ картину принял. Все были в восторге от нее. И это породило среди актеров кино – не театра (я с ними не общалась), а всего кинематографического клана – страшное раздражение. Меня никто не поздравлял, когда я получала награды, грамоты.
Вот она приходила в Театр киноактера. Театр этот, надо сказать, был специфический – в нем служили только снимающиеся в кино актеры, которые во время простоя пытались выходить на сцену. Как к театру серьезная публика к нему не относилась. Да и ни один из актеров не оставил серьезного следа на сцене (разве что Людмила Гурченко, но и она заставила говорить о себе как о театральной актрисе после того, как сыграла в других труппах). И тем не менее «Киноактер» на Поварской гордился своим составом: Мордюкова, Хитяева, Смирнова, Кириенко, Ларионова, Семина... В эту звездную компанию Володина явно не вписывалась.
– Просто, наверное, я не очень умею быть своей среди
людей, которые занимаются сплетнями. Не потому, что я лучше них, просто
я так не умею. Я входила в гримерку, а Лидия Смирнова, пудрясь и глядя
в зеркало, небрежно так говорила: «А вот инородное тело появилось». Нонна
Мордюкова – она человек настроения: то Маргошкой меня назовет («тебя мужики
любят»), то мимо пройдет – не взглянет.
– Извините, Маргарита Владимировна, но, может, просто у вас неуживчивый
характер? Вы дружили с кем-нибудь из артисток?
– Да нет. Я же некоторое время работала в Театре Армии. У меня там со
всеми были чудные отношения. Люся Фетисова, талантливая, я всегда любовалась
ею... Люся Касаткина тогда еще не пришла. Ко мне там прекрасно относились.
Труппа была доброжелательная. А актрис-подруг не было совсем. Некоторые
актрисы были ко мне снисходительны. Вот, например, Зина Кириенко. Она
верующий человек. А ведь вера – это большая сдерживающая сила.
Конечно, отношение коллег – вещь немаловажная, но больше
из разряда эмоций. Но если бы только этим держался мир искусства...
В личной жизни все тоже непросто складывалось. Во-первых, отношения с
Самсоновым дошли до развода. Почему?
Ее ответ уклончив: «Был инцидент, не хочу вспоминать». Но как бы там ни
было, они разошлись. И с этого момента двери в мир кино для Володиной
закрылись.
– Да, закрылись двери, – подтверждает она. – Тогда я
пошла искать помощи в Госкино – а как они могли помочь? Они же не могли
никого заставить снимать меня.
Я актриса, сама не в состоянии что-то организовать, могу только себя предложить.
Это я рассказываю быстро, на самом деле проходили годы. Годы, годы, годы...
Самые лучшие. Это был кошмар.
– Неужели после развода Самсонов не мог вам профессионально помочь? Это
как-то не по-людски.
– Я обращалась к нему. Он отказал.
- Так и сказал «нет»?
– Нет, он сказал грубее. Мало того, он не только мне отказал, но и дочери,
которая к тому времени закончила театральное училище. Я просила его помочь
Маше, все отцы помогают своим детям, а он... Ей больно, горько было, она
тогда закричала и бросила трубку. Все. Отца у нее, по существу, не стало.
– А вам, может быть, стоило попытаться вернуться в театр?
– Во МХАТе руководил Ефремов, а он снимался у Самсонова. Когда я пришла,
он мне отказал, глаза прятал. Между прочим, я бы ничего плохого в театр
не принесла – меня публика тогда принимала. Я ходила и к режиссеру Станиславу
Ростоцкому. Пришла, расплакалась, и он расплакался, но не помог. Я просила
его сделать «Марию Стюарт». И он мне знаете что сказал: «Я к тебе хорошо
отношусь, когда-то тебе очень симпатизировал. Но если я запущусь с «Марией
Стюарт», то потеряю год, потому что вроде как на тебя работаю». Ну что
это был за ответ? Почему на меня? Это же его работа. Талантливый же человек.
И так все. Но я, правда, не ко всем ходила.
В ее истории есть какая-то тайна. Вопросов больше, чем
ответов. Не может же такого быть, чтобы из-за развода с мужем-режиссером
вдруг сломалась карьера. В конце концов Самсонов не был большим чиновником
или партийцем в киноискусстве.
– Что-нибудь еще, мадам? – спросил кареглазый шустрый официант. И не получив
ответа, переключился на соседний столик с немецкими туристами.
Казалось бы: одна из первых красавиц советского кино, масса поклонников
– а счастья нет. Ходили слухи, что тогдашний министр культуры Демичев
к ней благоволил.
– Многие считали, что я его любовница. Не только Демичев
мне симпатизировал, но, поверьте, не тем я с ним расплачивалась.
Охотно верю, иначе линия ее кинематографической судьбы неуклонно ползла
бы вверх.
После Самсонова в ее жизни было еще две любви – далекие,
как Северный и Южный полюсы. Сначала она встретила человека, в котором,
как говорит, увидела больше, чем было на самом деле. Прожила с ним пять
лет, а потом выяснилось, что он занимался финансовыми аферами и прикрывался
ее громким именем. В конце концов он угодил в тюрьму.
Полоса невезения расширялась и уходила вдаль. Отчаяние, которое легко
поймет всякая женщина. В Болгарии, во время кинофестиваля, одна местная
гадалка сказала ей, глядя на кофейную гущу: «Какая вас ждет любовь! Но
вы к ней придете через мучения и будете счастливы только один год». –
«Как год, а потом что?» – удивилась Маргарита, но ответа не получила.
...Через какое-то время она попала в больницу. Во время
операции ей занесли инфекцию, и врачи не оставили надежды.
– И вдруг! Кто прислал этого человека на помощь, я не знаю. Но ни с того
ни с сего вдруг он появился в больнице – врач, педиатр. Он увидел меня,
стал брать ночные дежурства.
– Он знал, что вы популярная артистка?
- Да, но он к этому относился спокойно. Просто спасал меня. Я была в жутком
виде. Вы понимаете, что такое синегнойная инфекция, которая разлагает
тело... И вот он вдвоем с медсестрой поднимал меня с постели, перекладывал
на специальный стол и промывал эти раны какими-то лекарствами. Однажды
он сказал: «Вы через неделю будете выписаны». Я не поверила. Но у меня
стала затягиваться рана!
Эта встреча принесла ей много счастья, но отношения длились
год: он умер от инфаркта у Маргариты дома.
– Вот как люди все умеют переворачивать с ног на голову! Самсонова я якобы
использовала и бросила. Второго я отправила в тюрьму, а ведь он сел, когда
мы уже разошлись. И Мишу чуть ли не я убила. Ну это же кошмар!
Черная полоса в ее жизни, кажется, стала хронической. К переживаниям по
поводу того, что ее не принимают в театре, не снимают в кино, добавился
страх. Как-то Олег Анофриев, который в то время служил в Театре киноактера,
сообщил ей, будто бы группа артистов накатала на нее бумагу в КГБ.
– А почему, как вы думаете?
– Когда не было работы в кино, я в отчаянии написала письмо в Австралию
одному эмигранту, который очень хорошо относился к нам, когда мы привозили
«Оптимистическую трагедию». Он тогда мне подарил шикарный кожаный костюм,
а Самсонову – кожаную куртку. И вот я попросила его помочь мне. Причем
я не хотела ничего конкретного и ни на что не надеялась. Это письмо попало
в КГБ – и началось.
...Сосед по ее московскому дому рассказал мне, что в тот период Маргарита
Володина была в чудовищном состоянии. Она находила в почтовом ящике письма
с угрозами: «Убирайся из страны!», ей казалось, что за ней следят. Будь
она в лучшем положении – в личной жизни, в профессии, она, возможно, так
не реагировала бы на анонимки. Но в конце 70-х эти письма, звонки были
как соль на свежую рану и сеяли панику. Володина боялась, что с ней поступят,
как со знаменитой актрисой Зоей Федоровой, убитой в собственной квартире
неизвестными. Хотя многие до сих пор уверены, что здесь не обошлось без
КГБ.
Как ни странно, но кормили Володину в этот тяжкий для
нее период и фильм, который принес ей несчастье, и образ комиссара в кожанке.
В этом была вся оптимистическая трагедия ее положения. Зарабатывала тем,
что моталась по городам и весям с выступлениями от «Бюро пропаганды советского
кино». У нее была хорошая ставка – 30 рублей.
– Я с собой возила внучку, потому что дочь надо было освободить. По существу,
внучка – мой ребенок, я ее вырастила, и сейчас она со мной живет, не с
дочерью. Как меня принимали люди! Я возвращалась в Москву на моральном
подъеме, с желанием жить. Я понимала, что могу на сцене держать внимание.
Выходила как к родным людям, очень много им рассказывала. Иногда у меня
от усталости срывался голос. Но нужны были деньги, и я просила администраторов
устраивать мне как можно больше выступлений. Я себя не жалела. Внучка
всегда сидела в зале. Однажды администратор сказал ей: «Как твоя бабушка
прекрасно выступает!» А она ответила: «Мне уже эти выступления надоели».
Среди русских в Париже говорят, что внучка Володиной
– необыкновенная девочка. Ей 17 лет, она с отличием закончила лицей и
получила право на бесплатное обучение в хорошем колледже.
– Вы пытались искать работу, когда переехали в Париж?
– Да, конечно. Пыталась кому-то русский язык помочь освоить – но это быстро
отпало, потому что надо ведь говорить и по-французски... Что касается
физического труда, честно скажу: я не очень здорова. Но несмотря на это
и дочери помогаю, и внучке.
– Каков ваш круг общения здесь?
– Очень маленький. Есть одна французская семья, с Круглыми я дружу, очень
часто у них бываю (актеры Лев Круглый и Наталья Энке. – М.Р.). Вот и все,
пожалуй. У Саши Васильева была в гостях – все мне комплименты делал. Он
здесь добился продолжения своей творческой жизни, у него это получилось,
он и в Россию может ездить.
– А вы с тех пор так и не приезжали?
– Нет, а как я могу? У меня средств на это нет. И что мне делать в России?
У меня там никого не осталось, кроме одной семьи, которая мне помогала,
– они и мою мамочку хоронили, сейчас ходят к ней на могилку.
– Как ваш день складывается?
– Я хожу к Круглым, русские книги беру, много читаю. Пытаюсь все-таки
французский учить.
– Хозяйством занимаетесь вы?
– Только я. Приготовлю что-нибудь дочери и везу ей (она за городом живет).
Маша рисует, картины интересные, но пока не продаются. А муж у нее неэнергичный,
ленивый...
– У вас французское гражданство?
– Нет, у меня советский паспорт. Российский. Трудная здесь, конечно, жизнь,
и иногда сталкиваешься с откровенной несправедливостью, с тупостью непонятной.
Но если без больших претензий – прожить можно. Во-первых, вы можете получать
официальную помощь – одежду, еду. Еда хорошая. Кроме того, существует
помощь денежная (так называемое реми), не очень большая, но уже не умрешь,
как-то можно выкрутиться. Французы помогают, русская церковь помогает.
Вот сегодня денег дали. Вы не волнуйтесь, у меня есть деньги, закажите
себе хотя бы десерт.
– Сколько времени нужно прожить во Франции, чтобы получить
пенсию?
– Я живу уже десять лет. Обещают вроде дать. И будет легче – не столько
мне, сколько моей дочери.
– В прошлом вы снимались в кино, были знаменитостью, а теперь ждете, когда
получите французскую пенсию. Это подавляет вас морально?
– Нет. Нисколько. Никому не завидую. Потому что когда человек завидует,
то он страдает еще больше. Я не хочу никому ничего доказывать. И потом
у меня совесть чиста – я все сделала для того, чтобы защитить свое право
на труд. Мне не дали, и что теперь? Что я могу в моем возрасте совершить
такого, чтобы опять почувствовать себя на коне?! Ничего. Но вы знаете,
я не страдаю. Я отношусь к этому спокойно. Жизнь прошла. Было счастье.
– А сейчас?
– Я живу своей семьей и счастлива, что она у меня есть.
– Маргарита Владимировна, извините, хотела спросить: ваша родинка на правой
щеке, которая на всех открытках, где она?
– Вот она, на месте. Просто раньше я ее подкрашивала.
Источник: http://www.mk.ru/
Полина Горенштейн
Полина Горенштейн родилась 18 января 1899 года в городе Екатеринославе
(нынешний Днепропетровск). В 14 лет она серьезно увлеклась хореографией,
однако, еще раньше у нее появилась тяга к рисованию. Многие дети любят
рисовать, только художниками становятся единицы. Однако Полина обнаружила
недюжинные способности к изобразительному искусству. В частности к ваянию.
Но совмещать эти два увлечения становилось все труднее – ведь серьезные
занятия требовали полной самоотдачи. Пришлось выбирать между скульптурой
и балетом. Сцена оказалась притягательнее.
Потом занятия в хореографическом училище Воронкова и в 1919 году, на театральных подмостках Мариуполя, Харькова и Киева появилась обаятельная танцовщица Лина По. Однако, провинциальная жизнь не устраивала молодую балерину, и в 21-м году Лина перебирается в Москву, где она поступает в Высшие хореографические мастерские при Большом театре. Однако страсть к изобразительному искусству вновь дает о себе знать, и девушка поступает еще и в Высшие художественно-технические мастерские, - более известные, как ВХУТЕМАС, на отделение скульптуры. К сожалению, через полгода Лине вновь пришлось выбирать: художники за мольбертом и балерины за станком должны трудиться по 10-12 часов в день. Времени просто не хватало. И снова предпочтение отдано балету.
 |
 |
В 1924 году она оканчивает хореографические мастерские, получив диплом со специальностью режиссера-постановщика танцев. Последующие десять лет были наполнены радостью жизни и творчества. Полина Михайловна танцевала, преподавала и работала балетмейстером в разных театрах. Тогда-то и пригодилось ее второе увлечение. Талант художника помогал Лине По глубже понять искусство балета, не говоря уже о постановке танцев. Вот что рассказывала сама Лина Михайловна: «Я брала карандаш и зарисовывала особенно увлекшие меня движения балерин, позы... Я впитывала в себя скульптурную гармонию движущихся полуобнаженных тел».
Увы, всему когда-нибудь наступает конец. Десять лет, как это, в сущности, мало для целеустремленной творческой личности! Но жизнь человеческая, к сожалению, зависит от многих внешних факторов… В 1934 году в неврологическую клинику Московского научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского поступила популярная в то время балерина, талантливый балетмейстер, режиссер Лина По. В течение 10 лет она успешно выступала со своими хореографическими программами. Но вот тяжелое осложнение гриппа - энцефалит. Специалистов особенно встревожило, что заболевание с первых же дней приняло неблагоприятное течение. Появились такие опасные симптомы, как потеря музыкального слуха, музыкальной памяти, известная в невропатологии под названием амузия, поражение зрительных нервов. Профессор Д. А Шамбуров, под руководством которого проводилось лечение, обратился за помощью к выдающемуся офтальмологу академику В. П. Филатову. Заболевание у Лины По протекало длительно. И хотя ряд тяжелых симптомов, таких, как амузия и параличи ног и рук, были устранены, неотвратимо пришла беда: Лина По потеряла зрение. Казалось, что творческой деятельности этой одаренной женщины пришел конец.
Д. А. Шамбуров знал, что она с детства увлекалась музыкой, танцами, рисованием, лепкой, писала стихи. Будучи балетмейстером, Лина По часто создавала в рисунках, с помощью пластилина мизансцены будущих спектаклей. И Дмитрий Афанасьевич подумал: а нельзя ли использовать разнообразные способности Лины По, ее трудолюбие, настойчивость - неотъемлемые черты характера балерины, для преодоления вынужденной бездеятельности? Чуткий, заботливый врач, он дает ей как бы невзначай хлебный мякиш с просьбой вылепить какую-нибудь фигурку. Когда Лина По обрела возможность шевелить пальцами, она стала мять кусочки хлеба, и на свет появлялись забавные фигурки слоников, птичек, мышей. Там же, в больнице, она сваяла первую скульптуру и назвала ее «Вероника» - задумчиво грустная головка с узнаваемыми чертами самой Лины Михайловны.
- Вам будет удобнее. Положите фанерку на грудь и лепите.
- Нет, не стоит. Зачем? Разве слепой может быть скульптором?! Не дилетантом,
а профессионалом - наравне с художниками, которые видят форму глазами?
В день выхода Лины По из больницы Шамбуров сказал:
- Ни в коем случае не бросайте скульптуры.
- Спасибо вам, доктор. За все... Обещаю...
Дома, когда за окном стихал гул торгового Столешникова переулка, умолкали двери и голоса в коммунальной квартире, брала фанерку со столика рядом с кроватью, поудобнее устраивала ее на груди, начинала лепить. Некоторое время спустя в противоположном углу комнаты уже стоял круглый столик наподобие скульптурного станка. Иногда она вставала с кровати, на костылях добиралась до своего рабочегоуголка... Лепила самозабвенно - пока острая боль не пресекала творческий порыв. Хваталась за стул, задевала костыль, и он с грохотом падал. Испуганно просыпалась Мария Михайловна, вскакивала и бережно укладывала сестру.
Прошло несколько месяцев. Исчезли последствия паралича. Но и в этот, самый тяжелый период своей жизни - период душевной и физической боли, страданий, сомнений - Лина Михайловна постоянно работала. На полке стояли «Плачущая девушка», «Юный скрипач», несколько балерин, эскиз портрета племянника Ромы. Приходили друзья, смотрели скульптуры, одобряли. Особенно - фигурки танцовщиц. Часто бывал Дмитрий Афанасьевич. Продолжал лечить больную и с радостью наблюдал, как рождается скульптор. В один из визитов Шамбуров увидел портрет молодой женщины с чертами Лины Михайловны. В склоненной головке выражено чувство неуверенности, грусти, сомнений. Но чем дольше смотришь на нее, тем явственнее замечаешь момент пробуждения к жизни.
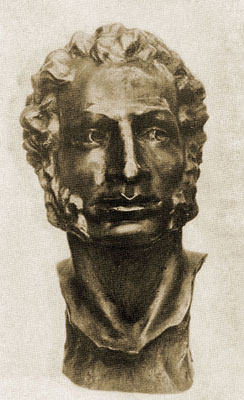 |
 |
 |
В 1937 году, когда не прошло и года после выписки Лины По из клиники, была открыта персональная выставка ее произведений, о которых заговорила пресса. В феврале 1937 года Лина По начинает работать над «Танцевальной сюитой», а в мае произведение было закончено. Впервые Лина Михайловна взялась за многофигурную композицию, в которой соединились темы классической и народной хореографии. Прославлением жизни, красоты человеческого тела наполнена эта поэма в скульптуре. При постепенном круговом обзоре ее открываешь все новые пластические аспекты, вызванные сменой взаимодействия друг с другом всех восьми фигурок, так естественно объединенных в композицию, что ни под каким углом зрения не нарушается ее цельность. Долго можно рассматривать «Танцевальную сюиту» - ювелирность лепки, разнообразие проработки форм - и получать при этом все большее эстетическое удовольствие. От изменения освещенности, игры бликов на фигурках танцовщиц замечаешь не замеченные ранее тонкости.
Без малейшего преувеличения можно утверждать, что по сложности и естественности воплощения танца, многогранности и красоте пластики - трудно найти в искусстве скульптуры на тему хореографии столь же оригинальное произведение. Известный советский скульптор, лауреат Государственной премии СССР С. Д. Тавасиев говорил:
- «Танцевальная сюита» - вещь камерная, но сколько в ней монументальности! Это настоящая скульптура... И когда я смотрю на нее - зависть берет: как профессионально, мастерски сделана!
В «Вакханке» - центральной фигурке из «Танцевальной сюиты» - уже намечена тема скульптуры «Прыжок». Кажется, вот-вот молодая женщина оторвется от земли и перейдет в свободный полет. Это ощущение вызвано движением рук, похожих на крылья, стремительным наклоном фигуры, связанной с плинтом единственной точкой опоры. Лина По рассказывала, как однажды она создала изящную скульптурную фигурку балерины, назвав ее «Прыжок». Лепила ее с азартом, в состоянии творческого подъема и вдохновения. Утром пришедшую навестить родственницу предупредила: «Осторожно, не заденьте мою новую работу. Как она вам нравится? Я над ней трудилась всю ночь». Каково же было удивление и родственницы и самой Лины По, когда выяснилось, что никакой новой скульптуры не существует, что Лина перепутала сновидение с действительностью, что «Прыжок» от начала и до конца создан только в сновидении.
Но ее сновидения были настолько ярки и зрительно реальны, весь творческий процесс лепки был настолько ощутим, что она очень быстро воссоздала замечательную фигурку «Прыжок». Этот рассказ многое дает для понимания психофизиологических механизмов компенсации слепоты у Лины По. Прежде всего, важно отметить, что зрительные образы ее сновидений были очень яркими, носили не мимолетный характер, как обычно бывает, а продолжали зрительно существовать в сознании и после пробуждения. Такое редко встречающееся у людей свойство в медицинской психологии известно под названием эйдетизм. Это своеобразная разновидность зрительной образной памяти. Обладатель ее не вспоминает, не представляет себе в уме предмет или любой образ, а видит его, как на фотографии или на экране. Подобные эйдетические образы стояли перед мысленным взором Лины По. «Прыжок» - это гимн свободному и прекрасному человеку.
Снова обратимся к высказываниям Лины По. Однажды она сказала литератору А. М. Арго: "...Образ А. П. Чехова пришел мне ночью во сне, пришел ярко, зримо, трехмерно... Я сразу почувствовала все размеры в пальцах" Эта реплика свидетельствует о редкой способности воспринимать образ сразу с помощью нескольких органов чувств. Лина По не только объемно увидела образ А. П. Чехова, но одновременно и почувствовала в пальцах размеры и пропорции скульптуры. Она тут же попросила свою сестру замесить глину и приступила к работе.
Разумеется, не всегда и не все было так «просто» и «легко», как может показаться. Бывали очень трудные периоды, когда творческая деятельность угасала и сменялась бездействием, бесплодным унынием, когда исчезали эйдетические образы. И Лине казалось, что она уже никогда больше не сможет творить. Ей нужна была помощь и моральная поддержка. После Д. А. Шамбурова, сыгравшего первостепенную роль в выборе пути, опорой для нее стал замечательный художник Михаил Васильевич Нестеров.
Нестеров был требователен к себе и другим. Но с первых же минут разговора Михаил Васильевич почувствовал быстрый и глубокий ум, твердость характера, артистизм ее натуры. Он долго рассматривал «Веронику», фигурку балерины, «Юного скрипача». Его удивила экспрессия, выраженная в профессионально несовершенных работах слепой. В конце беседы Михаил Васильевич сказал:
- Вы будете скульптором.
Весной 1938 года «Прыжок» был показан на выставке живописи, графики и скульптуры женщин-художников, посвященной Международному коммунистическому женскому дню. А через некоторое время, 24 мая, газета "Советское искусство" сообщала: "Последнее заседание закупочной комиссии при Государственной Третьяковской галерее состоялось на квартире скульптора Лины По. Комиссия ознакомилась с творчеством талантливого скульптора и решила приобрести три ее работы: «Прыжок», «Мальчик со змеем» и «Негритенок».
Сотрудники Третьяковской галереи причислили «Прыжок» к лучшим произведениям пластики малых форм и чрезвычайно бережно к ней относились: когда в 1946 году Московский Союз советских художников устраивал выставку скульптуры Л. М. По за десять лет творчества, дирекция галереи отказалась дать для экспозиции в Центральном Доме работников искусств СССР эту работу. Для выставки Лина Михайловна по памяти повторила «Прыжок», который в некоторых деталях превосходит произведение 1938 года. Творчество незрячего скульптора продолжалось с 1936 по 1948 год, ею создано более ста скульптур.
 |
 |
 |
Как же ей удалось такое? Как смогла она, пережившая большую беду, лишившись зрения, создавать и создать исключительно оптимистические, жизнеутверждающие произведения? Народный артист СССР С. М. Михоэлс в книге отзывов на выставке произведений Лины По записал: «Талант всегда зрячий». Лина По, будучи незрячей, действительно видела. Вот как создавался образ Пушкина. Ее зрительные впечатления об Александре Сергеевиче сложились в основном по хрестоматийно распространенным портретам кисти В.А.Тропинина и О.И.Кипренского, написанным в 1827 году, и московскому памятнику А.М.Опекушина. Они сливались у нее в общее представление о внешнем облике поэта...
Только со временем, когда через творчество Пушкина поняла его всеобъемлющую мудрость, его жизненную драму, высветился в ее сознании образ. Теперь она видит поэта во сне. По ее словам, только в течение года видела Пушкина во сне восемь раз. Посмертная маска поэта и сновидения корректировали ход работы над скульптурой. И так продолжалось около двух лет. О работах Лины По очень тепло отзывался и Сергей Тимофеевич Коненков. Некоторые считают, что последнюю версию скульптуры «Паганини», Коненков сделал, увидев ее трактовку образа знаменитого скрипача.
- Поражает буквально всё. А портреты исторических личностей – так те просто потрясают. Слепая лепит бюсты людей, которых она не видела глазами, и, что удивительнее всего, портреты ее жизненны, характерны, типичны и похожи. Мы находим в них то, чего требует строгий критик от портретного искусства, – говорил скульптор Сергей Дмитриевич Меркуров, отливший посмертную маску Ленина.
В 1939 Лину По приняли в Московский союз советских художников. Этому предшествовала интересная история. Узнав, что автор скульптурных произведений – слепая женщина, в это просто не поверили, и отправили к ней весьма представительную комиссию: искусствоведа Грабарь-Мещерину, художника Бориса Яковлева и скульптора Антропова.
Впоследствии сестра Лины По так рассказывала об этом визите:
- Незадолго до прихода комиссии Лина Михайловна как раз закончила лепить фигуру Кармен, танцующую испанский танец. Именитым гостям работа эта очень понравилась.
Но ведь им надо убедиться в том, что такое может сотворить слепой человек. Тактичный предлог для проверки нашел художник Яковлев.
- Ваша испанка, – сказал он, – очень хороша. Но мне кажется, будь у нее в руке веер, стала бы еще лучше.
«Испытуемая» взяла пластилин и быстрыми точными движениями вылепила миниатюрный раскрытый веер, который тут же вставила в правую руку своей Кармен и, улыбаясь, сказала:
- Вы правы, пусть танцует с веером.
Сомнения комиссии развеялись...
Выдающийся офтальмолог нашей страны В. П. Филатов, сам не только талантливый ученый, но и художник, и скульптор, и поэт, также высоко оценил ее творчество. К концу жизни Лины По его непрерывными стараниями (он многократно приезжал к ней из Одессы) удалось добиться незначительного успеха в лечении слепоты. В одном глазу появилось маленькое «оконце для зрения». Однако, как это ни странно, оно мешало процессу лепки, и во время работы Лина По завязывала глаза. Творческие успехи окрыляли Лину По, и она была в буквальном смысле этого слова счастлива. Иногда даже говорила: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Поэт Яков Хелемский в посвященном Лине По стихотворении так и назвал ее: «Та, у которой призанять бы счастья теперь иные зрячие могли».
Во время Великой Отечественной войны, Лина По была эвакуирована
в Уфу. Проживая с сестрой буквально в микроскопической комнатке, чуть
ли не два на два метра, в доме на улице Карла Маркса, Лина По ваяла скульптуры
на военную, башкирскую и, конечно, любимую балетную тематику.
Магинур Бикбова, артистка ансамбля песни и пляски Башкирской филармонии,
стала для Лины По моделью в ее работе на башкирские темы. Сначала Лина
Михайловна ощупывала лицо артистки и потом по памяти, начинала ваять.
Магинур стала моделью для композиции "Башкирский танец с кумысом",
а молодая башкирка Гадибэ превратилась в башкирскую мадонну - главную
героиню скульптуры «Возвращенное детство» (второе название «Удочеренная»).
За годы неустанного, кропотливого и тяжелого труда Лина По создала более сотни скульптур и скульптурных композиций. Такое под силу не всякому зрячему скульптору. Но кроме ваяния, Полина Михайловна занималась изготовлением кукол. «Петрушка», «Негр», «Клоун», «Татарка» являются яркими примерами творческой фантазии, гармонии и цветовой выразительности. Используя различные материалы, – ткань и кружево, бисер и стеклярус, кусочки фольги и елочную мишуру, - слепая художница сделала своих кукол действительно театральными.
Одна из известнейших работ Лины По - восьмифигурная композиция «Танцевальная сюита», в которой переплелась классическая и народная хореография. Восемь фигурок танцовщиц, главная из которых "Вакханка", дают ощущение движения, свободного полета. Единичные работы Лины По имеются в коллекциях Третьяковской галереи и других музеев страны. Но главное собрание скульптур – в мемориальном зале Лины По, открытом в музее Всероссийского общества слепых. В том, что экспозиция вновь доступна для зрителей, большая заслуга ветеранов ВОС, которые с завидным упорством добивались ее открытия. Много времени занял поиск произведений Полины Михайловны. Часть скульптур была испорчена. Над их восстановлением трудились специалисты из реставрационных мастерских им. академика Грабаря. На торжестве, посвященном этому событию Анна Павловна Язвина, которую без преувеличения можно назвать подвижницей, сказала:
- Мы приложили очень много усилий, чтобы получить эти скульптуры и воссоздать их. Ее творчество многогранно. Я уговаривала ее сестер отдать скульптуры нам, и дала торжественное слово, что они будут экспонироваться в отдельном зале нашего музея.
Ее имя имеет мировое значение. Ее талант был очень высоко оценен многими. Вы сможете полюбоваться и оценить то, что было дано этой женщине.
- Чем интересна Лина По? - сказал художник, оформлявший экспозицию, Алексей Егорович Кошелев. - Это надежда для всех, к кому пришла беда. Потому что нельзя опускаться. Потому что человек обречен изначально, как только родился. Сколько ему отпущено - надо прожить умно, красиво и сильно. Когда человек опускается, это деградация. Вот Лина преодолела болезнь . Рядом оказались интересные сильные люди, которые помогли: великолепный художник Нестеров, Филатов - глазник, который даже писал стихи ей. Вы представляете, когда человек сидит на кровати, и вдруг говорят: «Ничего не потеряно. Еще есть надежда себя выразить».
Все двенадцать лет творчества Лина По жила в напряжении. Организм ее был ослаблен. К старым болезням прибавлялись новые. В ноябре 1948 года Лина Михайловна была вынуждена лечь на операцию. Ее оперировал известный в Москве специалист профессор Александров. Старался сделать все возможное... Но 26 ноября Лина По скончалась.
Когда она умерла, академик В.П.Филатов написал «Реквием»:
| Угас твой друг! Разбит сосуд хрустальный! Жизнь унесла осенняя гроза. И ты стоишь, бессильный и печальный. И горькая в очах дрожит слеза... |

Погребена в Москве на Новодевичьем кладбище.
Источник: http://zamok.druzya.org/index.php?s=&showtopic=1651&view=findpost&p=77030
Ривка Рубина
|
 |
В 1943 г. Рубина опубликовала сборник очерков «Идише фройен» («Еврейские женщины»). В 1961 г. Рубина вошла в состав редколлегии журнала «Советиш Геймланд». Подготовила к изданию книги Залмана Вендрова и И.-Л. Переца. В качестве редактора и переводчика участвовала в издании шеститомного собрания сочинений Шолом-Алейхема на русском языке (М., «Художественная литература», 1971—1973). Ею же написаны вступительные статьи к изданиям книг еврейских писателей на русском языке.
Источник: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/444440
И ещё (из другого источника):
РУБИНА Ривка (Ревекка Рувимовна; 1906, Минск, – 1987, Москва), еврейская писательница, критик и литературовед. Жена художника М. Аксельрода. Писала на идиш и русском языках. Родилась в семье ремесленника. В 1930 г. окончила литературный факультет Минского педагогического института, затем училась в аспирантуре Белорусской академии наук. С 1931 г. начала публиковать литературно-критические статьи в журнале «Штерн» (Минск), позднее — в альманахах «Советиш» (1941), «Геймланд» (1947–48; была членом редколлегии альманаха), варшавской газете «Фолксштиме» (с 1947 г.). Была редактором сборника очерков «Биробиджан» (1936).
С середины 1930-х гг. Рубина написала ряд работ, посвященных творчеству классиков литературы на идиш, в том числе монографию «Ицхок Лейбуш Перец (1851–1915)», вышедшую незадолго до войны (1941). Участвовала в подготовке собрания сочинений Менделе Мохер Сфарима (в 4-х томах, 1935–40), Шалом Алейхема (в 16-ти томах, 1935–41). Составитель «Избранных сочинений в двух томах» И. Л. Переца (1941). Наряду с Н. Ойслендером, А. Гурштейном, И. Добрушиным Рубина внесла заметный вклад в изучение творчества еврейских классиков.
В 1943 г. Рубина опубликовала сборник очерков «Идише фройен» («Еврейские женщины») об испытаниях и стойкости в годы Катастрофы. Рассказы Рубиной военных лет были напечатаны также в сборнике произведений советских еврейских писателей «Ойф найе вегн» (1949, Н.-Й.). В 1961 г. Рубина вошла в состав редколлегии журнала «Советиш Геймланд» (главный редактор А. Вергелис), в котором публиковались ее очерки, рассказы и литературно-критические статьи. Рубина — автор творческих портретов еврейских писателей Ш. Галкина, З. Аксельрода, Л. Квитко, З. Вендрова, Э. Фининберга, И. Кипниса, Д. Бергельсона и других.
Итогом многолетней работы Рубиной как литературного критика стала книга «Шрайбер ун верк» («Писатели и произведения», Варшава—Москва, 1968). Участвовала в издании (редактура и перевод) шеститомного собрания сочинений Шалом Алейхема на русском языке (М., «Художественная литература», 1971–73), а также переводов произведений И. Л. Переца на русский язык. Переводила на русский произведения советских еврейских писателей. В 1970–80-х гг. Рубина написала повести и рассказы, составившие сборники «Эс шпинт зих а фодем» («Вьется нить», 1975, русский перевод 1978) и «Аза мин тог» («Странный день», 1984, русский перевод 1986).
Источник: http://www.eleven.co.il/article/13609
А вот материал, предоставленный моим постоянным помощником в публикации материалов этой темы Хаимом Шварцем из Нетании (Израиль):
1906 - Еврейская писательница, критик и литературовед Ривка (Ревекка Рувимовна) Рубина родилась в Минске. Писала на идиш и русском языках. В 1930 году окончила литературный факультет Минского пединститута, училась в аспирантуре Белорусской Академии наук. С 1931 г. начала публиковать литературно-критические статьи в журнале «Штерн» (Минск), позднее — в альманахах «Советиш» (1941), «Геймланд» (1947-48; была членом редколлегии этого альманаха), в варшавской газете «Фолксштиме» (с 1947 г.), редактировала сборник очерков «Биробиджан» (1936). С середины 1930-х гг. Рубина написала ряд работ, посвященных творчеству классиков литературы на идиш, в том числе монографию «Ицхок-Лейбуш Перец (1851–1915)», вышедшую незадолго до войны (1941).
Участвовала в подготовке собрания сочинений Менделе Мойхер-Сфорима (в 4-х т., 1935-40), Шолом-Алейхема (в 16-ти томах, 1935-41). Составитель «Избранных сочинений в двух томах» И.-Л. Переца (1941). В 1943 г. Рубина опубликовала сборник очерков «Идишэ фройен» («Еврейские женщины») об испытаниях и стойкости в годы Холокоста. Рассказы Рубиной военных лет были напечатаны также в сборнике произведений советских еврейских писателей «Аф найе вэгн» (1949, Нью-Йорк). В 1961 году Рубина вошла в состав редколлегии журнала «Советиш геймланд» (главный редактор Арон Вергелис), в котором публиковались ее очерки, рассказы и литературно-критические статьи. Рубина — автор творческих портретов еврейских писателей Шмуэла Галкина, Зелика Аксельрода, Льва Квитко, Эзры Фининберга, Ицика Кипниса, Давида Бергельсона и других.
Итогом многолетней работы Рубиной как литературного критика
стала книга «Шрайбэр ун вэрк» («Писатели и произведения», Варшава-Москва,
1968). Участвовала в издании (редактура и перевод) шеститомного собрания
сочинений Шолом-Алейхема на русском языке (Москва, «Художественная литература»,
1971-73), а также переводов произведений И. -Л. Переца на русский язык.
Переводила на русский произведения советских еврейских писателей. В 1970-80-х
гг. Рубина написала повести и рассказы, составившие сборники «Эс шпинт
зих а фодем» («Вьется нить», 1975, русский перевод - 1978) и «Аза мин
тог» («Странный день», 1984, русский перевод - 1986). Умерла в Москве
в 1987 году. А в Израиле с 1991 года живет ее дочь, известная поэтесса
и переводчица Елена
Аксельрод.
Елена Боннэр
Об Израиле и мире
Речь на Форуме свободы в Осло

Дамы и господа! Дорогие друзья!
В приглашении на эту конференцию ее президент господин Тор Халворссен попросил меня рассказать о моей жизни, страданиях, которые я перенесла, и как получилось, что я это все вынесла. Но мне это кажется сегодня не очень нужным. Поэтому совсем кратко. В 14 лет осталась без родителей. Отца расстреляли, маму на 18 лет отправили в тюрьму и ссылку. Нас опекала бабушка. Поэт Владимир Корнилов, человек такой же судьбы, написал: "И казалось, что в наши годы вовсе не было матерей. Были бабушки". Таких детей были сотни тысяч. Илья Эренбург назвал их "странные сироты тридцать седьмого". Потом была война. Мое поколение она вырубила почти под корень, но мне повезло. Я вернулась с войны. Пришла в пустой дом - бабушка умерла в блокадном Ленинграде. Потом коммуналка. Шесть полуголодных лет медицинского института, любовь, двое детей, бедность советского врача. Но не одна я была такая. Все так жили. Диссидентство. Ссылка. Но - мы были вдвоем! И это было счастье.
Сегодня, подводя итоги (в 86 лет итоги надо подводить каждый прожитый день), я могу о своей жизни сказать тремя словами. Жизнь была типична, трагична и прекрасна. Кому надо подробности - читайте две мои книги - они переведены на многие языки. Читайте "Воспоминания" Сахарова. Жаль, что не переведены его "Дневники", изданные в России в 2006 году. Видимо, у Запада интереса к Сахарову нет. Не очень интересна Западу и сама Россия, в которой уже нет выборов, нет независимого суда, нет свободы печати. Страна, в которой регулярно - почти ежедневно - убивают журналистов, правозащитников, мигрантов. И такая коррупция, какой, кажется, никогда и нигде не было. А что в основном обсуждают западные масс-медиа? Газ и нефть, которых у России много. Это ее единственный политический козырь, его она использует как инструмент давления и шантажа. И еще одна тема не сходит со страниц газет: кто правит Россией? Путин или Медведев? Да какая разница, если Россия полностью потеряла тот импульс демократического развития, который, как нам тогда померещилось, был у нее в начале 90-х годов. Такой она и останется на десятилетия, если не случится каких-либо значительных катаклизмов.
За годы, прошедшие с момента падения Берлинской стены, весь мир неимоверно - исторически чрезвычайно быстро - изменился. А вот стал ли он лучше, благополучней для шести миллиардов восьмисот миллионов человек, населяющих нашу маленькую планету? На этот вопрос, несмотря на все новые достижения науки и техники, на тот процесс, который в привычной терминологии мы называем прогрессом, никто однозначно ответить не может. Мне кажется, что мир стал более тревожным, более непредсказуемым, более хрупким. Эта непредсказуемость, тревога и хрупкость в разной степени ощущается и всеми странами, и каждым человеком в отдельности. И жизнь общественная и политическая становится все более и более виртуальной, как картинка на дисплее компьютера. При этом внешний фон жизни, формируемый телевизором, газетой или радио, прежний: конференциям, саммитам, форумам, различным конкурсам - от красоты до поедания бутербродов - нет числа. На словах сближение, а в реальности разобщение.
И это не потому, что вдруг грянула экономическая депрессия и к ней вдобавок свиной грипп. Это началось 11 сентября. Вначале гнев и ужас вызывали террористы, обрушившие башни-близнецы, их подельники в Лондоне, Мадриде и других городах, шахиды, взрывающие себя на заведомо мирных объектах вроде дискотеки или свадьбы, семьям которых за это Саддам Хусейн платил по 25 тысяч долларов. А позже во всем виноватым стал Буш и, как всегда, евреи, то есть Израиль. Пример - Дурбан-1 и рост антисемитизма в Европе, отмеченный несколько лет назад в выступлении Романо Проди. Дурбан-2 - и главный спикер Ахмадинежад предлагает уничтожить Израиль.
Вот об Израиле и евреях я и буду говорить. И не только потому, что я еврейка, но в первую очередь потому, что ближневосточный конфликт в течение всего времени, прошедшего с окончания Второй мировой войны, является плацдармом политических игр и спекуляций больших держав, арабских стран и отдельных политиков, стремящихся на так называемом "мирном" процессе подтвердить свое политическое имя, а может, и получить Нобелевскую премию мира. Когда-то она была высшей нравственной наградой нашей цивилизации. Но после декабря 1994 года, когда одним из трех ее новых лауреатов стал Ясир Арафат, ее этическая ценность сильно поколебалась. Я не всегда радостно воспринимала очередной выбор Нобелевского комитета норвежского стортинга, но этот меня поразил. И до сих пор я не могу понять и принять то, что Андрей Сахаров и Ясир Арафат, теперь оба посмертно, являются членами одного клуба нобелевских лауреатов.
Во многих публикациях (в "Размышлениях", в книге "О стране и мире", в статьях и интервью) Сахаров писал и говорил об Израиле. У меня есть небольшая статья об этом, верней, даже не статья, а свод цитат. Если ее опубликуют в Норвегии, то многие норвежцы будут удивлены тем, как резко их сегодняшний взгляд на Израиль расходится с взглядом Сахарова. Вот несколько из них: "Израиль имеет безусловное право на существование", "имеет право на существование в безопасных границах", "все войны, которые вел Израиль, - справедливые, навязанные ему безответственностью арабских лидеров", "на те деньги, которые вкладываются в проблему палестинцев, давно можно было их расселить и благоустроить в арабских странах".
Все годы существования этой страны идет война. Несколько победных войн, несколько войн, в которых Израилю не давали победить. И каждый - буквально каждый - день ожидание теракта или новой войны. Уже были и "Ословские мирные инициативы", и "Рукопожатие в Кэмп-Дэвиде", и "Дорожная карта", и "Мир в обмен на землю" (земли всего ничего: с одного края в ясную погоду невооруженным глазом виден другой). Теперь в моде новый (старый, между прочим) мотив: "Две страны для двух народов". Вроде хорошо звучит. И нет противоречий внутри миротворческого квартета, в который входят США, ООН, Европейский союз и Россия ("великий миротворец" с ее чеченской войной и абхазско-осетинской провокацией). Но при этом и Квартет, и арабские страны, и палестинские лидеры (и ХАМАС, и ФАТХ) предъявляют Израилю несколько требований. Я буду говорить только об одном из них - требовании принять палестинских беженцев. И здесь необходимо немного истории и демографии.
По официальному статуту ООН беженцами считаются только те, кто бежал от насилия и войн, но не их потомки, родившиеся на другой земле. Когда-то и палестинских беженцев, и еврейских беженцев из арабских стран было приблизительно равное число - около 700-800 тысяч. Евреев (около 600 тысяч) принял новорожденный тогда Израиль. ООН официально признала их беженцами, но никогда им не помогала. Палестинцы же считаются беженцами не только в первом, но и во втором, третьем и теперь уже четвертом поколениях. По данным Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), число зарегистрированных палестинских беженцев выросло с 914 000 в 1950 году до 4 600 000 и продолжает расти. Все эти люди в настоящее время имеют права беженцев, включая право на получение гуманитарной помощи.
Население Израиля составляет около 7 с половиной миллионов человек, из них два с половиной миллиона - этнические арабы, называющие себя палестинцами. Представьте себе Израиль, когда туда вольются еще пять миллионов арабов и число арабов в нем будет существенно превышать число евреев. А рядом будет создано палестинское государство, полностью очищенное от евреев, потому что кроме требования возвращения в Израиль палестинских беженцев выдвигается также требование очистить от евреев и передать палестинцам Иудею и Самарию, а в Газе на сегодня уже нет ни одного еврея. Итог получается странным и пугающим. И не потому, что Израиль будет фактически уничтожен, - не то время и не те евреи. Он пугает тем, какая короткая память у высокого миротворческого Квартета, у руководителей государств, которые Квартет представляет, и у народов этих государств, если они подобное допустят. Ведь их план "Два государства для двух народов" - это создание одного государства, этнически чистого от евреев, и второго, где потенциально также будет возможность создать такое же. Юденфрай - Святая земля. Мечта Адольфа Гитлера наконец-то осуществится. Вот и думайте те, кто еще не потерял способность думать: где и в ком сегодня сидит фашист?
И еще один вопрос давно как гвоздь сидит во мне. Он к моим коллегам-правозащитникам. Почему судьба израильского солдата Гилада Шалита в отличие от судьбы заключенных Гуантанамо вас не волнует? Вы добились возможности посещать Гуантанамо представителями Красного Креста и прессы, юристами. Вы знаете условия их содержания, быта, питания. Вы встречались с теми, кто подвергался пыткам. Итогом ваших усилий стало запрещение пыток и закон о закрытии этой тюрьмы. Президент Обама подписал его в первые дни своего пребывания в Белом Доме. И хотя он, как и президент Буш до него, не знает, что дальше делать с узниками, можно надеяться, что новая администрация что-нибудь придумает.
А за два года, которые Шалит находится в руках террористов, мировое правозащитное сообщество ничего не сделало для его освобождения. Почему? Он - раненый солдат - полностью подходит под действие Женевской конвенции о защите прав военнослужащих. В ней четко сказано, что заложничество запрещено, что к пленным, тем более к раненым, должны допускаться представители Красного Креста, и много еще чего там сказано о его правах. То, что представители Квартета ведут переговоры с теми, кто держит Шалита неизвестно где и неизвестно в каких условиях, наглядно демонстрирует их пренебрежение к международным правовым документам, об их полнейшем правовом нигилизме. А правозащитники тоже не помнят о таких документах?
И еще я думаю (кому-то это покажется наивным), что первым крохотным, но реальным шагом к миру должно стать освобождение Шалита. Именно освобождение, а не обмен на тысячу или тысячу пятьсот заключенных, находящихся в израильских тюрьмах по приговорам судов за реальные преступления. И возвращаясь к моему вопросу - почему молчат правозащитники - я не нахожу другого ответа кроме: Шалит - израильский солдат, Шалит - еврей. Значит, опять сознательный или неосознанный антисемитизм. Опять фашизм. Прошло 34 года с того времени, когда я в этом городе представляла на церемонии вручения Hобелевской премии мира моего мужа Андрея Сахарова. Тогда я была влюблена в эту страну. Прием, оказанный мне здесь, запомнился мне навсегда.
Сегодня я испытываю тревогу и надежду (так Сахаров назвал свое эссе, написанное для Нобелевского комитета в 1977 году). Тревогу - из-за нарастающего во всей Европе, а возможно, и шире, антисемитизма и антиизраилизма. И все же надежду, что страны и их руководители и люди повсюду вспомнят и примут этический завет Сахарова: "В конечном итоге нравственный выбор оказывается самым прагматичным".
Елена Боннэр
Осло, 19.05.2009 10:45
Алла Дымовская
Д.Б.: У нас в гостях Алла Дымовская. Остров Мадейра. Семеро русских туристов
наслаждаются отдыхом в шикарном отеле. Но в этом земном раю зреют семена
ада. Уже скоро они расцветут пышными цветами зла, упав на благодатную
почву людских страстей, взращенные рукой дьявольского садовника. И вот
богатый урожай не заставил себя ждать: подлости, предательства, убийства...
Чья воля направляет события к страшному финалу? Человек или сам Сатана
двигает людьми, словно пешками в кровавой игре? Есть ли цель у этой игры,
и какая роль отведена роковой красавице, яблоком раздора упавшей в компанию
друзей? "Мирянин" - новый мистический роман-адреналин от мастера
психологического триллера Аллы Дымовской. Скажите, Алла, вы же женщина,
как вы пишете такой кошмар?

А.Д.: Я чуть дар речи не потеряла. Я ошарашена! Я вижу
в руках вашу книгу, вы прочитали аннотацию к книге, я от вас это слышу
первый раз. Эту обложку утверждали без меня.
Д.Б.: Как давно занимаетесь написанием триллеров?
А.Д.: Я триллеры, в общем, не пишу, у меня жанр социальная фантастика
- это третья книга, которую издает издательство АСТ.
Д.Б.: Сколько лет вы занимаетесь этим ремеслом?
А.Д.: Я начала писать, когда мне было 12 лет, когда я осмелилась со своей
писаниной выйти в люди, мне был 31.
Д.Б.: Я с некоторой долей ужаса должен прочитать название
частей. 1) Бухие крысы. 2)Из ада Бог виден лучше. 3) Чудовищное дело в
долине Армагеддона, 4) Обратный горизонт. А про что роман "Мирянин"
и почему у него такое дикое название?
А.Д.: Этот роман о патологии свободы воли. Меня спрашивают, почему книга
фантастическая, когда фантастики нет. Магия - это как раз свободная воля,
другое дело, в каких рамках это допустимо. Герой произведения - интеллигент.
В лихие времена 90-х он решил игнорировать с моральной точки зрения, отвергая
правила и становясь выше общества, в один момент ты станешь выше морали
и захочешь освободиться вообще от всего. Люцифер тоже пожелал бесконечной
свободы и решил жить своей жизнью. Герой в итоге пришел к тому же.
Д.Б.: А почему действие происходит в таком экзотическом
месте?
А.Д.: Мне понравился сам остров, я отдыхала на Мадере, произвела неизгладимое
впечатление сама природа, черные скалы, разделенное небо, само место мистическое.
Д.Б.: У меня в романе действия тоже происходят на уединенном острове,
называется остров Джопп, это будет скорее роман смешной, чем страшный.
Как вы решились писать мистический триллер в России? Ни у кого еще не
получилось.
А.Д.: Как-то само собой это возникло. Я просто пишу, что хочется, и не
думаю о последствиях.
Д.Б.: Иосиф мне пишет: а Гоголь? Ну, он писал мистические триллеры, безусловно,
и очень удачно, но в основном на фольклорной основе. По-моему, единственный
удачный триллер в России - Пиковая дама, а все гоголевские мистические
триллеры сделаны на другом украинском материале. Книга уже есть в продаже?
А.Д.: Я так понимаю, что с понедельника да.
Д.Б.: В каком жанре были ваши предыдущие сочинения?
А.Д.: Первый роман классифицировали как мистический реализм, второй не
знали вообще, как обозвать "Рулетка еврейского квартала", тогда
возник термин - социальная фантастика.
Д.Б.: Это означает, что вы входите в братство фантастов, ездите на конгрессы,
участвуете в Росконе?
А.Д.: Я от всего этого далека,- мне тяжело с группами, я в какой коллектив
ни попадаю, я аутсайдер, на которого смотрят косо. У меня мало друзей,
но они надежные...
Послесловие. Разговор с писательницей записан на одном из российских телеканалов. А заинтересовался я ею в связи с её активным участием в телепередаче Виктора Ерофеева "Апокриф". Тема носила название "Скандалы". Ерофеев обладает исключительным чутьём на талантливых людей и никогда не приглашает на свои передачи ординарных, то есть неинтересных собеседников. В интернете почти нет никаких сколь-нибудь пространных материалов о самой Алле Дымовской, зато Google буквально забит ссылками на написанные ею книги. Уверен, что ключ к разгадке этой личности - как раз в книгах. Что ж, - почитаем?..
Багдасарьян Надежда Гегамовна
Страна: Россия
Дата рождения: 18 июля 1947 г.
Образование: доктор наук (философия) [1998]
Место работы: Московский государственный технический университет им. Н.Э.
Баумана (МГТУ)
Должность: Профессор кафедры Социологии и Культурологии

Профессиональные интересы:
Философия и социология образования, культурология техники и инженерной
деятельности, языки межкультурной коммуникации.
Багдасарьян Н. Г. разрабатывает концепцию социо-гуманитарного образования
в техническом университете, выдвигает и обосновывает идею социокультурной
компетентности специалиста-инженера как важнейшего условия овладения им
профессиональной культурой.*
*П.В. Алексеев. Философы России XIX-XX столетий. Биографии, идеи, труды.-4-е
изд.,перераб. и доп.-М.:Академический Проект, 2002.-1152 с.
Учебные курсы:
• Общая социология
• Социология культуры
• Социология образования
• Социология коммуникаций
• Культурология
• Основы межкультурной коммуникации
Публикации:
Язык культуры//Социально-политический журнал. 1.1994;
Инновации в ценностных ориентациях студентов.[В соавт.]//Социс. 3-4.1995;
Профессиональная культура инженера: механизмы освоения.М.,1998;
Мир через культуру:Уч.пос.М.:Вып.I-III,1996-1998;
Динамика техносферы:социокультурный контекст.[В соавт.].М.,2000;
Ред.,рук.авт.колл.кн."Культурология". Учебник для техн.вузов.[В
соавт.].М.,2001.3-е изд.
Публикации на портале:
Книги
• Профессиональная культура инженера: механизмы освоения
Статьи
• Багдасарьян Н.Г., Кансузян Л.В., Немцов А.А. Инновации в ценностных
ориентациях студентов // Социологические исследования. 1995. № 4. С. 125-129.
• Багдасарьян Н.Г. Межкультурные коммуникации или параллельные реальности?
// Философия социальных коммуникаций. 2006. № 1.
• Багдасарьян Н.Г. О бедной культуре замолвите слово // Личность. Культура.
Общество.. 2005. № 3.
• Багдасарьян Н.Г., Кансузян Л.В., Немцов А.А. Послевузовские ожидания
студенческой молодежи // Социологические исследования. 2003. № 6. С. 113-119.
• Багдасарьян Н.Г. Ценность образования в модернизирующемся обществе //
Педагогика. 2008. № 5.
Диссертации
• В.Л.Силаева Подмена реальности как социокультурный механизм виртуализации
общества [Руководитель]
Из другого источника:
Багдасарьян Надежда Гегамовна
(р. 18.07.1947) — специалист в области философии и культурологии техники; д-р философских наук, профессор. Окончила исторический ф-т МОПИ им. Н.К.Крупской (1969). С 1969 работает в МГТУ им. Н.Э.Баумана, где до 1987 преподавала историю, а в 1987 создала и возглавила первую в системе отечественную, высшего технического образования кафедру социологии и культурологии. В настоящее время — профессор и заведующая данной кафедрой и одновременно (с 1991) — декан ф-та социальных и гуманиттарных наук. Кандидатская диссертация (по истории, 1977) была посвящена событиям Октябрьской революции в Москве; докторская диссертация — "Профессиональная культура инженера: механизмы освоения" (1998). Область исследования: философское и социололическое образования, культурология техники и инженерной деятельности, языки межкультурной коммуникации.
Багдасарьян разрабатывает концепцию социологического и гуманитарного образования в техническом университетете, выдвигает и обосновывает идею социокультурной компетентности специалиста-инженера как важнейшего условия овладения им профессиональной культурой. Уделяет значительное внимание освоению теоретического наследия П.К.Энгельмейера, явилась инициатором проведения ежегодных (с 1997 г.) Энгельмейеровских чтений в МГТУ им. Н.Э.Баумана. Кроме того, на протяжении последних десяти лет Багдасарьян разрабатываются наиболее актуальные теоретические аспекты культурологического знания, в частности в плане определения предметного поля, структуры и логики самой дисциплины, языка культуры и межкультурной коммуникации, которая понимается не столько как лингвистическая коммуникация в межэтническом аспекте, но как социокультурное взаимодействие в сложноструктурированном пространстве культуры.
Багдасарьян — редактор и один из авторов книги "Культурология в вопросах и ответах". Учебник. Москва—Воронеж, 1998, руководитель авторского коллектива; Технико-технологические инновации в социокультурной динамике России. Материалы III Энгельмейеровских чтений // Под общ. ред. Н.Г.Багдасарьян. М., 1999; ред. кн. "Динамика техносферы: социокультурный контекст". М., 2000. Соч.: Язык культуры // Социально-политический журнал. № 1. 1994; Инновации в ценностных ориентациях студентов. [В соавт.] // Социс. № 3—4. 1995; Профессиональная культура инженера: механизмы освоения. М., 1998; Мир через культуру: Уч. пос. М.: Вып.1—111, 1996—1998; Динамика техносферы: социокультурный контекст. [В соавт.]. M., 2000; Ред., рук. авт. колл. кн. "Культурология". Учебник для техн. вузов. [В соавт.]. М., 2001. 3-е изд.
Источник: http://print.biografija.ru/?id=7061
Алла Баянова
Прошлым мартом Алла Николаевна Баянова отметила 85-летний юбилей своего творчества. Да еще как отметила: дала сольный концерт в Московском театре эстрады! Справочная литература и уважаемые биографы утверждают, что она родилась 18 мая 1914 года, т.е. накануне Первой мировой войны. Но в сценических кругах, тем не менее, поговаривают, что случилось это событие, счастливое не только для родителей, но и для всех, кто любит старинные песни и романсы, несколькими годами раньше. Не будем уточнять, оставив за великой певицей право самостоятельного решения вопроса о возрасте.

…Семья известного оперного певца Николая Левицкого (взявшего артистический псевдоним Баянов из-за любви к известному музыкальному инструменту) незадолго до рождения дочери переехала из Одессы в Кишинев, столицу Бессарабской губернии, а через несколько лет эта территория отошла к Румынии вместе со всем ее населением. Так в самом юном возрасте будущая легенда романса оказалась эмигранткой. Потом отец перевез жену и дочь в Париж, оставил оперную сцену и начал выступать в известном эстрадном театре Никиты Балиева «Летучая мышь», много гастролировавшем по свету. По прошествии некоторого времени Николай Леонардович Баянов решил перейти к более «оседлому образу жизни».
Он ушел из театра и предложил театрализованный номер-балладу «Кудияр» руководству вновь открывавшегося ресторана «Казбек», в музыкальной программе которого участвовали самые известные певцы и танцоры. В этом номере и дебютировала дочь певца, выступая в роли поводыря старца, каявшегося в грехах былой разбойничьей жизни. Причем музыкальный дебют состоялся в результате самовольного поступка Аллы. Ее задача по ходу действия заключалась в том, чтобы временно заменить еще не подобранную кандидатуру мальчика, который должен был сопровождать отца, проходившего через зал на сцену и обратно – по окончании выступления, помогать садиться и вставать, и никак не предполагала певческого участия.
Однако во время паузы в финальной части номера, предварявшей исполнение Н.Л.Баяновым «Вечернего звона», она затянула романс сама, под впечатлением созданного отцом образа, и он начал подтягивать. Через много лет певица вспоминала:
«Что тут началось! Боже мой, что это было: все ринулись к нам, утирая глаза, тискали меня и целовали, мужчины пожимали руки отца и обнимали его. Владелец «Казбека» заявил, что никакого другого поводыря он не хочет, а только меня, что он будет платить за наше выступление, сколько скажет папа, и что вообще я – чудо-дитя и что-то невиданное».
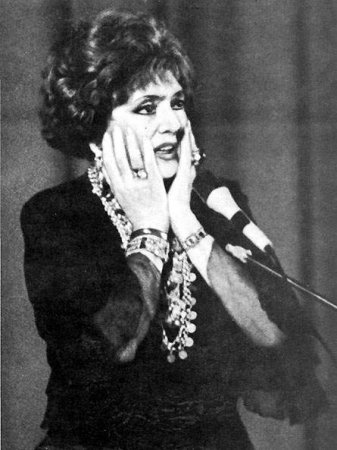 |
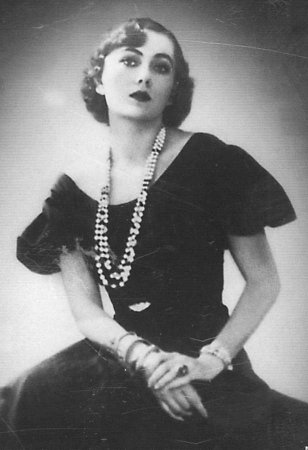 |
Там, в «Казбеке», однажды увидел Аллу Александр Вертинский, сразу же проявивший активное внимание к юной исполнительнице, которая была к тому же еще и несравненно хороша. Обворожительный Вертинский быстро переманил талантливую певунью на парижскую сцену Большого московского Эрмитажа, где выступал сам. Через многие годы, продолжая дорожить дружбой с ним, Алла Николаевна посвятила песню его памяти. А тогда… Неугомонный характер отца не дал ему возможности реализовать собственную же идею жить на одном месте. Семья переехала в Белград, затем в Грецию, Сирию, Ливан, Палестину… пока он не решил вернуться в Румынию – поближе к Родине. В Бухаресте состоялось знакомство Аллы со знаменитым Петром Лещенко, который, открыв собственный ночной ресторан, пригласил ее выступать в нем Аллу. Разумеется, она согласилась и пела там, пока не перешла в театр «Альгамера», где исполняла русские песни.
Взрослея и расцветая, Алла Баянова вызывала восхищение не только изумительным голосом, но и яркой внешностью. В нее влюблялись то князь (погибший вскоре после сделанного предложения руки и сердца), то шейх, и матушка восходившей звезды эстрады тревожилась о ее будущей семейной жизни. Тем не менее, наперекор родительской воле девушка по страстной любви вышла замуж за музыканта Жоржа Ипсиланти. Брак оказался недолгим, но на всю жизнь любимой для певицы осталась одна из песен, написанных для нее этим человеком – «Я тоскую по Родине», со словами пронзительной боли:
| Я тоскую по родине, По родной стороне моей. Я теперь далеко-далеко В незнакомой стране. Я тоскую по русским полям. Мою боль не унять мне без них. И по серым любимым глазам,- Как мне грустно без них... |
В 1940 году наступил черный день, когда Аллу Баянову арестовали и осудили за просоветскую агитацию, каковой посчитали песни. Больше года томилась она в концлагере, пока родители собирали деньги, чтобы выкупить дочь. Но и после освобождения выступать на сцене она не могла, т.к. репертуар не соответствовал идеологии фашистской власти. Зато надлежало ежедневно отмечаться в жандармерии. Один из таких визитов завершился предложением главы силовой структуры «быть ласковой» с ним, а решительный отказ дамы вызвал смех и пожелание «все же подумать». Это так глубоко оскорбило несчастную, что по дороге домой она рыдала и чуть не попала под автомобиль.
 |
 |
Из машины вышел, сильно бранясь, разгневанный мужчина, но, увидев слезы на глазах красавицы, резко поменял тон и спросил: «Кто вас обидел?». А потом отвез домой, представился родителям и… сделал предложение. Это был Стефан Шендри, человек знатный, богатый и влиятельный. Он перевез супругу в свое имение, где доверил вести немалое хозяйство: полутысячное стадо овец, дюжину коров, 400 га земельных и 500 га лесных угодий. Когда в Румынию вошли советские войска, певица вместо клейма большевички, присвоенного ей прежней властью, сразу стала считаться белоэмигранткой. Из имения пришлось бежать, поскольку мужу грозил, с одной стороны, арест, с другой – расправа революционно настроенных крестьян. Скитания по подвалам и чердакам Бухареста закончились тем, что Стефана все же схватили и отправили на каторгу. Через три года он вернулся с совершенно расшатанными нервами, и дома начались скандалы, в результате которых семья распалась.
Зато потом наступил период новой славы. Алла Баянова переводила многие песни советских композиторов на румынский язык, и публика слушала их, затаив дыхание. Да и как же еще можно слушать этот неподражаемый голос, обогащающий любую мелодию! Но и эти времена сменились. Положение в стране становилось все более сложным. Выступать не разрешали, запрещали пользоваться телефоном, отключали то газ, то воду, взвинтили цены на электричество. Наконец, в 1976 году Алле Баяновой удалось побывать в Советском Союзе, куда она всю жизнь стремилась, в составе гастрольного румынского коллектива… Потом еще несколько раз приезжала. Но гражданство советское получила лишь в конце 1980-х.

И с тех пор обретается в Москве. Не потеряла присущего ей чувства юмора, очень любит животных, коих у нее немало: белый терьер Нафиг, колли Люся, названная в честь любимой собаки А.Вертинского, кошка Марьиванна… По-прежнему не любит лекарства и не разбирается в диагнозах. Однажды в радиоинтервью на вопрос «Алла, тебя так давно не видно. Что с тобой случилось?» она ответила: «У меня был перелом шейки матки». А потом еще и удивилась: «Не понимаю, что вы смеетесь?».
И она продолжает выступать на концертах и записывать диски.
Источник: http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-26625/
Шляпки Греты Гарбо
1938 год, Нью-Йорк, Всемирная выставка. Американцы любят делать разные шоу и тут не обошлось без этого - в ходе выставки одним из главных событий стала закладка "капсулы времени" (time capsule), которую должны вскрыть в 6939 году, т.е. через 5 000 лет. Это своеобразное послание будущим жителям Земли - в тело капсулы вложили мужскую курительную трубку, 1100 микрофильмов и ... женскую шляпку. Просто шляпку, тот самый предмет одежды, который сейчас, увы, не каждая женщина умеет носить. Но по меркам того времени ценность шляпки считалась вечной, а девушки, гуляющие с непокрытой головой, нонсенсом. Сейчас же шляпки редко украшают женские головки и смотрятся иногда вычурно и непривычно. Вернемся в те годы, когда шляпки умели носить и с их помощью создавать образы и поможет в этом Великая актриса Голливуда - Грета Гарбо.

Грета Гарбо в шляпке, делающей ее королевой

Романтика широкополой шляпки. Грета Гарбо в образе девушки "Серебряного века".


Женщина-загадка - шляпка, обвязанная воздушным шарфом

Грета Гарбо в шотландской шляпке

Дамская шляпка с полями, у нас, в просторечии, ее называют капором, хотя капор чуть-чуть другой формы.

На этих фото Грета Гарбо вполне может сойти за современную женщину - берет пожалуй единственный из шляпных головных уборов, который моден и по сей день. Правда его носят чуть-чуть иначе сейчас, не так шикарно, как получилось у актрисы.

Маленькая вязаная шапочка. Скромная и украшенная золотой вышивкой. Очень выигрышно подчеркивает красоту Греты Гарбо.

Мужской вариант и опять шикарно и великолепно

А вот и тот самый капор - женственно и совсем по-чеховски.

Великолепная тема с тюрбаном, но этот вариант отлично смотрится на женщинах среднего возраста.

Шляпка-таблетка и... меха. Шик и изящество Греты Гарбо.

Опять мужской вариант шляпки, но и образ создан, судя по всему, женщины-рыцаря.
Вот такая феерия шляпок, к сожалению голливудских. Российские
актрисы таких фотосессий почти не имеют, видимо время было не то, да и
отношение к женщине было несколько иным, но это уже идеология...
Французы говорят: настоящая женщина должна уметь сделать из ничего шляпку,
салат и скандал.
Источник: http://www.botinok.co.il/node/56314
Анастасия Приходько
Анастасия Приходько, завоевавшая любовь
не только российской публики, но и всей Европы, так искренне переживала
неудачу на конкурсе, что после финала ей потребовалась помощь психолога.
Успокаивать Настю пришлось знаменитому на всю страну доктору Андрею Курпатову.
Накал страстей на сцене "Олимпийского" и за ее пределами был
такой, что воде в бассейне, спущенном на зрителей в финале вечера, было
впору закипеть!

Еще бы! Буквально за день миллионы поклонников замечательной певицы Анастасии
Приходько поразило шокирующее известие: на Украине попал в аварию ее отец.
Видимо, это тоже повлияло на выступление Насти. Но она выложилась на все
сто. Все, кто слышал в этот вечер ее неповторимое "Мамо!", едва
сдерживали слезы. Пыталась сдержать их и Настя, но, когда стал известен
результат подсчета голосов, сдерживаться оказалось выше ее сил. И Настя
заплакала...
Конкурс
Многим болельщикам известно, насколько трудно далось "Евровидение-2009" для Приходько. Но выпускница "Фабрики звезд-7" смогла все преодолеть. Ее выступление в финале было действительно великолепным. Однако в этот вечер победу праздновали ее конкуренты. Так уж сложилось, что сказка норвежского Рыбака с вполне российским именем и белорусскими корнями пришлась зрителям по вкусу. Они ждали этого нескончаемого потока позитива - все уже устали от постоянных проблем и надоевшего до чертиков экономического кризиса. Всем так хотелось поверить в сказку.
Переживания
Поток слез разочарования и обиды Анастасии пришлось останавливать Андрею Курпатову. Знаменитый психолог в этот вечер заменил Насте и отца, и мать. Еще во время подготовки к конкурсу Анастасия под руководством доктора работала над собой, а за несколько секунд до выхода на сцену именно Андрей последним пожал ей руку.
- Доктор Курпатов за это время стал для Насти едва ли
не самым близким человеком, - признались LIFE.RU коллеги Приходько. -
Она очень доверяет ему, именно он все это время помогал ей пережить все
неприятности.
Благодаря Андрею и друзьям Насти, девушка сумела справиться с переполнявшими
ее эмоциями.
- Чего ей только ни говорили, чтобы успокоить! - рассказывают
коллеги Приходько. - Победа ведь не главное. Главное было достойно выступить.
Выступила Настя более чем достойно. И эти слезы на самом деле ни к чему:
конкурс ведь все равно наш! Что бы ни говорили завистники, но второй год
подряд лучший певец Европы благодарит зрителей на чистом русском языке!
Источник: http://life.ru/news/91562
Елена Великанова
Она коренная москвичка, но мало кому еще так удались образы провинциалок. Она снялась в эротической сессии для мужского журнала, но порой не соглашается целоваться перед камерой. Она убедила зрителя, что основной инстинкт женщины - материнский, но о своих детях пока не задумывается. Она всегда бралась за главные роли и каждый раз чувствовала, что прыгает в пропасть.

Винни-Пух и фильмы ужасов
- Елена, вы в 16 лет с первой же попытки поступили в
Щукинское театральное училище. Как вам это удалось?
- Наверное, фортуна. Я сама была удивлена.
- Какие мультфильмы вы в детстве любили?
- Про Винни-Пуха - я его и сейчас очень люблю. Про волка, который воет
под столом, прекрасный русский мультфильм.
- Вообще-то, он украинский.
- Ну, Украина тоже когда-то была Россией.
- Миллионы людей на Украине с вами не согласились бы, но я соглашусь.
- Еще «Пластилиновая ворона», «Малыш и Карлсон». А еще мне очень нравятся
американские «Губка Боб Квадратные штаны» и «Саус парк». У меня есть младший
брат, он меня пристрастил к каналу «Никелодион».
- А от «Утиных историй» фанатели?
- Если честно, то нет. Я смотрела и «Чипа и Дейла», и «Утиные истории»,
но они не произвели на меня впечатления. Зато диснеевский мультик про
Питера Пэна был одним из моих самых любимых. Он же стал и первым жизненным
разочарованием – когда я впервые поняла, что все взаимозаменяемо. А ещё
я обожала фильмы ужасов.
Домашний цветок
- Из вашей героини в фильме «Ванечка» материнский инстинкт,
по-моему, просто брызжет. Как вы смогли так сыграть?
- Просто Максим Галкин – малыш, который сыграл роль Ванечки, вызывал у
меня эти инстинкты изнутри, без всякого режиссерского нажима.
- А сами о детях пока не задумываетесь?
- Пока нет.
- Почему вам, коренной москвичке, режиссеры предлагают роли провинциалок,
покоряющих столицу, и почему эти роли вам так удаются?
- Для меня самой это загадка. Это, видимо, моя карма. Я очень люблю свой
город и в первой работе – «Попсе» - постаралась увидеть его новыми глазами,
первозданными, что ли.
- А вы смогли бы приехать в Нью-Йорк, чтобы покорить Бродвей, или в Лос-Анджелес,
чтобы покорить Голливуд, и вести себя так же, как ваша героиня в «Попсе»?
- Ну, если бы и могла, то время для этого ушло.
 |
 |
- Не задумывались об этом никогда?
- Задумывалась, но я, во-первых, консервативна, я не смогу без своей семьи,
без своего города. А во-вторых, мне нравится работать здесь. У меня было
много друзей-провинциалов в институте, на которых я смотрела и не понимала,
как в 16 лет они могут вот так - без мамы, в чужом городе. Я на самом
деле довольно домашний цветок (смеется).
- То есть вы играли непонятные для себя мотивы и поступки?
- Нет, они понятны. Мне бы так хотелось, но то, что я не могу делать в
жизни, я делаю в кино.
Имейте уважение и пишите аккуратнее
- Вы говорили, что к своим работам относитесь очень придирчиво. Каждый
раз видите свои недостатки и очень переживаете. А какие у вас недостатки?
- Каждый раз, когда я начинаю новую работу, у меня чувство,
что я прыгаю в пропасть. Я не знаю, что я смогу, а что нет. Мне всегда
страшно. Хорошо ли это для артиста?
- Вы называли Татьяну Васильеву своим учителем. Это потому, что она была
первой маститой актрисой, с которой вы снимались?
- На съемках «Попсы» она брала меня под опеку, и я ей за это очень благодарна.
И вообще Татьяна Григорьевна замечательная женщина, которая у меня вызывает
бесконечную любовь и уважение.
- А если говорить именно о рисунке образа, то на кого вы ориентируетесь?
- Я обожаю Инну Михайловну Чурикову. Ее вера, искренность, тот ребенок,
который в ней до сих пор живет… Мне бы хотелось бы такой же, как она.
- Некоторые рецензии на «Ванечку» были отнюдь не умиленными,
а как раз наоборот. Вот, например: «Надя кормит младенца черт знает чем,
на последнюю копеечку покупает ему памперсы, истово молится на Луну и
вяло пытается противостоять опекунским органам». «Презрев все жанровые
каноны, фильм соединяет несовместимое: детский понос, аккуратную голую
грудь Алисы Гребенщиковой, религиозную тематику и набатную социалку».
Вы что-нибудь могли бы ответить недоброжелателям?
- Я бы сказала так: просто имейте уважение и пишите аккуратнее, потому
что вы палец о палец не ударили, чтобы этот фильм состоялся. А мы даже
не уверены были, что все получится, потому что взять младенца на съемку
продолжительностью в 30 смен - это уже подвиг. Мы работали по его графику
– если он хотел спать, то он ложился спать, и вся работа останавливалась.
- А что, по-вашему, может в этом фильме раздражать?
- Я даже не хочу ни думать об этом, ни обсуждать.
 |
 |
Ненавижу рассказывать анекдоты
- Сыграть отрицательного персонажа вам не хочется?
- Хочется. Если честно, мне уже надоело мое сложившееся амплуа. Сейчас
у меня будет такой опыт – я буду озвучивать персонажа из диснеевского
мультфильма, злую фею ветра.
- Будете говорить таким противным искаженным голосом?
- Нет, говорить я буду своим голосом. Это первый опыт, мне очень интересно.
- А что вы скажете о «Самом лучшем фильме»? Только откровенно.
(Долго думает.) - Я на сто процентов уверена, что это качественный продукт,
который делался для того, чтобы его купили, и его купили. Некоторые считают
такой юмор аморальным, безнравственным. Да, там есть шутки, которые ниже
пояса, но есть и такие, которые выше головы. Мы все старались, чтобы было
не скучно.
- А по-моему, творческого запала у съемочной группы хватило лишь на первые
полчаса фильма.
- Ну, что ж поделать.
- Вы не раз признавались в любви к «Камеди клабу». А какая их шутка вам
запомнилась и понравилась больше всего?
- Я шуток не помню. Я вообще ненавижу рассказывать анекдоты. Есть люди,
которым дано зарабатывать деньги на юморе, я отношусь немножко к другой
категории.
- Вы до сих пор стесняетесь раздеваться перед камерой?
- Какие-то табу у меня остались. Эротизм может быть и там, где красиво
показывают женскую щиколотку. Поэтому я считаю, что не везде можно целоваться,
где это прописывают в сценарии авторы, и тем более не везде нужен грубый
секс. Я, правда, успела сняться в полуобнаженном виде для журнала «Maxim»
- опять же, с разрешения папы и своего молодого человека. Но я не склонна
к эксгибиционизму и не получаю от него удовольствия.
Патриотичная девочка
- Телевизор часто смотрите?
- Нет, а если и смотрю, то каналы Discovery и National Geografic.
- А журнальчики глянцевые листаете?
- Нет.
- Наверное, книжки читаете?
- Естественно. Сейчас вот перечитываю «Идиота» Достоевского. Кстати, в
том замечательном сериале, который сняли три года назад, я бы с удовольствием
сыграла или Аглаю, или Настасью Филипповну. Даже не знаю, кого больше
хотелось бы.
- Вам хочется поучаствовать в экранизации классики?
- Да. Я, кстати, помню, в 15 лет читала Сомерсета Моэма, его пьесу «Театр»
и восхищалась его героиней Джулией Ламберт.
- Да, махать на сцене платочком, приковывая к себе внимание
зрителей – это большое актерское мастерство.
- Не в платочке дело. Меня восхищало, как эта женщина жила, как она очаровывала
мужчин.
- То есть вы в ее возрасте тоже заведете себе любовника на 25 лет моложе?
Хорошо, что ваш молодой человек вас не слышит.
- Да нет, не заведу. (Небольшая пауза.) А может, и заведу.
- А политическая позиция у вас есть?
- Я патриотичная молодая девочка и верю, что у нас в России все будет
хорошо.
- Не состоите ни в какой организации?
- Нет.
- А если предложат? Вы подошли бы на роль чьего-нибудь символа.
- От меня это далеко, я не хочу этим заниматься.
Дата публикации на сайте: 12.07.2008
Источник: http://www.peoples.ru/art/cinema/actor/elena_velikanova/interview.html
Энн Хэтэуэй
Энн Жаклин Хэтэуэй родилась 12 ноября 1982 года в Бруклине, Нью-Йорк. Джерард Хэттевей, отец Энни, был адвокатом, а мама – Кейт МакКалей – актрисой. «Я выросла в крепкой семье среднего класса: у нас с прочные моральные устои и собственное, глубоко укорененное представление о жизненных ценностях», – говорит актриса. Детство Энни прошло в Нью-Джерси – она с удовольствием играла со своими двумя братьями: их забавы нередко заканчивались ушибами и переломами, но они никогда не теряли присутствия духа. Интересно, что с самого детства жизнь Энни была связана с Англией, и дело не только в том, что ее предками были англичане и ирландцы – особенно тесна её связь с английской литературой: начать хотя бы с того, что Энн Хэттевей – имя жены Уильяма Шекспира!
Вдохновлённая примером матери и, возможно, именем своей знаменитой тёзки, Энни ещё в детстве решила, что станет человеком искусства. Девочка живо интересовалась театром. Она хорошо пела: от природы поставленное сопрано, природная целеустремлённость в соединении с актёрскими способностями – всё говорило о том, что театральная сцена должна радушно встретить юную дебютантку – так и случилось. Энни приняли в театральную труппу, где она с успехом начала исполнять детские роли. И вновь встреча с английской литературой: Энн играет в музыкальном спектакле «Джен Эйр», поставленному по мотивам знаменитой книги Шарлотты Бронте.

Родители не могли допустить, чтобы их дочь полностью посвятила себя актёрской карьере, забыв при этом об учёбе. Энн не противилась воле родителей и окончила школу. Ей хотелось продолжить карьеру на Бродвее, но театральные продюсеры считали её слишком высокой, чтобы играть детей, и в то же время юный облик не позволял ей исполнять роли взрослых. Это не слишком расстроило Энни – она продолжала принимать активное участие в школьных спектаклях и занималась пением. В 1998 году она в составе школьного хора выступила в Карнеги Холл. Спустя несколько дней после этого знаменательного события она прошла пробы на телевидении и была утверждена на одну из ролей в телесериале «Get real». Сериал не задержался в эфире, но молодая актриса успела полюбиться зрителям, а её игра получила хорошие отзывы критиков.
Благодаря участию в телесериале Энн Хэттевей попала в реальность кинематографическую. Она получила главную роль в картине «Дневники принцессы». Её героиня, скромная школьница Миа Термополис, живёт с мамой в Сан Франциско. Неожиданно она узнаёт о том, что после смерти отца, которого Миа никогда не видела, ей предстоит стать наследницей престола маленькой европейской страны Дженовии. Жизнь обычного американского тинейджера от жизни принцессы находится на непредставимо большом расстоянии, преодолеть которое можно только под чутким руководством царственной бабушки – королевы Клариссы Ринальди – эта роль досталась знаменитой Джулии Эндрюс.
 |
 |
Съёмочная площадка «Дневников принцессы» оказалась хорошей школой для молодой актрисы. Во-первых, совместная работа с Джулией Эндрюс дала ей возможность многому научиться у опытной актрисы, у которой за плечами множество любимых несколькими поколениями зрителей фильмов. Во-вторых, режиссёром картины выступил Гарри Маршалл – автор знаменитых «Человека за бортом», «Красотки» и «Сбежавшей невесты». Будучи мастером мелодраматических комедий, Маршалл не мог не добиться от Энн Хэттевей лучшей игры, которую она могла показать. В одном из интервью Маршалл сказал: «Многогранный талант Энн Хэттевей – это сочетание Джулии Робертс, Одри Хепбёрн и Джуди Гарланд». В какой-то мере это можно считать слишком щедрым комплиментом, но в одном режиссёр оказался прав – лучшей кандидатуры на роль принцессы было не найти. Когда в 2001 году фильм вышел на экраны, Энн Хэттевей очаровала не только народ Дженовии, но и миллионы кинозрителей.
В официальной фильмографии Хэттевей фильм «Глаз Бури» (реж. Митч Дэвис) стоит после «Дневников принцессы». Занимателен тот факт, что сразу после проб на роль Мии в картине Маршалла, Энн отправилась на съёмки «Глаза бури» в Новую Зеландию. Там она рассказала о том, что прошла пробы весьма успешно. Продюсеры, предвидя успех истории Мии Термополис, решили дождаться выхода «Дневников…» на экраны и лишь после этого выпустили в прокат «Глаз бури». Теперь в приключенческой драме играла не просто начинающая одарённая актриса, а уже заявившая о своём стремительном восхождении на голливудский небосклон молодая звезда.

Энн решила продолжить образование и поступила в колледж «Вассар», где всерьёз занялась изучением английской литературы. «Время, проведённое в колледже, прекрасно тем, что ты учишься быть взрослым человеком», – говорила Энн Хэттевей. «Вассар» когда-то окончила одна из её любимых актрис, Мерил Стрип: спустя несколько лет они встретятся на съёмочной площадке. В 2002 году актриса озвучила одну из ролей в английской версии японского анимационного фильма «Возвращение кота» (реж. Хироюки Морита). И вновь классика английской литературы и новая роль Энн Хэттевей. В 2002 году в фильме «Николас Никлби» (реж. Дуглас МакГрет), экранизации знаменитого романа Чарльза Диккенса, она замечательно сыграла роль беззащитной и кроткой Маделайн Брэй. В следующем своём фильме Энн Хэттевей возвращается к принесшей ей успех комедийной сказке. По сюжету «Заколдованной Эллы» (реж. Томми О’Хейвер) героиня Хэттевей наделена даром повиновения и беспрекословно выполняет любой приказ всякого человека – она всеми силами стремится избавиться от чар и в конце концов, пережив множество приключений и злоключений, обретает своё счастье.

В Голливуде судьба многих успешных фильмов достаточно предсказуема: рано или поздно у них появляется продолжение. Продюсеры решили, что дневники принцессы до конца не дописаны. И дружная компания в лице Энн Хэттевей, Джулии Эндрюс и под руководством Гарри Маршалла принялась за работу, результатом которой стал фильм «Дневники принцессы 2» (2004). В это же время Энн предложили сняться в «Призраке оперы», но из-за невозможности совместить съёмки в двух фильмах от общения с призраком пришлось отказаться. Она с головой окунулась в новые жизненные перипетии уже повзрослевшей Мии Термополис, которая встречает первую любовь. И доказала, что выросла как актриса: ее игра, не утратив столь свойственного юности очарования непосредственности, стала более точной и глубокой.
Энн с удовольствием соглашается озвучить главную роль в полнометражном мультфильме «Правдивая история красной шапки» (2005 реж. Кори и Тодд Эдвардс). Её популярность растёт с каждым днём: публика и журналисты хотят узнать побольше о её жизни. На просьбу журналиста назвать своего любимого литературного героя Хэттевей отвечает: «Элизабет Беннет»; воистину, знаменитая героиня Джейн Остен вдохновила не одно поколение молодых женщин. Стремясь играть разноплановые роли, Хэттевей снимается в фильме «Крэйзи» (2005, реж. Барбара Коппле). В этой истории нет ни принцесс, ни королевских балов, но есть наркодилеры и ужас криминального мира.
О своей следующей роли актриса говорит: «Я горжусь этим фильмом больше, чем всем, что мне удалось создать до этого». Ей, действительно, удалась роль Ларин в «Горбатой горе» (2005). История любви двух ковбоев повествует о сложности человеческой натуры, неоднозначности взаимоотношений людей. Фильм получил «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, был награждён четырьмя «Золотыми глобусами», в том числе «за лучшую режиссуру» и «лучший фильм – драму». Лучшим режиссёром признала Энга Ли и Американская киноакадемия, вручив ему «Оскар». После драмы настал черёд комедии. «Дьявол носит Prada» (2006, реж. Дэвид Фрэнкель) стал совместной работой с Мерил Стрип. Энди (Хэттевей) получает должность второго заместителя редактора модного журнала и изо всех сил старается проявить свои таланты и доказать своему дьявольски суровому боссу (Стрип), что способна добиться успеха в этом бизнесе.

И вот пришло время вновь обратиться к литературе. В следующем году ей предстоит сыграть роль молодой Джейн Остен в фильме «Становясь Джейн» (реж. Джулиан Джеррольд). Энн долго не соглашалась на участие в этом в фильме, сомневалась, что сможет перевоплотиться в знаменитую писательницу. Говорят, что решение сниматься в картине она приняла лишь после разговора с Энгом Ли. К его доводам Энн не могла не прислушаться: ведь он не только прекрасно знает её актёрские возможности после работы над «Горбатой горой», но ещё и снял «Разум и чувства» по роману Джейн Остен с Кейт Уинслет и Эммой Томпсон – двумя любимыми актрисами Энн Хэттевей. В новом фильме несомненно будет любовная линия. И можно не сомневаться, что Энн Хэттевей, воплощая на экране образ писательницы, докажет справедливость слов внучатых племянников Джейн Остен – Уильяма и Р. А. Остен-Ли, сказавших: «То, что жизнь Джейн Остен была не богата событиями – это большое преувеличение».
Источник: http://video.olympus.ru/person/757/
Алла Назимова
Сегодня мы говорим о забытой легенде немого голливудского кино - Алле Назимовой. Ее творческая карьера, на первый взгляд, может показаться идеальным воплощением американской мечты. Невысокая, хрупкая актриса МХАТа стала звездой бродвейских театральных шоу, самой высокооплачиваемой актрисой голливудской киностудии «Метро Голдвин Майер», она финансировала собственные проекты и играла, естественно, главные роли, контролировала буквально всё – от сценария до подбора актеров на второстепенные роли. Недоброжелатели завидовали ее энергии и таланту, остальные – боготворили. Ее называли второй Дузе, а Теннеси Уильямс, еще студентом видевший ее в «Привидениях» Ибсена, признавался: «Эта было одно из тех незабываемых впечатлений, которые заставили меня писать для театра. После игры Назимовой хотелось для театра существовать».

Алла Назимова родилась 130 лет назад в Ялте в семье зажиточного еврейского аптекаря Якова Левентона и домохозяйки Сони Горовиц. Настоящее ее имя – Аделаида Левентон. Она была третьим ребенком в семье. В раннем детстве все её звали Адель, но мама решила, что имя Алла более подходит ее дочери. Позднее семья переселилась в Швейцарию. Маленькая Алла рано проявила музыкальный талант и в 7 лет уже училась игре на скрипке. После развода родителей и повторного брака отца семейство Левентон вновь возвратилось в Ялту. В России у Аллы проявился драматический талант. В отсутствие отца, который не разделял пристрастия Аллы и был очень суров, она пробиралась в его аптеку и развлекала служащих и клиентов. Когда Алле исполнилось 15 лет, отец отправил ее в Одессу для дальнейшего обучения музыке.

После смерти Якова Левентона Алла юридически была поручена заботе старшего брата, который препятствовал ее желанию учиться театральному искусству в Москве. Наконец, когда ей исполнилось 17, он смягчился, и Алла оказалась в Москве. Здесь она поступила в актерскую академию и проучилась в ней три года. Учеба начинающей актрисы проходила в уникальный период: два талантливых деятеля искусства - Станиславский и Немирович-Данченко – организовали Московский Художественный театр, на сцену которого и попала молодая актриса. Однажды, прочитав роман “Дети улиц”, она взяла себе фамилию главной героини романа Надежды Назимовой.

После неудачного любовного романа Алла Назимова покинула театр и второпях вышла замуж за студента Сергея Головина. Но этот брак только назывался браком. Позднее Алла играла в театрах Кисловодска и Костромы. В Костроме она влюбилась в легенду театра Павла Орленева. В 1904 году их труппа получила разрешение на турне по Европе и отправилась в Берлин. Оттуда они переехали в Лондон. Труппа исполняла пьесы М.Горького и А.Чехова, и звездой сцены стала именно она, Алла Назимова. Успешное выступление в Лондоне послужило причиной приглашения Назимовой, Орленева и части труппы в Нью-Йорк. И здесь игра Назимовой была высоко оценена критиками.

Актеры поставили класические пьесы Чехова и Ибсена. Несмотря на успехи Орленева на российской сцене, здесь обратили внимание на яркую игру Аллы Назимовой, и она подписала контракт с одним из нью-йоркских театров, а остальные актеры вернулись в Россию. Для начала Алле пришлось изучать английский язык, и затем в течение следующих нескольких лет она была ведущей актрисой нью-йоркского театра. Поскольку ее известность росла, Алле стали предлагать роли в кино, и вскоре она стала одной из самых известных актрис в Голливуде. У мужчин, когда они смотрели на Назимову - одну из первых сексуальных кинобогинь Голливуда, учащался пульс, хотя сама она была лесбиянкой и даже соблазнила первую жену Чарли Чаплина, Милдред Харрис, ускорив их развод. Алла Назимова окружила себя в знаменитом “Кружке шитья” лесбиянками и учила уму-разуму новеньких, только что попавших в Голливуд.

Одновременно она проявляла платонический интерес к голливудским звездам-гомосексуалистам, снабжая их партнершами, если их сексуальной ориентации грозило разоблачение. Когда поползли слухи (не подтвердившиеся) о том, что Рудольф Валентино предпочитает юношей, Назимова устроила ему брак с Джин Акер, одной из своих приятельниц. Брак был, конечно, чистой формальностью: от супругов не требовалось смены сексуальной ориентации. Сама Назимова тоже пожертвовала собой: вышла замуж за актера-гомосексуалиста Рамона Наварро. В конце 20-х годов Алла оставила кинематограф, чтобы полностью посвятить себя сцене. В начале 40-х годов по финансовым причинам она снова вернулась в Голливуд, где играла роли второго плана вплоть до 1944 года. Излечившись от рака груди, великая актриса умерла в результате инфаркта 13 июля 1945 года в Лос-Анджелесе. В ее честь на голливудской Аллее славы красуется звезда Аллы Назимовой.
Материал предоставлен Хаимом Шварцем (Нетания, Израиль)
Эдит Штайн
В августе 1942 г. в Освенциме погибла Эдит Штайн,
по крови еврейка, по вере – христианка, монахиня ордена кармелиток, причисленная
спустя полвека папой римским к лику святых.
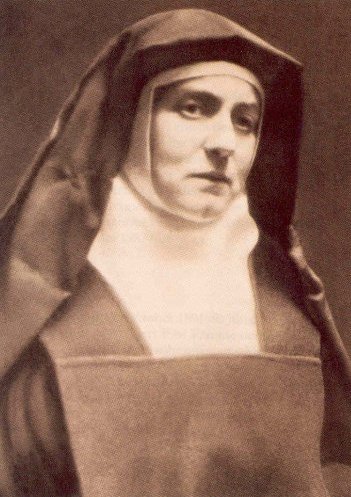
Бегство к атеистам
Торговец лесом Зигфрид Штайн и его жена Августа были уважаемыми членами иудейской общины силезского Бреслау (ныне польский Вроцлав). Эдит, родившаяся 12 октября 1891 г., оказалась самой младшей в их многодетной семье. Отец скоропостижно скончался, когда девочке не исполнилось и двух лет, и его вдове пришлось заняться лесоторговлей, чтобы обеспечить детям достойную жизнь и дать хорошее образование. Августа успешно вела дела (сумела даже приобрести со временем дом), исправно посещала синагогу и надеялась, что ее дети унаследуют веру предков.
Увы, светское образование сделало их довольно равнодушными
к религии, что крайне огорчало Августу Штайн, дожившую до 87.
Младшая дочь была самой способной и с детства жила в поисках некой главной
жизненной истины. В 14 лет блестящая ученица неожиданно бросила школу
и провела год в Гамбурге, в семье одной из замужних старших сестер. Сей
поступок она позже объясняла метаниями переходного возраста. Домой вернулась
весьма повзрослевшей атеисткой и, окончив гимназию, поступила в университет,
где изучала психологию, увлеклась модным в ту пору движением за раскрепощение
женщин и познакомилась с феноменологией Эдмунда Гуссерля.
Ассистент Гуссерля
Этот гёттингенский профессор выдвинул принцип «Zu den Sachen» («К вещам») и призывал своих учеников сообразовываться с «вещами» («феноменами»), к которым относил даже вопросы любви и веры. Не столько философия, сколько, пожалуй, проникающий в суть явлений острый ум Гуссерля произвел на Эдит Штайн неизгладимое впечатление. Она перебралась в Гёттинген и всю жизнь считала Гуссерля своим учителем. Тот быстро оценил способности Эдит и сделал ее одной из своих главных помощниц. Под его руководством студентка-философ блестяще защитила диплом, и профессор стал готовить ее к преподавательской работе.
Однако грянула Первая мировая война, и Эдит два года добровольно работала в тифозном лазарете в Мериш-Вайскирхе, неподалеку от Карпатского фронта. Здесь она досконально познала еще один «феномен» – человеческоe страданиe. Иногда ей приходилось бывать в католических церквях, где она слышала тихие простые молитвы женщин, призывающих Христа уберечь их ближних. Такое интимное общение с Христом было непохоже на отвергнутый ею ритуал общения с Всевышним в синагоге и заставило Эдит вновь задуматься над своим отношением к «феномену» религии.
Но более всего ее атеизм поколебала беда в доме близких друзей. С Адольфом Рейнахом она познакомилась еще в Гёттингене. Он был правой рукой Гуссерля и помогал ему в работе со студентами. Эдит подружилась и с его женой Анной. По возращении на кафедру ей сообщили, что Адольф убит на фронте во Фландрии. Помогая Анне подготовить к печати неопубликованные работы молодого философа, Эдит узнала, что незадолго до ухода Адольфа на фронт супруги приняли крещение (оба были евреями). В момент беды вера словно преобразила ее подругу (вдову Адольфа). Впервые Эдит увидела, какую силу может дать скорбящим вера в искупительную крестную смерть Христа, которая помогла Анне пережить гибель мужа.
Позже Эдит Штайн записала в дневнике: «Это было моей
первой встречей с Крестом, с той божественной силой, которую Крест дает
несущим его… В тот миг мое неверие пало…» Позже, став монахиней, она добавила
слово «Крест» к своему новому имени.
Вернувшись на кафедру, Эдит приняла предложение Гуссерля, получившего
назначение во Фрайберг, уехать туда с ним. В том же 1916 г. Штайн защитила
диссертацию на тему «О проблеме проникновения в сущность» (Zum Problem
der Einfuhlung) и стала ассистентом Гуссерля. Получив степень доктора
философии, она подала документы на должность университетского доцента.
Несмотря на блестящую рекомендацию учителя, ей отказали (просто в то время
в Германии на такие должности женщин практически не принимали).
Вслед за служебной неудачей последовала личная. Эдит была влюблена в Ханса Липпса, тоже ученика Гуссерля, и надеялась на ответное чувство. Увы, Липпс так и не сделал ей предложения, тем самым еще больше погрузив Эдит в мрачные размышления о смысле жизни. Наука уже не могла объяснить ей многие «феномены», и она записала в дневнике: «Когда разум познает свои собственные пределы, гордыня ломается, сменяется отчаянием, преклоняется перед таинственной истиной и с верой смиренно принимает то, что естественная работа разума не может постичь». Позже она еще глубже осознала суть своих метаний: «Кто ищет истины, ищет Бога – ясно ему это или нет».
Истина Терезы Авильской
Путь к обращению в христианство занял еще четыре года. Поиски истины завершились летом 1921 г., когда Эдит гостила у друзей в Пфальце. Супруги Теодор Конрад и Хедвиг Марциус, как и она, были философами, учениками Гуссерля. В их домашней библиотеке Эдит обнаружила небольшой трактат с жизнеописанием святой Терезы Авильской, реформировавшей католический орден кармелитов в XVI в. (чуть позже того времени, когда начал свою Реформацию Мартин Лютер). Эта святая в одночасье стала кумиром Эдит Штайн и определила всю ее дальнейшую жизнь.
Несколько слов об ордене кармелитов. В пещере горы Кармель (на окраине нынешней израильской Хайфы) когда-то скрывался библейский пророк Илия (Элияху). Ныне эта пещера – объект общего поклонения иудеев и христиан. Там, в Палестине, на горе Кармель, в разгар крестовых походов, в середине XII в., крестоносец Бертольд из Калабрии основал монашескую общину со строгим уставом, предусматривающим изнурительные посты и обет молчания. Позже крестоносцев и немало основанных в Палестине орденов вытеснили в Европу, куда перебрались и кармелиты. Папа Римский, утверждая в XIII в. устав ордена, несколько смягчил его слишком жесткие каноны и придал ордену статус нищенствующего. А в середине XV в. получил официальный статус и женский монашеский орден кармелиток.
Вскоре среди членов ордена разгорелась нешуточная борьба. Одни были сторонниками предложенных главой Католической церкви смягченных правил для кармелитов. Другие настаивали на возвращении к строгому обряду основателя ордена. Так как одним из канонов было полное затворничество в монастыре, где монахи и монахини не могли пользоваться даже обувью, приверженцев жесткого аскетизма стали именовать «босыми» кармелитами (кармелитками).
Главным реформатором женского ордена кармелиток стала монахиня Тереза из испанской Авилы. Она основала в Испании немало женских монастырей. Претерпела гонения от «обутых» кармелитов, но от жесткого аскетизма не отказалась. В родной Авиле Тереза основала в 1562 г. первый монастырь «босых» кармелиток (монастырь святого Иосифа), где провела последние 20 лет жизни. Мало того что монахини отказались от любого личного имущества. Их затворничество было поистине удивительным. С мирянами они общались лишь «бесконтактным» способом, через перегородку, снабженную вертушкой. На вертушку клали любые письма, посылки, после чего ее поворачивали на 180°, и принесенное в монастырь оказывалось по другую сторону перегородки. Мистическое отречение от внешнего мира звучало и в трудах, написанных Терезой в монастыре.
За напряженные духовные искания во благо Церкви Ватикан не только причислил ее к лику святых, но и удостоил звания «Учитель Церкви». К «лику учителей» за всю историю Католической церкви были причислены лишь 29 подвижников, среди которых только одна женщина – Тереза Авильская. Своим отречением от земных благ и благородной миссионерской деятельностью она сумела несколько обелить испанских католиков, запятнавших себя изгнанием из страны евреев и кострами инквизиции. Повторить ее монашеский подвиг Эдит Штайн мечтала со дня своего крещения.
Тереза, благословленная Крестом
Этот день наступил 1 января 1922 г., когда Эдит Штайн крестилась по католическому обряду там же, в Пфальце. Ей свойственны были импульсивные решения, и она планировала сразу уйти в монастырь кармелиток. Однако духовный наставник Эдит потребовал, чтобы она несколько лет послужила Церкви, не принимая монашеский постриг. Генеральный викарий епископа Шпайера нашел ей в своем городе место учительницы в школе доминиканок монастыря святой Магдалины, где она восемь лет преподавала немецкий язык и историю, занимаясь одновременно самообразованием в области христианской философии.
В эти годы Эдит Штайн пишет статьи, рецензии, читает доклады, выступает на радио, выпускает «Жизнь святой Терезы Авильской» и еще несколько книг. Она переводит дневники кардинала Ньюмана и труд Фомы Аквинского «Quaestiones disputatae de veritate» («Исследования истины»). Именно святой Фома помог понять новой христианке, что «наукой можно служить Богу». Ее авторитет как ученого-философа растет, и в 1932 г. Эдит получает место доцента Германского института педагогики в Мюнстере. С момента крещения она ведет благочестивую жизнь: ежедневно причащается, молится вместе с сестрами-доминиканками из монастыря святой Магдалины.
Строго постится, готовя себя к грядущему уходу в монастырь кармелиток. Страстную и Пасхальную недели (начиная с 1928 г.) проводит в бенедиктинском аббатстве Бойрон (на Дунае между Тутлингеном и Зигмарингеном), где на Пасху всю ночь не покидает часовни. Аббат Бойрона Рафаэль Вальцер становится ее духовным руководителем. Позже он вспоминал о своей духовной дочери: «Редко я встречал человека, который соединял бы в себе столько высоких качеств. Мистически одаренная, она была простой с простыми людьми, образованной с образованными, с ищущими – ищущей, я бы даже мог сказать, с грешниками – грешницей».
Августа, мать Эдит, восприняла ее переход в христианство как личную трагедию. Эдит попыталась смягчить конфликт и, посещая дом матери, несколько раз сопровождала Августу в синагогу, где, правда, псалмы читала по-латыни. Всё тщетно. До конца своих дней мать так и не смогла понять, почему дочь предпочла Христа вере еврейских предков.
Пришедший к власти Гитлер вскоре запретил евреям занимать какие-либо общественные должности, тем более работать на ниве просвещения немецкого народа. Эдит Штайн решила, что пришло время исполнить давнюю мечту – стать кармелиткой. Она пишет в дневнике: «Не может быть призвания выше, чем sponsa Christi (невеста Христа), и кто видит этот путь для себя открытым, не будет стремиться ни к чему иному». Она надеется, что монашеская жизнь станет «единственным возможным утолением женской жажды любви». Болезненным было прощание с семьей. Когда (по воспоминаниям Штайн), уходя на вокзал, она оглянулась на дом, «в окнах никого не было».
В октябре 1933 г. Эдит Штайн стала добровольной затворницей монастыря «босых» кармелиток в Кёльне, выбрав при постриге имя Тереза Бенедикта Креста (Teresia Benediсta a Cruсe – «Тереза, благословленная Крестом»). К удивлению Эдит, среди многочисленной родни у нее оказалась тайная поклонница – старшая незамужняя сестра Роза. После смерти матери (в 1936 г.) она вслед за Эдит приняла постриг в том же кёльнском монастыре кармелиток. Для самой же Эдит Штайн в монастыре началась новая жизнь. Монастырское начальство не запрещало сестре Терезе продолжать занятия религиозной философией, и здесь она переработала один из самых капитальных своих трудов «Конечное существо и вечное Существо».
Восхождение на Голгофу
Руководство Католической церкви хотя и заключило с Гитлером конкордат о «нейтралитете», всё с большей тревогой наблюдало за низвержением европейского христианства и преследованиями евреев. После погромов «Хрустальной ночи» (в ноябре 1938 г.) было решено перевести монахинь еврейского происхождения из Германии в более безопасную (как тогда казалось) Голландию. Эдит и Роза Штайн оказались в монастыре кармелиток голландского города Эхте. Здесь Эдит работала над книгой «Scientia Crucis» «Наука Креста» – о святом Иоанне Креста (San Juan de la Cruz), испанском мистике, сподвижнике Терезы Авильской по реформации кармелитского ордена. Эту книгу дописать до конца она не успела.
Когда в 1942 г. нацисты приступили к «окончательному решению еврейского вопроса», они поначалу не тронули укрывшихся за стенами монастырей. Однако после того как голландский епископат заявил протест против депортации голландских евреев, гестапо арестовало и христиан-евреев, принявших монашеский постриг. 2 августа были арестованы и сестры Штайн. Когда эсэсовцы забирали их из монастыря, Эдит сказала сестре: «Пошли, мы идем за наш народ». Сначала их вместе с другими евреями-католиками отправили в лагерь Вестерборк, а оттуда – в Освенцим. Немногие выжившие в нацистских концлагерях позже вспоминали, что видели двух монашенок, оказывавших посильную помощь детям и успокаивавших бившихся в истерике женщин. В газовую камеру женского лагеря Аушвиц-Биркенау сестры Штайн проследовали, предположительно, 9 августа 1942 г.
Канонизация
Когда после войны мир был потрясен открывшейся в полном объеме информацией о жертвах Холокоста, у Гитлера не осталось посмертных шансов хоть на какое-то оправдание историей. В столь же безнадежном положении перед судом истории оказался в начале 1960-х и Сталин, когда все узнали о масштабах депортации целых народов. Не счесть написанного о трагедии европейских евреев и российских немцев. Уголовному преследованию подвергаются граждане, пытающиеся отрицать сам факт Холокоста.
Немало дискуссий ведется о роли Христианской церкви в годы Второй мировой войны. Сподвижники Гитлера осуждены. По поводу молчавших споры продолжаются. Особенно они усилились в последние месяцы в связи с решением Ватикана причислить к лику святых Папу Пия XII, находившегося на римском престоле в годы войны. Сторонники его канонизации доказывают мужество Папы, своим нейтралитетом не допустившего окончательного разгрома Католической церкви, а также приводят примеры тайного спасения католиками тысяч евреев. Противники канонизации приводят лишь один, но главный контраргумент: архивы Ватикана, относящиеся к периоду 1939–1945 гг., до сих пор закрыты для общественности.
Неоднозначную реакцию как христиан-католиков, так и евреев
вызвало решение покойного Папы Иоанна Павла II канонизировать Эдит Штайн.
Евреи не понимают, чем она отличается от остальных миллионов своих соплеменников,
погибших в концлагерях. Оппоненты-католики, относясь к ней с огромным
уважением, утверждают, что она не соответствует требованиям, предъявляемым
Католической церковью к своим святым.
Об этих требованиях и самом процессе канонизации необходимо сказать несколько
слов. Сначала о процедурных вопросах. Избранников для причисления к лику
святых сначала беатифицируют (провозглашают блаженными, но не ранее, чем
через пять лет после их смерти) и лишь спустя еще несколько лет канонизируют
(провозглашают святыми). В отдельных случаях Папа Римский может своим
личным решением ускорить указанную процедуру по срокам.
Так, Иоанн Павел II досрочно канонизировал мать Терезу, а нынешний глава Римской церкви Бенедикт XVI пытается заметно ускорить процесс канонизации своего предшественника. С точки зрения сроков в случае с Эдит Штайн процедура не была нарушена. Ее беатифицировали в 1987 г., а канонизировали в 1998 г. Сложнее с выполнением других требований. В процессе канонизации необходимо представить доказательства минимум двух «чудес», произошедших обязательно уже после смерти причисляемого к лику святых. Так, ныне пытаются оспорить одно из «чудес», приписываемых Иоанну Павлу II. Речь идет об истории с излечением одного американца, у которого была опухоль мозга, но после причастия у покойного понтифика она исчезла. Само «чудо» не отрицается. Возражают лишь по поводу того, что оно произошло при жизни, а не после смерти главы Римской церкви.
Автору очерка неизвестно, какие «чудеса» конкретно легли в систему доказательств канонизации Эдит Штайн. По поводу отношения к «святым» кардинальные расхождения даже у самих западных христиан (протестанты отрицают «святых» со времен Лютера). Однако, если «святость» выдающейся личности трактовать не с позиций церковных канонов, а в расширительном смысле, то хочется полностью признать правоту Иоанна Павла II. Страшным откровением явилась казнь просвещенными гестаповцами (в большинстве своем крещеными христианами) монашенки-христианки только за то, что в ней текла еврейская кровь. Этим нацисты «переплюнули» даже средневековых борцов с иноверцами (те иногда щадили перешедших в христианство).
Ценность личностей оценивают по масштабу деяний и примеру для подражания, который они демонстрируют прожитой жизнью. Эдит Штайн, пришедшая от неверия к вере, воодушевляет заняться обретением собственной «истинной веры» (во Всевышнего, познание непознанного, просто в добро или любовь). Авторитет Эдит Штайн с каждым годом возрастает. В нескольких странах уже существуют общества Эдит Штайн. Ученые и писатели посвящают ей статьи и книги; художники и скульпторы – свои произведения. Один из лучших памятников Эдит Штайн сравнительно недавно воздвигнут в Кёльне, неподалеку от монастыря кармелиток, где несколько лет прожила затворницей сестра Тереза.
В этом памятнике воплощен рассказ о ее метаниях в поисках истины (задняя фигура с расчлененной головой, а на переднем плане фигура юной атеистки, лишь по традиции опирающейся на огромную звезду Давида). В качестве главной, третьей, фигуры – зрелая Эдит Штайн, твердо идущая навстречу своему избраннику Христу, чтобы, как и Он, уйти из земной жизни, но не отречься. Рядом с отпечатками следов и терновым венцом Христа следы тысяч пронумерованных узников, идущих к своей гибели (отдельно отмечен след Розы Штайн). И груда обуви, аккуратно собранная палачами для «вторичного использования». Важным нюансом является то, что среди этой обуви есть и послевоенные образцы. Скульптор как бы намекает: «Будьте бдительны, чтобы подобное не повторилось!»
Автор: Феликс ГИМЕЛЬФАРБ
Источник
Ирина Лобачёва
Ира, ваша пара долгие годы выглядела образцовой. В чем
же причина разрыва? Кто-то кому-то стал изменять?
– Я – никогда. Для меня это исключено, я очень верная женщина. И Илья
не сомневался в моей верности. Долгое время и я в его тоже. Но постепенно
муж стал приходить домой все позднее, отсутствовал все дольше. А потом
до меня стали доходить слухи. «Добрые» люди звонили и докладывали все
подробности его похождений. «Друзей» у спортсменов много. Конечно, и на
ледовом шоу «Первого канала» все были в курсе ситуации, шушукались за
моей спиной. Я наивно надеялась, что все пройдет, что Илья придет в себя,
вспомнит наконец о том, что у него есть сын. Но не дождалась, у меня просто
не хватило сил… В один прекрасный день принесла ему на шоу повестку в
суд и сказала: «Все!» Для Ильи это было неожиданно: официально разводиться
он не хотел, сказал: «Давай подождем». Меня начали совестить: «Как ты
могла так поступить?! Илья сейчас на самом пике карьеры».

Вы пытались обсудить ситуацию с мужем?
– Пыталась. Но у Ильи есть такая черта характера: когда он понимает, что
делает чтото не так, он улыбается. И он в ответ на мои попытки поговорить
просто улыбался. Нервно. И молчал. Началось все еще во время первого ледового
проекта, сыну тогда было три с половиной года. Илья пришел домой и вдруг
сказал: «Давай поживем отдельно». Для меня это был удар. Но собрав волю
в кулак, я ответила: «Хочешь? Хорошо, давай поживем». До сих пор не знаю,
как перенесла все это. Наверное, меня спас Мартин. И еще работа – на ледовом
проекте надо было кататься, да и за свою детскую спортшколу я взялась
изо всех сил. Пахала там как проклятая. Домой приезжала просто мертвая
и падала.
Илья совсем отдалился. После первого ледового проекта не взял меня в тур.
Сказал: «Тебе надо работать, иначе потеряешь свою спортивную школу». А
потом добавил чудовищно откровенно, как отрезал: «Я с тобой работать не
буду. И кататься не буду. Не хочу!»
После его возвращения из тура все же попыталась реанимировать наши отношения.
Пришла к Илье и сказала: «Давай попробуем все заново». Он согласился,
и мы снова сошлись на несколько недель.
Вроде бы он вернулся. Но как?! Утром уйдет из дома, в
три часа ночи придет – вот такое возвращение в семью. В этот период я
опять забеременела. Честно скажу, Илья не хотел этого ребенка. А я очень
хотела. Но стресс всетаки дал о себе знать. На девятой неделе беременности
я вдруг почувствовала себя очень плохо и поехала в больницу. Там сказали:
«Все, плод оторвался от плаценты. Жизнедеятельность уже нарушена». И положили
на хирургическое кресло… Илья был в отъезде, обещал приехать, но не приехал.
Вернувшись из своей поездки, Илья снова сказал: «Хочу жить отдельно».
На что я ответила: «Все, подаю на развод». У меня не было другого выхода.
Я уже начала срываться на Мартина. Была близка к тому, чтобы сойти с ума
самой или свести с ума ребенка… Мы сходили в суд, там нас пытались помирить,
но мы в один голос сказали: «Нет!» – и написали заявление. Потом, обсудив
наши финансовые взаимоотношения, решили обойтись без официального оформления
алиментов и… разошлись в разные стороны. Я рада, что разорвала гордиев
узел…
«Мы знакомы с 7 лет»
Как Илья появился в вашей жизни?
– Встретились мы, когда нам было по семь лет: мы катались у одного тренера.
Илью на каток привела мама, а я туда попала случайно. Все время болела
ангинами, и врач посоветовал чаще бывать на свежем воздухе. Мы жили в
пригороде, уезжала я из дома в шесть утра, чтобы к восьми успеть на тренировку,
потом ехала в школу, а после уроков возвращалась на тренировку и в раздевалке
делала уроки. Все сама, без взрослых. У меня уже были знакомые машинисты
электричек, к которым я забиралась в кабину, и спала там или читала. А
мама в 12 ночи встречала меня на станции. И ведь никто не заставлял заниматься
фигурным катанием – я сама очень хотела. Я была вся из себя такая правильная,
выполняла все, что говорил тренер. Он по мне буквально засекал время и
всех равнял. За это меня ненавидели и часто устраивали бойкоты.
А как вы начали кататься с Ильей?

– Сперва мы с Ильей тренировались в одиночном катании.
Я – до 15 лет, а он чуть раньше ушел в танцы. Позже и мне пришлось перевестись:
начались проблемы с коленями, и врачи запретили прыгать. Сказали: «Либо
иди в танцы, либо совсем уходи». И мне пришлось встать в пару с мальчиком
из Одессы. Он стал не только моим первым партнером, но и первым мужчиной.
Мне тогда исполнилось 16 лет, Олегу – 18. Роман наш был серьезный, продолжался
года три. Доходило и до разговоров о свадьбе. Ждали только моего совершеннолетия.
Но потом возлюбленный оставил большой спорт и уехал учиться в Одессу.
Какое-то время я часто к нему приезжала, но постепенно встречи сошли на
нет.
Затем у меня появился еще один партнер – Алексей Поспелов. Мы с ним участвовали
в международных соревнованиях. Но вскоре он уехал в Швейцарию и там потихонечку
завязал со спортом. «Ну и ладно, – успокаивала я себя. – Ничего страшного,
пойду в «Балет на льду» – все лучше, чем болтаться одной».
И тогда в моей жизни вновь появился Илья. Наш тренер Наталья Линичук решила поставить нас в пару. А у нас с Ильей как раз начали завязываться отношения. Нет, никаких «ах, увидел и влюбился» не было. Общались по-дружески, осознавали, что нам интересно друг с другом. Когда Линичук предложила мне кататься с Ильей, я очень долго отказывалась, потому что помнила наши отношения с первым партнером. Мы ведь любили друг друга и именно из-за этого ругались на льду. Шлейф домашних проблем тянется на тренировку, а спортивные разборки – домой. Типа: раз ты не вынес мусорное ведро, я не буду делать поддержку... Но Линичук настояла. Короче, мы стали кататься вместе с Ильей, и тогда же начался наш роман.

А свадьба у вас была?
– Мы расписались через год. Нам поступило предложение кататься за Израиль,
и, чтобы быстрее получить гражданство, лучше было оформить официальный
брак. И хотя позже мы это предложение отвергли, расписаться успели. Происходило
это очень быстро и смешно. Илья, как всегда, опоздал – это у него карма
такая по жизни, а я, пунктуальная, пришла вовремя. Стояла на улице, ждала
его. Наконец он приехал – на грязной машине, в грязных штанах (менял по
дороге проколотое колесо), схватил меня за руку, и мы влетели в загс.
Конечно, без свидетелей. А нам говорят: «Не положено». Смотрим, там уборщица
моет полы, а электрик лампочку закручивает. Попросили их, они расписались
где надо. Поскольку бракосочетание наше было спонтанным, мы даже в кругу
родных никак это событие не отметили. Бабушка Илюшина узнала о том, что
мы стали мужем и женой, только через пять лет после того, как мы расписались,
– из телевизора…
«Моя боль уже утихла»
Как развивались ваши отношения в браке?
– Первые 6 лет были сложные. Мы часто ссорились, причем все больше по
пустякам. Представьте себе нашу жизнь: и встаем вместе, и ложимся вместе,
и на тренировки едем вместе, да еще одновременно переносим немыслимые
нагрузки...
Только лет через шесть мы научились разделять работу и дом. Просто твердо
договорились, что, уходя с катка, забываем все, что там было. На льду
мы могли безостановочно препираться, орать друг на друга, бросаться чехлами
от коньков, бывало, даже матюгаться и по окончании тренировки, сняв конечки,
мирно разговаривая, под ручку идти домой. Наши с Ильей отношения я назвала
бы эмоциональнобурными. Мы могли вдрызг, просто в пух и прах разругаться,
а потом, когда мирились, у обоих вдруг просыпалась такая сумасшедшая страсть...
Как Илья воспринял известие о вашей беременности?
—Осознав, что в нашей семье грядет пополнение, Илья занялся зарабатыванием
денег. И голова у него была в основном забита этими проблемами. Не могу
сказать, что он сдувал с меня пылинки. Но если я о чемто просила его,
делал незамедлительно. Мог среди ночи вскочить и побежать в магазин купить
мне чтото вкусненькое.
Роды были сложные, мне пришлось делать кесарево. Обычно из роддома выписывают
на 5-й день, меня выписали на 13-й, причем с открытым швом. Я решила ехать
к маме, она – врач-гинеколог, чтобы она и шов грамотно обработала и чтобы
с ребенком помогла – я ведь не могла даже толком разогнуться. Муж встретил
нас с Мартином из роддома, отвез к моей маме и уехал. И больше к нам туда
не приезжал. Я однажды спросила: «Илюш, а почему ты не приезжаешь?» «А
что я там буду с вами делать?» – ответил он. Такое поведение Ильи резануло
меня сильно. Потом, когда Мартин начал подрастать, ситуация наладилась,
но ненадолго.

Сейчас вы общаетесь?
– Моя боль уже утихла. Теперь у нас прекрасные отношения, намного лучше,
чем когда мы жили вместе. Часто созваниваемся, даже иногда катаемся вместе.
Он во многом помогает мне по работе. Наконец-то он стал чаще общаться
с ребенком, забирает иногда сына к себе. Илья помогает мне деньгами, квартиру
нам с Мартином оставил, обставил ее мебелью и записал на сына нашу квартиру
в Крыму. Он ушел от меня «голый», ничего с собой не взял, кроме сумки
со своими вещами. Это в его характере. Илья всегда делал мне сумасшедшие
подарки – и драгоценности дарил, и машины, и поездки. Да много чего хорошего
происходило... У нас действительно была очень большая любовь. Поэтому
и расставались так больно.
С каким настроением вы живете сейчас?
– 1 ноября была годовщина нашего развода. Я уже пришла в себя, воспряла
духом. Уже посматриваю по сторонам, приглядываюсь к кандидатурам, но еще
ни на ком взгляд не остановила. Любая женщина мечтает, чтобы в ее жизни
был мужчина. Приятно ведь, когда есть ктото, кто тебе дорог, кому ты всегда
можешь поплакаться, как говорится, сопли повесить на плечо. Чтобы просто
подошел, обнял и сказал: «Моя хорошая…» И пусть потом, в конце концов,
усаживается в кресло и читает газету. Пусть. Я не обижусь...
Автор: Татьяна Зайцева
Сайт: Теле-шоу
Дата публикации на сайте: 15.12.2008
Кира Найтли

Кира Найтли родилась в марте 1985 года в Англии (г. Теддингтон, графство Миддлсекс) в результате пари, которое заключили между собой её будущие родители — известные британские актёры Уилл Найтли и Шерман МакДональд. Суть пари состояла в следующем: если Шерман, к тому времени оставившая карьеру артистки и решившая заняться драматургией, продаст свою первую пьесу, то в семействе Найтли появится еще один ребенок. К тому времени у пары уже был сын Калеб, 1979 года рождения. Шерман пари выиграла. В результате британская литература в лице Шерман МакДональд приобрела ещё одного хорошего драматурга, Уилл Найтли — прехорошенькую дочку, а мировой кинематограф — новую звезду, Киру Найтли.

О том, что она будет актрисой, Кира знала всегда. Уже в три года она стала
настаивать на том, чтобы и у неё, как у родителей, появился собственный
агент. А поскольку характер у девочки был упрямым, и просьба звучала часто,
родители сдались. Они пообещали нанять для дочери агента, если та будет
прилежно учиться. Свою часть сделки Кира выполняла добросовестно и старательно
училась. Актриса вспоминает себя отличницей-зубрилкой, которая знала ответы
на все вопросы и всегда первой поднимала руку. Её целью был успех в школе.
Отчасти потому что ей самой очень хотелось преодолеть врожденную дислексию
(нарушения чтения и письма). Но, помимо этого, Кира всеми силами стремилась
к заветной мечте — карьере актрисы. Для этого, кроме учёбы, во время школьных
каникул девочка усердно и подолгу занималась актёрским мастерством.

Начало карьеры
Когда ей исполнилось шесть лет, у неё появился собственный агент, в семь она уже дебютировала в фильме «Royal Celebration» в роли маленькой девочки. К одиннадцати годам в её портфолио значились участие в мини-телесериалах и телешоу, транслировавшихся по европейским каналам, а также небольшие роли в фильмах «Деревенское дело» (1994), «Невинная ложь» (1995), «Искатели сокровищ» (1996) и «Возвращение домой» (1998) с Питером О’Тулом в главной роли.

Сложно сказать, как бы сложилась карьера Киры Найтли дальше, если бы не
её поразительное сходство с Натали Портман, исполнительницей роли Королевы
Амидалы в фильме «Звездные войны: Эпизод I. Скрытая угроза» (1999). Именно
внешнее сходство (поговаривали, что в гриме Киру Найтли и Натали Портман
не мог отличить никто) стало для юной актрисы счастливым билетом в большое
кино. Джордж Лукас пригласил её на роль двойника Королевы — Сабэ. Более
того, на съемочной площадке Кире иногда приходилось подменять и саму Портман.
После выхода фильма этот факт был замечен только опытными специалистами,
остальные уверены, что обе роли — и Амидалу, и Сабэ — сыграла Натали Портман.
Признание
Первая серьёзная роль в британском сериале «Оливер Твист» (1999), роль Лары в сериале «Доктор Живаго», небольшая роль в фильме «Яма» (2001), где Кира Найтли впервые снялась обнажённой, первая главная роль в фильме «Дочь Робин Гуда: Принцесса воров» (2001 г., производство студии Disney). И, наконец, прорыв — одна из главных ролей в фильме «Играй как Бекхэм» (2002), где Кира Найтли сыграла девочку-подростка. Фильм собрал в мировом прокате 76 млн долларов, «отбив» вложенную в него сумму более чем 20 раз, и принес актрисе долгожданную известность.

Признание, слава и популярность принесли с собой поток новых предложений и выгодных контрактов. Учёба в колледже, куда в 2002 г. Кира Найтли поступила, чтобы изучать классику, английскую литературу и историю, оказалась несовместимой с карьерой артистки. Найтли оставила колледж, хотя сказала, что она планирует закончить обучение.

В 2003 г. Кира Найтли сыграла главную женскую роль в «Пираты Карибского моря: Проклятие чёрной жемчужины». Появление на экране в компании блистательного Джонни Деппа и Орландо Блума не только сделало актрису неимоверно популярной, но и вплотную подвело к ступеням голливудского Олимпа. Далее были съемки в «Реальной любви» (2003), «Короле Артуре» (2004), «Пиджаке» (2005), «Домино» (2005) и, наконец, в «Гордости и предубеждении» (2005). За роль Элизабет Беннет в последнем фильме Кира Найтли была номинирована на Оскар как лучшая актриса.
Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/
И ещё:
В 2005 году юная актриса Кеира Кристина Найтли (или Кира Найтли) возглавила сотню самых сексуальных киноактрис, оставив позади и Джулию Робертс, и Анджелину Джоли, и даже саму Мерлин Монро. К двадцати годам ее «послужной список» составил двадцать фильмов – по одному фильму на каждый год жизни. Ее имя стоит рядом с такими звездами, как Джонни Депп, Орландо Блум, Джефри Раш, Микки Рурк и др. Она является официальным лицом ювелирного дома Asprey…

Кира Найтли родилась в марте 1985 года в Англии (г. Теддингтон, графство Миддлсекс) в результате пари, которое заключили между собой ее будущие родители – известные британские актеры Уилл Найтли и Шерман МакДональд. Суть пари состояла в следующем: если Шерман, к тому времени оставившая карьеру артистки и решившая заняться драматургией, продаст свою первую пьесу, то в семействе Найтли появится второй ребенок. Шерман пари выиграла. В результате британская литература в лице Шерман МакДональд приобрела еще одного хорошего драматурга, Уилл Найтли – прехорошенькую дочку, а мировой кинематограф – новую звезду, Киру Найтли.
О том, что она будет актрисой, Кира знала всегда. Уже в три года она стала настаивать на том, чтобы и у нее, как у родителей, появился собственный агент. А поскольку характер у девочки был упрямым, и просьба звучала часто, родители сдались. Они пообещали нанять для дочери агента, если та будет прилежно учиться.

Свою часть сделки Кира выполняла добросовестно: она
училась, училась и училась даже во время каникул. Актриса вспоминает себя
отличницей-зубрилкой, которая знала ответы на все вопросы и всегда первой
поднимала руку. Ее целью был успех в школе. Отчасти потому что ей самой
очень хотелось преодолеть врожденную дислексию (нарушения чтения и письма).
Но, помимо этого, Кира всеми силами стремилась к заветной мечте – карьере
актрисы. Для этого, кроме учебы, во время школьных каникул девочка усердно
и подолгу занималась актерским мастерством.
Старания Киры увенчались успехом. Когда ей исполнилось шесть лет, у нее
появился собственный агент, а в семь она уже дебютировала в фильме «Royal
Celebration» в роли маленькой девочки. К одиннадцати годам в ее портфоллио
значились участие в мини-телесериалах и телешоу, транслировавшихся по
европейским каналам, а также небольшие роли в фильмах «Деревенское дело»
(1994), «Невинная ложь» (1995), «Искатели сокровищ» (1996) и «Возвращение
домой» (1998) с Питером О'Тулом в главной роли.

Сложно сказать, как бы сложилась карьера Киры Найтли
дальше, если бы не… ее поразительное сходство с Натали Портман, исполнительницей
роли Королевы Амидалы в фильме «Звездные войны: Эпизод I. Скрытая угроза»
(1999). Именно внешнее сходство (поговаривали, что в гриме Киру Найтли
и Натали Портман не мог отличить никто) стало для юной актрисы счастливым
билетом в большое кино. Джордж Лукас пригласил ее на роль двойника Королевы
– Сабэ. Более того, на съемочной площадке Кире иногда приходилось подменять
и саму Портман. После выхода фильма этот факт был замечен только опытными
специалистами, остальные уверены, что обе роли – и Амидалу, и Сабэ – сыграла
Натали Портман.
Дальше – больше. Первая серьезная роль в британском сериале «Оливер Твист»
(1999), роль Лары в сериале «Доктор Живаго», небольшая роль в фильме «Яма»
(2001), где Кира Найтли впервые снялась обнаженной, первая главная роль
в фильме «Дочь Робин Гуда: Принцесса воров» (2001 г., производство студии
Disney). И, наконец, прорыв – одна из главных ролей в фильме «Играй как
Бэкхем» (2002), где Кира Найтли сыграла девочку-подростка. Фильм собрал
в мировом прокате 76 млн. долларов, «отбив» вложенную в него сумму более
чем 20 раз, и принес актрисе долгожданную известность.
Признание, слава и популярность принесли с собой поток
новых предложений и выгодных контрактов. Учеба в колледже, куда в 2002
г. Кира Найтли поступила, чтобы изучать классику, английскую литературу
и историю, оказалась несовместимой с карьерой артистки. И Кире пришлось
сделать выбор: она оставляет колледж, чтобы полностью посвятить себя кино.
Правда, сама актриса утверждает, что это временная мера, и она планирует
закончить обучение… когда-нибудь. А пока она будет сниматься. Тем более
что предложения просто сыплются со всех сторон.
В 2003 г. Кира Найтли сыграла главную женскую роль в «Пиратах Карибского
моря: Проклятие Черной жемчужины». Появление на экране в компании блистательного
Джонни Деппа и Орландо Блума не только сделало актрису неимоверно популярной,
но и вплотную подвело к ступеням голливудского Олимпа. Дальше были съемки
в «Реальной любви» (2003), «Короле Артуре» (2004), «Пиджаке» (2005), «Домино»
(2005) и, наконец, в «Гордости и предубеждении» (2005). За роль Элизабет
Беннет в последнем фильме Кира Найтли была номинирована на Оскар как лучшая
актриса.
Кира Найтли не устает удивлять зрителей. Ее роли многоплановы: и аристократка, и спортсменка девочка-подросток, и грозная воительница, и спившаяся официантка, и охотница за головами… Однако, как утверждает сама актриса, ее лучшая роль еще впереди.
Клара Новикова (Герцер)
Дата рождения : 1946, артистка эстрады, родилась в Киеве. В 1968 году окончила Студию эстрадно-циркового искусства в Киеве, работала в филармониях Кировограда, Полтавы и др. городов, в Укрконцерте в Киеве. С 1975 года - в Москонцерте. Участвовала в сборных концертах с исполнением произведений М.Мишина, А.М.Арканова, С.Т.Альтова, М.М.Жванецкого, А.А.Трушкина, играла в эстрадных пектаклях "От Сокольников до парка на метро", "Это было вчера", "Круглая луна", "Он, она и вместе с тем" и др. В 1989 году окончила отделение актеров и режиссеров эстрады ГИТИСа. В 1990 году выступила с программой "Соло для кровати со скрипом", в 1992 году - с программой "Я смеюсь, чтобы не заплакать", котору позже возобновляла под тем же названием, но с новыми номерами. С 1992 года в Московском театре миниатюр под руководством Жванецкого, выступает с программой "Клара Новикова в кругу друзей". Лауреат 5-го Всесоюзного конкурса артистов эстрады (1974). Заслуженная артистка РФ (1993).

Клара Новикова обожает учить уважаемую публику как ей (публике) жить. Делать она эта не сама по ебе, а посредством своего извечного персонажа v тети Сони v и других масок калибром поменьше. Пора, наконец, устранить эту вопиющую несправедливость и дать артистке возможность высказаться от первого лица.
Я САМА
В детстве любимыми игрушками у меня были пистолеты, гвозди, мяч, велосипед, лыжи. Своих кукол я выносила во двор и отдавала девчонкам v они в них и играли. А сама гоняла с мальчишками. Все крыши были мои! Не могу сейчас вспомнить фильма или героиню, под которую мне хотелось бы сделать прическу, или накрасить глаза, или сделать красивыми губы. Помню, моя мама делала глаза или брови, чтобы походить, например, на Целиковскую или Орлову. Я же, когда была девочкой, очень хотела быть похожей на Бабетту, в исполнении Брижитт Бардо. Я не люблю тех, кто жалуется, без конца ищет какой-то поддержки, постоянно плачется: мол, это плохо, то плохо...
Когда я говорю, что живу не благодаря чему-то, а вопреки, я не кривлю душой. Моя планета говорит о том, что я v человек сражающийся и побеждающий. Ничего мне легко не дается, все через борьбу. Я ужасно мало сплю. Мне жалко спать, жалко ничего не делать. Знаете, я сплю с включенным радио v неохота проспать что-то интересное. Я могу при включенном радио читать книгу, делать что-то, но я должна посредством радиоволн успеть выхватить нечто из жизни. Мне катастрофически не хватает времени на ЖИЗНЬ. Добрый человек v я не знаю такой профессии. Мне бы очень хотелось быть по сути своей добрым человеком. Но им трудно быть, тем более что добрый человек иногда должен уметь отстоять себя.
Меня пугает то, что отдает спекулятивностью. Кричат, кричат, а сами тихо переводят деньги в швейцарские банки. Мне это очень не нравится. Я вообще лицемерие в любом виде не понимаю и не люблю. Для меня самое чудовищное в жизни v это хамство. Я сразу теряюсь. Мой патриотизм в том, что я каждый день выхожу на сцену. Если бы я не любила людей, которые здесь живут, я бы не смогла с ними общаться. Ведь я должна с ними общаться непосредственно. Ясно помню детство, в семейные праздники люблю готовить, "как у мамы". Особенно форшмак и знаменитый борщ. Для меня приготовление еды тоже творчество. Обидно, когда его не оценивают по достоинству.
До первой поездки в Израиль у меня не было никакого понятия об еврейской культуре, традициях. Только там я их почувствовала. У меня замирает все внутри, когда меня сравнивают с Раневской.
 |
 |
 |
МОЯ РАБОТА
Мне на все плевать... Я имею право быть самой собой. Если не нравлюсь, не ходите на мои концерты, не смотрите мои программы, переключите меня! Зрители меня знают уже столько лет и, если продолжают приходить на мои концерты, значит, принимают такой, какая я есть. Помимо телевидения, мне сейчас предлагают сыграть в театре, предлагают "Театр у микрофона", это все мне интересно. Это все, так или иначе, сопутствует профессии. Мне кажется, когда человек взрослеет, набирается опыта (я не о себе говорю, я о явлении вообще), он становится интереснее, ярче. Следовательно, расширяется спектр его востребованности.
Я уже не девочка 15-18 лет, не юная актриса... Главное, что мне нужно, это чтобы не возникало вопросов, почему я пришла в театр? Как сказал Михаил Жванецкий: "Над женщиной не хочется смеяться, ее хочется смотреть". Я пытаюсь соединить, чтобы и любоваться женщиной можно было, и смеяться с ней. В моей профессии очень ценится искренность, и я люблю напрямую разговаривать со зрителем. Некоторые актеры выключают свет на концертах, им так удобнее, а у меня свет горит v я хочу видеть каждое лицо, мне так легче. Зрителя все время нужно держать в напряжении v приковывать к себе его внимание. И я подумала: а почему бы не написать книгу? У меня в жизни было много смешного и необычного. Работала над ней полтора года. А точнее всю жизнь.

МОИ МЫСЛИ
Я не люблю игрушечных пупсов, в них есть что-то бесполое. Мне нравится, когда у куклы есть выражение лица. Поэтому я собираю бабок-ежек v только добрых, а не злых, которые готовы сделать гадость. Одухотворенность делает человека самым красивым. Красота v понятие очень относительное. Достоинств у женщин больше, чем недостатков: из ничего они умеют сделать все! Умеют красиво выглядеть. Сейчас взяли бразды правления в свои руки... Я имею в виду женщин, которые умеют себя найти. Мы же все стремимся вырваться из дома, искать себя в профессии, забывая о том, что великое предназначение женщины v родить и воспитать ребенка. И если кто-то не понимает, что родить ребенка v это подвиг, значит, он вообще ничего не понимает.
Главное v не то, что мужчина носит, а как. Любую вещь, мне кажется, нужно уметь носить. Так, например, я купила своему двухлетнему внуку Леве фрак, он надел его, как будто в нем и родился! Приходя на рынок, я людей с Украины узнаю в секунду. По говору! Мне интересно с ними разговаривать, балагурить. Иногда я на рынок прихожу еще и за этим.
Источник: "JEWISH MAGAZINE"
28.02.2008
Ирина Ракшина
Родилась 3 мая 1962 года в г.Петропавловск-Камчатский. В
4 года лишилась матери, а в 12 лет осталась с младшей сестрой круглой
сиротой. От детского дома их спасла соседка, которая оформила над ними
опеку. После 8-го класса, будучи отличницей, поступила в швейное ПТУ,
чтобы освоить хоть какое-то ремесло и смочь выжить самостоятельно. Но
свою детскую мечту стать артисткой не забыла. Окончила ЛГИТМиК в 1986
году (курс И.П.Владимирова) и была принята в труппу театра имени Ленсовета
(С.-Петербургский Открытый театр). После института сразу получила в театре
роль Искры Поляковой в спектакле "Завтра была война". Блистательная
комедийная актриса, исполнительница ролей простушек и хохотушек.
В 2007 году ей была присуждена высшая петербургская театральная премия «Золотой софит» за роль Глафиры Климовны Глумовой в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты» в номинации "лучшая роль второго плана в разделе драматического театра". Почти 25 лет является женой актёра Юрия Гальцева. Актриса много снимается в кино.

Вот ещё один материал об Ирине:
Если на экране даже на пару минут появляется озорное лицо Ирины Ракшиной, зритель моментально начинает улыбаться. Ирина - королева эпизода. У Ирины Ракшиной много заметных ролей в театре им. Ленсовета, где она служит, и в кино. Нас же в ее биографии заинтересовала также нетеатральная работа...
- Ирина, можете ли Вы как профессиональная актриса, объяснить, почему в современном кино так мало ярких запоминающихся лиц?
- Дело в том, что раньше будущих актеров набирали по амплуа, и во МХАТ, например, принимали рослых полногрудых красавиц типажа Татьяны Дорониной. К сожалению, все это ушло, как и многие хорошие традиции в театрах. Я бы сказала, что сегодня в актерской профессии мало лиц, от которых идет некая энергетика, неважно, со сцены или с экрана, когда они завораживают тебя и заставляют вглядываться. Ведь обаяние может быть и отрицательным! Смотришь на такого человека и думаешь: "Надо же! Он "транслирует" мне отрицательное, но так, что все внутри переворачивается!". В результате для зрителя возникает какое-то послесловие, шлейф... Теперь чаще бывает, что вышел актер и ничего нет, даже если он - супер-красавец. По закону психофизики мы воспринимаем и оцениваем внешность ровно две минуты: "Вот это грудь!" или "Вот, это мужик! Какие мускулы!" Но если дальше этого впечатления ничего нет, то публика ничего не почувствует.
- Известно, что Вы не сразу попали в Петербург, а отправились получать актерское образование в Москву...
- Я родом из Петропавловска-Камчатского и изначально действительно поехала поступать в Москву. Выписала по почте буклет из ВГИКа, тогда не знала других театральных вузов и пошла на курс к Т. Макаровой и С. Герасимову. Но после прослушивания мне сказали, что я им не подхожу, так как слишком "старая"!
- Во сколько же лет Вам вынесли такой вердикт?
- В девятнадцать! (Смеется). Оказалось, что они набирали ребят сразу после окончания школы, в возрасте 16, максимум 17 лет. После этого я обошла все театральные вузы Москвы - где-то прошла на второй тур, где-то на третий, но так и не поступила...
- Но Вы не отчаялись?
- Нет. Но решила, что назад не вернусь, сдала обратный билет и по телеграмме уволилась из швейного ателье, где работала.
- А как получилось, что Вы стали швеей?
- Так сложилось, что мы с сестрой рано остались без родителей - мне было 12 лет, и опекунство над нами оформила наша соседка. У нее самой было двое детей, и, тем не менее, она решилась на такой шаг, за что мы очень ей благодарны. После окончания восьмого класса было решено, что я пойду учиться в швейное ПТУ, чтобы скорее получить профессию, как говорится, на "кусок хлеба". Я окончила ПТУ и получила 4-й разряд мастера пошива верхней женской и детской одежды.
- Сколько Вы работали по этой специальности и пригодились ли Вам полученные навыки позже?
- Профессионально я шила около четырех лет, если учесть три года учебы плюс один год работы в ателье, потом, конечно, что-то мастерила для семьи. Сейчас для шитья мало времени, но если мне попадется соответствующая роль, профессию швеи я знаю хорошо!
- Тяжело было выживать в Москве?
- Мне повезло. Тогда вся столица была завешана объявлениями: "требуются иногородние с предоставлением общежития". Я устроилась не по специальности, зато по лимитной прописке - в спорткомплекс Измайлово. Работала уборщицей, помощницей официантки, а жила в общежитии. У меня была комната и хорошая зарплата по тогдашним меркам. Кроме того, с графиком работы два дня через два у меня оставалась масса времени, чтобы ходить по театрам, смотреть все премьеры и еще заниматься в театральной студии.
- А как Вы оказались в Петербурге?
- На следующий год я поступила во МХАТ, к Олегу Ефремову, но вдруг с конкурса привели какую-то другую девочку, а мне предложили остаться вольнослушательницей, без стипендии. Для меня такой вариант был неприемлем, и я, не раздумывая, забрала документы и поехала в Питер. Правда, там я параллельно уже прошла на курс к Игорю Петровичу Владимирову и стала студенткой.
- А как получили роль сестры Джека Восьмеркина?
- Это моя первая большая роль, и если узнают на улице - именно по этой картине. Потому режиссера картины Евгения Макаровича Татарского я считаю своим крестным отцом в кинематографе. Но "сестрой" меня увидела Нелли Ефремовна Баркова - ассистент по актерам группы Татарского, которая ходила на все студенческие спектакли и смотрела все наши дипломные работы. Она меня там и заприметила, а затем пригласила на пробы.
- Вы и Ваш супруг Юрий Гальцев - комедийные актеры, значит ли это, что схожие амплуа притягиваются?
- Думаю, что это лишь совпадение! (Улыбается). Мы с Юрой встретились еще студентами в стройотряде, когда наши актерские дарования еще не были реализованы - мы только начинали учиться. А по поводу юмора, наверное, человек сразу чувствует другого - отзываются они "на одной ноте" или нет.
Беседовала Марианна Николина
Источник: http://lensov-theatre.spb.ru/content/view/66/37/
Елизавета Гилельс-Коган
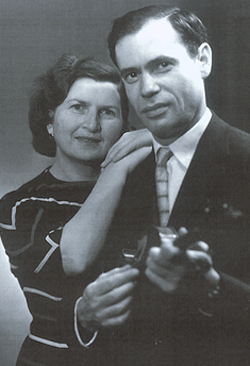 |
|

Лиза Гилельс с братом Эмилем
В 1940 году юный скрипач впервые играл с оркестром сложнейший концерт Брамса. В 1943 году Коган поступил в Московскую консерваторию, а с 1947 года стал солистом Московской филармонии. С этого времени он начал концертировать по стране. Окончив консерваторию в 1948 году, Леонид Коган поступил в аспирантуру к Ямпольскому. В 1949 году он исполнил на концерте за один вечер 24 каприса Паганини, что было большим событием — до него на это никто не отваживался. В 1951 году на международном конкурсе имени Королевы Елизаветы в Брюсселе Л. Коган одержал блестящую победу и занял первое место. О его игре писал вся европейская пресса. Через два года, когда Леонид Борисович приехал на гастроли в Париж, одна французская газета писала: «Сейчас во всем мире мало таких артистов, которые могли бы сравниться с Коганом по техническому совершенству исполнения и по богатству его звуковой палитры». В эти же годы началась широкая международная музыкальная карьера скрипача. В сезон 1956/57 года музыкант выступал с циклом «Развитие скрипичного концерта», в рамках которого в течение шести вечеров им было исполнено 16 различных концертов.
Леонид Коган выступал и совместно со своей женой Елизаветой Гилельс. Они
составили прекрасный скрипичный дуэт, исполняя сочинения Баха, Вивальди,
Леклера, Изаи, Шпора. Для этого дуэта писали музыку советские композиторы
Ю. Левитин, М. Вайнберг и др. В 50–60-е годы прошлого века существовало
замечательное фортепианное трио: Э. Гилельс, Л. Коган, М. Ростропович.
У них был обширнейший репертуар — от Гайдна до Равеля, они часто выступали
за рубежом и их назвали величайшим трио всех времен.
У Е. Гилельс и Л. Когана родились двое детей — в 1952 году сын Павел и
в 1954 году дочь Нина. После рождения детей Елизавета Гилельс стала реже
выступать на концертах, она посвятила себя семье — мужу и детям. Елизавета
Григорьевна преподавала в Московской консерватории, стала профессором
и получила звание заслуженной артистки России. Леониду Когану было присвоено
звание народного артиста СССР (1966), он стал лауреатом Ленинской (1965)
и государственных премий, профессором Московской консерватории, а в 1982
году почетным академиком Национальной академии Италии «Санта-Чечилия».
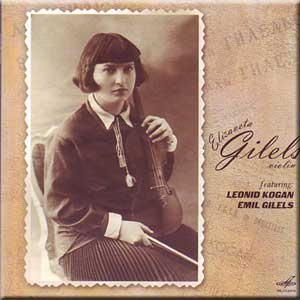
Дочь легендарных родителей Нина, пианистка, училась в Центральной музыкальной
школе (ЦМШ) у А. Сумбатян и Я. Флиера, у которого продолжила обучение
в Московской консерватории. В 1975 году она окончила консерваторию и с
1979 года является солисткой Московской филармонии. С 1967 года она постоянно
выступала со своим отцом в России и за рубежом. «В тринадцатилетнем возрасте
я в первый раз поехала с папой на гастроли, — вспоминает Нина Леонидовна.
— Позже, когда я почувствовала, что кое-что могу, вошла в основной репертуар.
Самый замечательный был последний период, когда он играл только со мной.
Конечно, я не могла достигнуть его уровня, но я хорошо его понимала. Это
было уже немного партнерство». В 1979 году Нина Коган стала лауреатом
международного конкурса имени М. Лонг и Ж. Тибо в Париже. К сожалению,
Леонид Коган рано скончался (в 1982 году), и дуэт отца и дочери распался.
Но Нина Коган продолжала выступать по всему миру: в Карнеги-холл и Avery
Ficher Hall в Нью-Йорке, залах Бостона, Стокгольма, Лугано и др. С 1992
года Нина — доцент Московской консерватории, заслуженная артистка России.
У Нины Леонидовны двое детей: старшая дочь Виктория Корчинская-Коган — третье поколение музыкантов семьи. Она начала учиться с пяти лет, а выступила впервые в восемь лет. В 1995 году поступила в Московскую консерваторию в класс профессоров Л. Власенко и С. Доренского. С 13 лет широко концертирует в России и за рубежом. В 1998 году Виктория стала лауреатом XI Международного конкурса имени Чайковского. В настоящее время она успешно выступает в Европе, США, Корее и других странах.
Младший сын Нины Коган — Даниил Милкис — родился в 1993
году в Канаде. Его отец — известный кларнетист Юлий Милкис. Даниил начал
учиться игре на скрипке с шести лет в ЦМШ в классе профессора М.С. Глезаровой,
которая когда-то учила и Павла Когана, будучи ассистенткой Ю.И. Янкелевича.
Дебют мальчика состоялся в Нью-Йорке, когда ему было восемь лет. Он был
отобран для участия в концерте на саммите «большой восьмерки», проходившем
в июле 2006 году в Петергофе. Сейчас Даниил уже концертирует в различных
странах, хотя ему всего 15 лет..
Павел Коган, сын Елизаветы Гилельс и Леонида Когана, учился в Московской
консерватории как скрипач в классе профессора Ю.И. Янкелевича, но с юности
был одержим дирижированием. Он окончил второй факультет консерватории
у педагога и музыканта Лео Морицевича Гинзбурга.
Семнадцать лет назад Павел возглавил Московский симфонический оркестр, который за эти годы превратился в один из лучших музыкальных коллективов страны. Его сын Дмитрий, скрипач, — третье поколение династии Гилельс–Коган. Дмитрий родился в 1978 году и с шести лет занимался в ЦМШ.. Затем он продолжил обучение в Академии имени Сибелиуса в Хельсинки в классе российского скрипача Игоря Безродного, а после смерти учителя — у профессора Т. Хаапанена. В 15 лет Павел Коган впервые выступил с оркестром. В 1998 году он стал солистом Московской филармонии. В настоящее время Павел Леонидович выступает с сольными программами и ведущими оркестрами мира в лучших концертных залах. У него много записей на CD и DVD. В 2006 году скрипач был удостоен международной премии «Da Vinci» в области музыки.
***
На концерте в Музее изобразительных искусств им.. А.С. Пушкина выступили
музыканты второго и третьего поколений великой семьи. Виктория Корчинская-Коган
играла мазурки Шопена и фантазию Листа на тему «Вальса» из оперы Гуно
«Фауст». Виктория — прекрасная пианистка: с одной стороны, виртуозная,
а с другой — глубокий лирик. Труднейшая фантазия Листа прозвучала легко,
элегантно и блестяще, а мазурки — тонко, с нежным рубато. Затем выступил
юный скрипач Даня Милкис, ему аккомпанировала его мать Нина Коган. Исполнялись
виртуозные пьесы Сарасате, Венявского, Крейслера и сложный «Танец с саблями»
А. Хачатуряна. Нина Коган не просто аккомпаниатор, а большой музыкант
и, по существу, сотворец, когда она играет с другими музыкантами. Так
же вдохновенно Нина играла когда-то со своим отцом.. Мне не раз приходилось
слышать дуэт Леонида и Нины Коган.. И всегда это было глубоко, проникновенно
и подчинено замыслу композитора. Мне кажется, что юного Даниила Милкиса
ждет большое будущее — по своему темпераменту он напоминает молодого Леонида
Когана, своего деда.
В конце концерта выступил и другой внук Леонида Когана — Дмитрий Коган. Это яркий и талантливый скрипач, для него характерны глубокое осмысление исполняемой музыки и прекрасный тон скрипки. Аккомпанировала Дмитрию его мать — Любовь Казинская, окончившая Академию музыки им. Гнесиных, опытный музыкант. Более тридцати лет она проработала концертмейстером в ГИТИСе, Финской опере, консерватории Хельсинки. Вместе с Дмитрием Коганом они сыграли более 100 концертов. В музее были экспрессивно исполнены «Чакона» Т. Витали и виртуозно «Румынские танцы» Бартока и «Рэгтайм» Джоплина.
Легендарная семья Е. Гилельс и Л. Когана, в которой музыкальный талант перешел уже в третье поколение, — уникальна по своему вкладу в музыкальное искусство.. Семейный концерт оставил чувство радости, благодарности, восхищения. Хочется выразить огромную признательность устроителям фестиваля «Черешневый лес» и особенно Эдит Иосифовне Куснирович за возрождение забытого жанра семейных концертов. Следует надеяться, что эта замечательная идея найдет поддержку в других творческих организациях и залах Москвы.
Автор: Яков Коваленский
Источник: http://alefmagazine.com/issue979.html
Автор благодарит Н.Л. Коган за предоставленные материалы и фотографии
из семейного архива